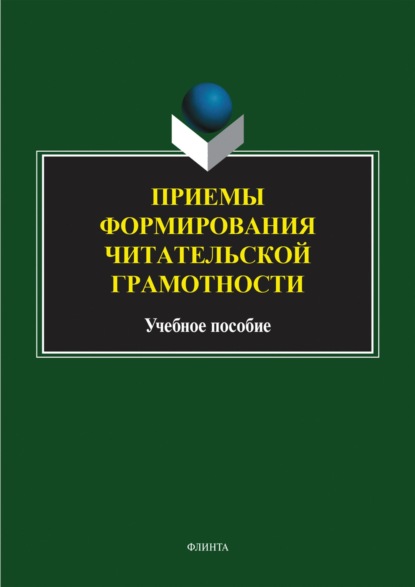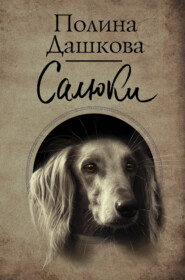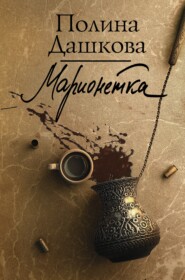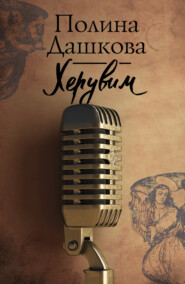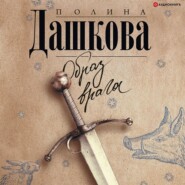По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Место под солнцем
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Папа покупал коробки с лото, пленки с диафильмами.
– Оленька, ты хочешь мороженого?
– Мороженое есть вредно. От него болит горло.
– Ну один раз можно, сейчас ведь тепло, – уговаривал капитан Гуськов свою пятилетнюю дочь в Парке культуры.
Она не возражала, осторожно, крошечными кусочками откусывала твердый пломбир, тщательно растапливала во рту, прежде чем проглотить.
– Ну, вкусно тебе? – спрашивала мама.
– Спасибо, очень вкусно, – кивала девочка без всякой улыбки.
На каруселях, в комнате смеха, где все отражались в кривых зеркалах и взрослые хохотали до упаду, ребенок оставался серьезным.
– А чего вы хотите? – пожимала плечами бабушка Ива вечером на кухне, когда капитан нервно расхаживал из угла в угол, а его жена курила у открытого окна и старалась не смотреть на мать. – У ребенка режим, ребенок развивается правильно, без баловства и всяких глупостей. Она уже умеет читать по слогам, знает сложение, вычитание, не клянчит сладости и игрушки. В коллективе у нее со всеми ровные товарищеские отношения, воспитатели ею довольны, никаких конфликтов, никаких болезней и простуд. Что вам еще надо? Если вас не устраивает, как я воспитываю ребенка, – пожалуйста, забирайте, таскайте по своим казармам и баракам.
Родители кипели, но быстро остывали. Увозить ребенка из Москвы, из теплого чистого дома неразумно. Через два года в школу. И вообще у Иветты Тихоновны педагогическое образование, а они… какие они педагоги? Даже если ребенок будет жить с ними в гарнизоне, все равно не останется времени на воспитание. Оба заняты по горло.
Мысль о том, чтобы поселиться в Москве, оставить мужа одного, видеть его только раз в году и быть рядом с дочерью, воспитывать ее по-своему, Олиной маме в голову не приходила.
В семьдесят девятом грянула афганская война. Первого сентября восемьдесят первого военный «газик», в котором ехали капитан Николай Гуськов и его жена, старший лейтенант медицинской службы Марина Гуськова, подорвался на мине под Кандагаром.
Семилетняя Оля Гуськова, в белом фартучке, с тремя красными гвоздиками, шла в первый класс. О том, что у нее больше нет родителей, она узнала только через месяц. Она еще не могла понять, что это значит, слишком маленькой была, слишком редко видела маму с папой, не успела к ним привыкнуть. Но плакала бабушка Ива, и это было так странно и страшно, что у Оли по щекам сами собой покатились слезы.
Во втором классе Оля услышала, как какая-то девочка из восьмого сказала о ней:
– Потрясающе красивый ребенок!
Вечером Иветта Тихоновна пришла забирать ее с продленки.
– Бабушка, я красивая? – спросила Оля.
– Глупости какие! – фыркнула бабушка.
По дороге она рассказала Оле старинную якутскую сказку про девочку со странным именем Айога. Девочка ничего не делала, только смотрела на себя в круглое медное зеркальце и повторяла: «Айога красивая», а потом превратилась в утку, улетела в ледяное северное небо, и долго еще звучал в тундре ее жалобный, крякающий крик: «Айога красивая…»
– Значит, красивой быть плохо? – спросила Оля, выслушав сказку.
– Плохо об этом думать, – ответила бабушка, – плохо считать, что ты чем-то лучше других. Ты не лучше и не хуже. Такая, как все.
Оля училась на пятерки. На переменах стояла у подоконника и читала. Ее называли паинькой, с ней было скучно. Летом бабушка отправляла ее в пионерский лагерь. Оля и там умудрялась незаметно ускользать из сложного мира детских отношений.
Она делала все, что требовали вожатые и педагоги, маршировала на линейках, убирала территорию, спала в тихий час. Если ее приглашали принять участие в концерте, посвященном открытию или закрытию лагерной смены, она охотно соглашалась и выразительно декламировала со сцены клуба стихотворение Некрасова «Школьник» или отрывок из поэмы Твардовского «Василий Теркин».
– У этой девочки родители погибли в Афганистане, осталась только бабушка, – шептались в задних рядах вожатые, педагоги, поварихи.
– Бедный ребенок! Надо же…
– А хорошенькая какая! И послушная, спокойная…
К четырнадцати годам Олю уже не называли «хорошенькой». Про нее говорили: удивительно красивая девочка. Она слышала это со всех сторон. На фоне ровесниц, переживавших переходный возраст с его прыщиками, неуклюжестью, тяжелыми комплексами, Оля Гуськова казалась инопланетянкой, сказочно прекрасной, отрешенной от низменных земных проблем.
Ей было безразлично, как она выглядит и как ее воспринимают окружающие. Она жила в своем замкнутом, никому не понятном и не доступном мире. Обращать внимание на собственную внешность, придавать ей какое-то значение – фи! Это постыдно, мелко, недостойно.
Она ни с кем не дружила. Хотела, но не получалось. Ей было интересно общаться только на высоком духовном уровне. В семнадцать она рассуждала об агностицизме Канта, неогегельянцах и Кьеркегоре, мечтала уехать в сибирскую деревню, учить крестьянских детей, выполнять некую святую миссию, суть которой сама не могла толком понять и сформулировать. То она хотела принести себя в жертву добру и справедливости, осчастливить человечество, стать сестрой милосердия где-нибудь в холерной глуши черной Африки, то готовилась принять монашеский постриг, то всерьез рассуждала о необходимости разумного террора по отношению к мировому злу.
В голове у нее образовалась такая путаница возвышенных идей и великих целей, что разговаривать с ней было невозможно, даже о Канте. Посреди разговора она могла замолчать на полуслове, встать, уйти, ничего не объясняя.
По Канту, любой человек является непознаваемой «вещью в себе». Он одновременно не свободен как существо в мире конкретных явлений и свободен как непознаваемый субъект сверхчувственного мира. Оля Гуськова была субъектом совершенно свободным и непознаваемым. Никакой объективной реальности, никаких конкретных явлений она не признавала, в упор не видела. Она могла ходить летом и зимой в драных кроссовках и не замечала этого, могла питаться одной лишь духовной пищей, запивая ее жидким несладким чаем или просто водой, заедая хлебной или сырной коркой – что под руку попадется.
После десятого класса она решила поступить на философский факультет университета, первые два экзамена сдала на «отлично», на третий опоздала, перепутала день, на четвертый вообще не явилась, так как решила отправиться на Вологодчину, где при маленьком монастыре жил в скиту столетний старец. По каким-то сложным духовным причинам побеседовать с ним сейчас же, сию минуту, о вечном и высоком было важнее, чем тянуть экзаменационные билеты и писать сочинение про противного глупого Базарова, который резал лягушек.
Иветта Тихоновна переживала в это время глубокую личную драму – уход на пенсию. Для нее это казалось концом жизни, она не могла представить себя в роли просто старушки, а не ответственного работника народного образования. За внучку она была спокойна. Оля, по ее компетентному мнению, развивалась правильно, никогда не болела, школу закончила на пятерки, много читала, молодыми людьми и шмотками не интересовалась. Ну что еще нужно?
В университет Оля поступила только через три года. До этого она работала в библиотеке, ездила по монастырям, продолжала жить в собственном сложном и странном мире, в котором православие переплеталось с дзэн-буддизмом, древний китаец Конфуций мирно спорил с Николаем Бердяевым, колготки были всегда рваными, на свитерах спускались петли, обувь протекала, а сине-лиловые глаза светились таинственным космическим светом.
Безумие бабушки Ивы ворвалось грубой реальностью в этот путаный, непонятный, но в общем счастливый мир, потребовало от Оли ответственных решений, бытовой суеты, собранности, колоссального терпения и, наконец, просто денег.
Оля не нашла ничего лучшего, как обменять двухкомнатную квартиру на однокомнатную. Ей объяснили, что старческое слабоумие не лечится, только прогрессирует и самостоятельно она с бабушкой не справится.
Оля решила, что на вырученные от обмена деньги можно нанять какую-нибудь добрую женщину для ухода за бабушкой и спокойно доучиться в университете. Однако найти такую добрую женщину она не сумела, а деньги кончились очень быстро. Просто взяли и кончились.
Оля кое-как сумела наладить нищий быт в однокомнатной квартире, подрабатывала после занятий – то уборщицей, то почтальоном. Заработок получался копеечный, но на большее Оля рассчитывать не могла. Ее сокурсники торговали в ночных ларьках, продавали вечерами в метро газеты. Само слово «торговля» вызывало у Оли тошноту. Случалось, что к ней обращались с разными «серьезными» предложениями, но все это при ближайшем рассмотрении тоже сводилось к торговле, причем не газетами и «сникерсами», а собой.
Прошел год, Оля успела приспособиться к бабушкиной болезни, створки сложного внутреннего мира опять замкнулись, защищая от грубой реальности. Она осталась все той же «вещью в себе», нищий хлопотный быт отнимал у нее время и силы, но душу не задевал. Она смирилась с тем, что бабушка больна и никогда не поправится. Однако тут нагрянула другая беда, стихийное бедствие, мировая катастрофа: Оля Гуськова влюбилась.
Когда двадцатитрехлетняя студентка философского факультета, «свободный непознаваемый субъект» с томиком Ницше и православным Молитвословом в потертом рюкзачке, в джинсах, которые порваны на коленках не потому, что это модно, а потому, что все равно, с лицом сказочной принцессы, душой схимницы и мозгами революционерки-анархистки влюбляется впервые в жизни, да еще в женатого, богатого и легкомысленного человека, это действительно катастрофа.
* * *
– Ну, говорите, я слушаю, – устало вздохнула Катя, – вам, наверное, нечего теперь сказать. Все кончилось, Глеба нет больше.
Она уже хотела нажать кнопку отбоя на своем радиотелефоне, но услышала тихий мужской голос:
– Прости, это я.
– Паша? – Ее голос заметно дрогнул.
– Я просто хотел спросить, как ты себя чувствуешь?
– Спасибо. Нормально.
– Ты одна сейчас?
– Нет, я не одна, – зачем-то соврала Катя. – Скажи, пожалуйста, что произошло в театре между тобой и Глебом?
– Ничего особенного. Твой муж был недоволен, когда увидел меня в буфете. Он подошел и высказал мне все, что думает по этому поводу. Я не стал ему отвечать, как всегда. Он разозлился еще больше, попытался меня ударить. Он был пьян и не соображал, что творит. Я перехватил его руку, вмешались несколько человек. Его успокоили и увели.