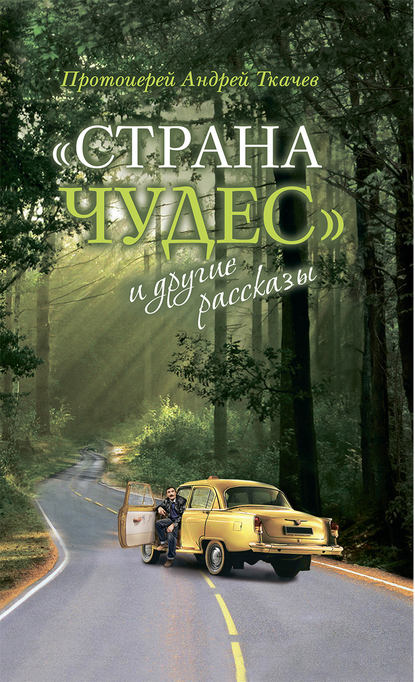По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
«Страна чудес» и другие рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пока один выкладывал на тумбочку апельсины, другой рассказывал о новостях в храме, о том, что прихожане молятся о больном священнике, что на последней службе причастников было так много, что пришлось причащать из трех чаш. Отец Василий пытался улыбнуться, пытался придать лицу выражение заинтересованности. Но у него это плохо получалось. А мы были слишком глупы и слишком «добродетельны», чтобы понять простую вещь: элементарное человеколюбие требует, чтобы мы немедленно ушли. Ушли и оставили человека наедине с болью, со стонами, рожденными болью, с мыслями о смерти, с молитвами, произносимыми шепотом. Но мы тогда исполняли заповедь «болен был, и посетили Меня», поэтому сидеть собирались долго, хоть это и мучило больного.
Когда новости были рассказаны, а молчание стало тягостным, я, словно дополняя меру благочестивого безумия, брякнул: – Вы, отче, здесь молитесь?
Он повернул голову в мою сторону и посмотрел на меня таким же теплым взглядом, как смотрел мой дед, и сказал тихо: – Без молитвы, сынок, можно с ума сойти.
Эти слова стоят дорого. Очень дорого. Я часто перетряхиваю пыльный хлам воспоминаний и не могу похвалиться, что в архивной папке с надписью «Былое и думы» у меня много таких сокровищ.
И я любил отца Василия. Любил потому, что он был похож на покойного дедушку. Такой же высокий, смуглый, крепкий в кости. С открытой душой и красивым лицом. Любил потому, что молился он как-то особенно искренне. Настолько искренне, что даже попы (а попы редко хвалят попов, уж поверьте мне) говорили о нем: «Он с Богом разговаривает». Правда, тут же, рядом, они не забывали вспомнить, что видели его как-то в Великую Пятницу пьяным и что бывает он временами груб и так далее. Все это произносилось «как бы» не в осуждение, а беспристрастной правды ради; и не со злобой, а с чувством объективности и со вздохом: мол, все мы грешные. Но образ отца Василия в моих глазах не мерк и не загрязнялся. Зато те, кто это говорил, в моих глазах становились ниже, словно слазили со стульчика на заднем плане групповой фотографии.
Ну и что, что видели его пьяным? Его и с сигаретой могли увидеть. Но дедушка мой тоже курил, а люблю я его от этого не меньше. Он курил по полторы-две пачки сигарет без фильтра, которые назывались «Аврора». Он курил их одну за одной и поминутно повторял краткую фразу, смысл которой я уразумел много лет спустя, после его смерти. «Господи Иисусе Христе, прости мою душу грешную», – говорил мой дедушка. Даже за однажды сказанные эти слова я простил бы ему все выкуренные сигареты, а он не однажды, а постоянно твердил их шепотом.
Отец Василий был лучшим священником, которого я знал. И обидный кошмар ситуации заключается в том, что я почти не знал его, вернее, знал очень мало. Он любил Почаев, потому что при Польше учился там в семинарии. Каждый год по нескольку раз он ездил туда помолиться. Однажды я бегал после службы в автобусную кассу ему за билетом, а билетов не было, и я вернулся взмыленный и ужасно расстроенный. Он тогда улыбнулся и сказал: «Ничего. Попрошу сына, он завезет».
Выходя после литургии на улицу и видя нас, пономарей, заваривающих чай в пономарке, он спрашивал: «А что будет после ча-а-а-ю?» И сам же отвечал: «Воскресение мертвых».
Однажды на вечерней службе, когда была его череда служения, я читал Шестопсалмие. Потом вошел в алтарь, и он похвалил меня за то, что читал я громко и четко выговаривал слова. А потом разговорился, стал вспоминать монахов, которых знал, говорил, что они самые счастливые люди, если только по-настоящему монашествуют. А я, говорит, всю жизнь хотел и Богу, и жинке угодить. Вот умирать скоро, а и Богу не угодил, и жинка вечно недовольна.
Еще вспоминал, что один старый монах в Почаеве говорил ему после окончания семинарии: «Вот, Васенька, доброму тебя научили, плохому ты сам научишься».
Вот вроде бы и все, что я знаю. Этого мало, чтобы любить человека. Мало в том случае, если любишь «за что-то». А если не «за», а просто, тогда – очень даже много. Да это и не все. Я помню, как он крикнул на людей во время проповеди. Они шушукались, а он треснул по аналою своей широкой ладонью и гаркнул: «Горе имеим сердца!»
И еще рассказывал, как на первом своем приходе в селе на похоронах стал слезливо завывать по обычаю местного духовенства. Стал говорить о том, что покойник жил с женой душа в душу, что в семье у них был мир, что у всех разрываются сердца от боли при мысли о прощании с ним и т. п. А потом, уже по дороге с кладбища, какая-то женщина старшего возраста сказала ему, что, дескать, нес он полную чушь, и всем было стыдно слушать, и первый, кто с облегчением после смерти покойника перекрестился, была его жена. И я, говорил отец Василий, с тех пор навсегда прекратил брехливые и слезливые проповеди рассказывать.
Точно! Подтверждаю и свидетельствую. Ни брехливых, ни слезливых проповедей он, в отличие от многих, не рассказывал!
Тех, кто непременно умрет, из больницы стараются выписать. Чтобы не увеличивать смертную статистику. Поэтому отец Василий умирал дома.
Я был у него еще раз, но уже один. Был недолго, потому что мучился укорами совести после того посещения в больнице. Я даже держал его за руку, а он, не стесняясь моим присутствием, шумно вздыхал и иногда охал. Потом я услышал: «Да сколько же еще, Господи. Или туда, или сюда». Потом опять раздался звук глубоких и нечастых вдохов и выдохов.
Путь «сюда» ему уже был заказан.
А через несколько дней он ушел «туда», в «путь всея земли», в неизвестную и грозную вечность, где ждет его Бог, Которому он так и не угодил, куда провожают его рыдания жены, которая всю жизнь была недовольна.
И мы хоронили его как положено, и это были, кажется, первые похороны священника в моей жизни. Первые похороны священника были похоронами лучшего священника в моей жизни.
Я так много узнал тогда.
Он был облачен в полное облачение, которое, как выяснилось, нужно приготовить задолго до смерти. Ему закрыли лицо воздухом. Оказывается, потому, что священник лицом к лицу годами разговаривал с Богом, как Моисей. А Моисей, сходя с горы, закрывал лицо куском ткани, чтобы евреям не было больно смотреть на исходившее от него сияние.
И в руках у него был не только крест, но еще и Евангелие, которое он должен был всю жизнь проповедовать. И на самом погребении из Евангелия читалось много-много отрывков, перемежаемых молитвами и псалмами, а похороны были долгими, но ничуть не утомительными. И мы несли его на плечах вокруг храма под редкие удары колокола и пение Страстных ирмосов, таких протяжных, таких грустных и одновременно величественных. «Тебе, на водах повесившаго всю землю неодержимо, тварь, видяще на лобнем висима, ужасом многим содрогашеся…»
Я бы наверняка всплакнул, если бы не помогал нести гроб. Но гроб был тяжел, а идти нужно было в ногу, и плакать было невозможно.
Сколько лет прошло с тех пор? Да немногим меньше, чем количество лет, вообще прожитых мною к тому времени. То есть я без малого прожил еще одну такую же жизнь с тех пор. С тех пор я видел очень много священников. И хоронил многих. Причем и обмывал, и облачал многих собственноручно. Это дико звучит, но я люблю молиться об усопших священниках, люблю ночью читать над усопшими иереями Евангелие. Они входили во святое святых. Они носили льняной ефод. Они совершали ходатайство о словесных овцах. Царство им всем Небесное. Но отец Василий до сих пор остается в моей душе как лучший священник. И это, как ни крути, хоть что-нибудь, но значит.
Я думаю даже, что малый объем моих знаний о нем – тоже благо. Ну, знал бы я больше, ну общался бы с ним дольше, что из этого? Увеличение фактических знаний само по себе ни к чему не приводит. И сами факты без интерпретации совершенно бесполезны. Они никогда и никому ничего не доказывают. Они просто лежат перед тобой, как куча камней, которую не объедешь, и каждый таскает из этой кучи то, что ему нравится.
Факты могут мешать, мозолить глаза, заслонять собою суть событий. Они могут пытаться переубедить душу, разуверить ее в том, что она угадала и почувствовала.
Что-то почувствовала моя душа в этом священнике, который чем-то был похож на моего покойного дедушку. И того, что я знаю о нем, мне вполне хватает, чтобы по временам говорить: «Упокой, Господи, душу раба Твоего» – с таким чувством, что молишься о родном человеке.
Помогите Иисусу Христу!
В одном большом селе, где была одна церковь и два магазина, возле клуба на доске объявлений появился плакат: «Помогите Иисусу Христу!» Плакат был написан от руки тушью на большом куске ватмана. Внизу приписка: «Сбор добровольцев в 16.00 во дворе храма», а в правом верхнем углу мелкими буквами: «Срочно всем, всем, всем!»
Уже в половине четвертого во дворе церкви было людно. Пришло много женщин с едой и лекарствами. Они шептались между собою о том, что Иисус, быть может, пришел опять на землю. И какое счастье, что именно к ним. Может быть, Он голоден или болен? Каждая готова была взять Его к себе в дом, разве что боялись мужей. Еще бы! Эти грубияны не читают Евангелие, а по воскресеньям идут не в храм, а на охоту или рыбалку.
Впрочем, и мужчин собралось немало. Они несли в тяжелых и загорелых руках кто винтовку, кто тесак, кто топор. Быть может, думали они, Христу нужны наши сильные руки?
Ровно в четыре дверь храма со скрипом открылась и наружу вышел священник. Народ замер и, вытянув шеи, желая разглядеть за спиной у пастыря готовящегося выйти Господа. Но за спиной была лишь открытая дверь и полумрак церкви.
– Люди, – сказал священник громко, – слушайте!
Народ замер. Все дышали в полвздоха, и, если б можно, перебили бы всех коров, как раз замычавших на дальнем выгоне.
– Вы знаете сами, и я говорил вам об этом часто, – продолжил священник, – что Господь наш Иисус Христос покорил мир, но не мечом, не огнем, не деньгами и не интригами. Он покорил мир любовью и проповедью. Ангелы удивлялись этому и просили: «Разреши, мы накажем грешников». Но Господь отвечал: «Нет, потерпите». Тогда Ангелы сказали: «Дай и нам возможность проповедовать и быть за это увенчанными». Но Господь сказал: «Это сделают люди». Содрогнулись Ангелы и в страхе сказали: «Но ведь люди слабы и непостоянны. Они болеют и умирают. Слаба их память, и мягкое у них сердце». Но Господь сказал: «Я верю людям. Я Сам стал человеком. Потрудятся Петр и Павел. Потом придут другие». После этого Ангелы больше не спрашивали, а Господь больше не отвечал. Но Его очи и очи Ангелов с тех пор смотрят на землю внимательно.
Голос священника зазвучал громче:
– Кто из нас готов помочь Иисусу Христу разнести по Вселенной Его Евангелие?
– Далеко ли нужно идти и на каком языке проповедовать? – спросил один из стариков.
– Для начала, – ответил священник, – простите друг другу долги, помиритесь с обидчиками и покайтесь, если кто утаил чужое или изменил жене!
Шум пробежал меж людей, как рябь пробегает от ветра по поверхности озера.
– Потом мы объявим пост и будем усердно молиться. Выберем способных юношей и отправим их учиться языкам, чтобы затем пойти во все страны с проповедью. Мы будем помогать тому из нас, кто болен, научим всех петь псалмы. Затем закроем кабак…
На слове «кабак» шум мужских голосов перекрыл голос священника.
– Ты обманул нас, отец. Мы пришли помочь Самому Иисусу, а видим тебя и слушаем то, что ты по воскресеньям рассказываешь нашим женам.
Мужики, ворча и поругиваясь, стали медленно расходиться. Некоторые досадно сплевывали.
– Но ведь Бог благословит наши пашни. Ваши дети будут здоровы! – закричал священник. – Все жители Неба о нас порадуются…
Мужчины медленно, но уверенно расходились. За ними потянулись женщины. Через десять минут площадь перед церковью опустела. Мычали коровы, кричал петух, но голоса их никого не раздражали.
Священник вошел в алтарь. Весь тот вечер и ночь он пролежал перед престолом опустив на землю лицо. Он прослужил в том селе еще лет пятнадцать. На его глазах и через его сердце прошли крестины и похороны, неурожаи, болезни, падеж скота, драки соседей из-за передвинутой межи. Служить и молиться он любил. Только вот никогда с тех пор больше не проповедовал.
Потом его куда-то перевели. Люди повздыхали, пожалели и забыли. Потом и Бог забыл село. Оно как-то скисло, поредело, а затем исчезло. Забылось даже имя села. Да и как ему не забыться, если ни район, ни ближайший город, ни сама страна, где все произошло, ни у кого не удержались в памяти.
Попутчик
Если путешествовать нечасто, то дорогу я люблю. Есть в ней что-то честное и на саму жизнь похожее. Из одной точки выехал – во вторую еще не приехал. И так хорошо в этом зависшем состоянии смотреть в окно, грустить и думать. Я говорю о поезде. Потому что если самолет, то это быстро и всегда чуть-чуть страшновато. А если машина, то это уже труд, а значит, не до философской грусти и не до размышлений. Единственное, что мне по-настоящему мешает, это говорливые попутчики. Я согласен на не открывающиеся окна и сырые простыни, лишь бы в пути меня никто не трогал. Но лучше готовиться к худшему, чтобы потом быть приятно удивленным, чем мечтать о своем и разочаровываться. Поэтому и в тот раз я вошел в вагон, нашел свое купе и, энергично рванув ручку двери, сказал: «Здравствуйте». Ни одна пара глаз на меня не уставилась. Царица Небесная! Никого! До отправления минут шесть-семь, а в купе – никого, и сам вагон – полупустой.
Вещей у меня всегда минимум, поэтому положил я свой тощий портфель на полку, повесил на плечики пиджак и, разувшись, удобно сел у окна. Поезд уже тронулся. Уже наступил момент, когда неясно: ты едешь – или состав напротив начал двигаться. Я ждал проводника, чтобы отдать билет и попросить чаю. Дверь с силой открылась, и вместо проводника в купе вошел запыхавшийся мужик лет сорока и, так же, как я, выпалил: «Здравствуйте». Он осмотрелся, нашел глазами номер своего места и затем втащил в купе два внушительных чемодана. Настроение мое слегка упало, но уже через минуту оно опустилось до нуля. Попутчика сразу стало много. Он прятал вещи, переодевался, расстилал матрас и делал это так, что мне казалось, я знаю его и вижу перед собой не первый месяц.