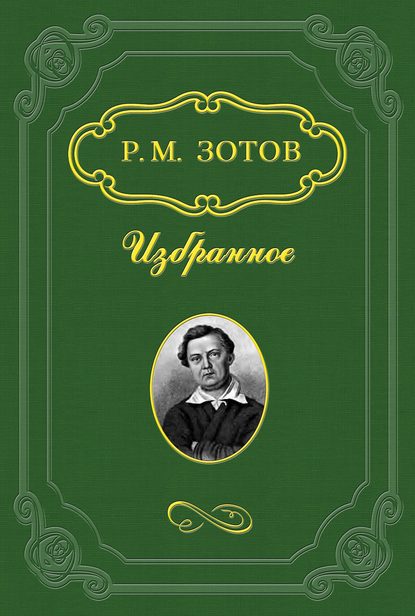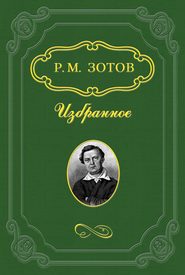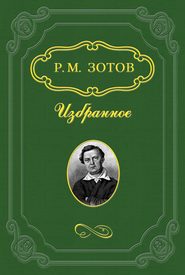По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Два брата, или Москва в 1812 году
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Полковник, с своей стороны, спешил принять все меры к строгому исполнению воли своего императора. Часовые были поставлены у дверей жилища братии, а когда началась вечерня, то и в самой церкви между прихожанами и алтарем расставлена была цепь часовых, которые, разумеется, беспрестанно говорили между собою, смеялись и нарушали божественную службу.
На другое утро московские жители принесли монахам съестных припасов, и тут произошли, разумеется, ссоры и неудовольствия. Только чрез руки часовых могли перейти эти припасы, и большею частью оставались у них. Когда же москвичи, видя этот грабеж, хотели унести назад свои припасы, то французы отняли у них все.
Пустынник пошел к полковнику и, объясняя ему все происшедшее, спросил у него, нет ли, может быть, приказания императора, чтоб уморить всю обитель с голода.
Насмешливо взглянул на него полковник и сказал, что хотя император и не давал подобных приказаний, но что ему очень мало нужды до продовольствия русских монахов. А как главная забота каждого начальника состоит в продовольствии своих солдат, то очень естественно с его стороны, что он будет брать припасы везде, где ему попадутся.
Пустынник, не отвечав ни слова, пошел к настоятелю. Тот собрал свою братию и объявил им о замысле врагов.
– Теперь, друзья мои, делать больше нечего, – сказал он им. – Вы должны все оставить монастырь. Я каждому из вас дам свидетельство, что только голодная смерть принудила вас покинуть свою обитель, и вы везде будете приняты… до тех пор, пока господь освободит от врагов и святую Русь, и нашу обитель.
Все приступили к нему, чтоб и он с ними удалился.
– Нет, дети мои! – с печальною твердостию отвечал он. – Чувствую, что мне и без того не долго жить… Что же значит несколько дней раньше? Нет! я остаюсь! но вы должны в последний раз повиноваться моей воле. Вы должны удалиться. Завтра священный день коронования нашего августейшего монарха. Совершив соборно последнюю литургию, проведем весь день в молитве о спасении царя и святой Руси, а ночью вы уйдете через подземный ход.
Все принуждены были повиноваться. Один пустынник, а за ним вместе и Саша решительно объявили, что не оставят настоятеля. Никто из них и не воображал, что неожиданное событие разрушит все их распоряжения.
Поутру большой колокол созвал всех прихожан к обедне.
Они пришли с многочисленною толпою. Зная, что в тот день нет никакого праздника, они догадались, что звон большого колокола означает что-нибудь особенное. Вскоре в церкви сделалась большая теснота, и французские часовые только ударами сабель могли удержать народ. Они потребовали себе подкрепление, но как полковник в это самое время уехал по делам службы к дивизионному генералу, то старший по нем и велел занять всю ширину церкви плотною шеренгою солдат.
Началась обедня, и больной настоятель, поддерживаемый братиею, громогласно объявил народу, что это последняя служба, потому что неприятели решились их уморить голодною смертию, если братия останется в монастыре, и в эту же ночь все удалятся отсюда. От этих слов произошел в народе сильный ропот и волнение. Часовые догадались, что настоятель говорил не молитвы, и тоже зашумели, требуя, чтоб он не смел обращаться к народу. А чтоб понимать речи его, солдаты потребовали себе молодого офицера из варшавского легиона, недавно прикомандированного и исправлявшего везде должность переводчика. Тот явился и, будучи очень недоволен своим назначением, сел спиною к алтарю. Между тем обедня продолжалась, но шум и беспорядок ежеминутно возрастали. Солдаты, зная, что строгого их полковника нет дома, нагло смеялись над пением и обрядами и заставляли поминутно варшавского офицера переводить возгласы настоятеля. Народ же, видя это кощунство и наглость, волновался и шумел с своей стороны.
Наступала священная минута выноса. Настоятель возгласил августейшее имя государя императора, и этою минутою враги воспользовались, чтоб оскорбить святыню и народ. Услыша наименование Александра Павловича, они вдруг громогласно потребовали, чтоб настоятель возгласил имена Наполеона и супруги его с сыном. Настоятель, не обращая внимания на дерзкие их вопли, продолжал свои возгласы и, окончив, хотел удалиться в царские двери, но несколько солдат выскочили из рядов и остановили его. Приставя сабли к груди и повернув его опять к народу, они потребовали, чтоб он непременно возгласил Наполеона. Народ взволновался, и шеренга французов принуждена была повернуться к нему, выставя острия сабель. Произошел ужаснейший крик и смятение. Над головою настоятеля блеснуло уже несколько сабель, офицер объявил ему, чтоб он для спасения жизни своей поспешил возгласить Наполеона. Тогда настоятель Гавриил поднял священный сосуд над головою, а другую руку простер вперед, требуя всеобщего молчания.
Все мгновенно повиновалось.
– Друзья и дети мои! – воскликнул тогда к народу больной архипастырь. – Помолитесь господу о мне грешном. Я же под остриями вражеских сабель возглашаю вместе с вами и со всею Россиею: Здравие и долгоденствие благоверному и великому государю нашему императору Александру Павловичу и всему его августейшему дому. Спасение и победу православному нашему воинству и святой вере над дерзким пришельцем! Смерть и проклятие врагам святой Руси!..
Это было последним его словом. Несколько сабель блеснули и вонзились в великодушного старца.[3 - Несколько сабель блеснули и вонзились в великодушного старца. – В основу положен подлинный факт героического поведения священника Сретенского монастыря, о чем также рассказано в «Походных записках русского офицера» И. И. Лажечникова.] С судорожным стоном опустил он святую чашу, крепко прижал ее к устам своим и к груди и тихо опустился на землю. Удары продолжались на него сыпаться и вскоре прекратили жизнь его и страдания. При последнем своем вздохе открыл он глаза, умирающею рукою благословил беснующуюся толпу убийц своих и тихо прошептал:
– Господи! прости им! не ведают бо, что творят[4 - Рассказ об этом поступке был напечатан в журнале «Сын Отечества». 1813 года.].
Убийство настоятеля было сигналом всеобщей ярости. Безоружная толпа народа с криком устремилась на убийц, и началась рукопашная схватка. Несколько солдат бросились было из церкви, чтоб позвать своих товарищей, но народ успел уже запереть все двери, и тогда злодеям оставалось только дорого продать свою жизнь. Саша, забыв свою рану, был предводителем всей толпы, и пустынник бросился, чтоб спасти его и отомстить за настоятеля. Но – увы! – из первых жертв отчаяния врагов пал и этот великодушный старик. Удар вражеской сабли висел над головой Саши, пустынник как молния бросился на злодея. Удар обрушился на него, и несчастный пал, обливаясь кровию. С воплем отчаяния бросился к нему Саша, но великодушный дядя, обняв его в последний раз, шепнул: «Беги! беги в подземелье. Именем матери приказываю тебе! прости и вспоминай обо мне». Разорвав шеренгу французов напором всей толпы народа, легко уже было справиться с отдельными солдатами, которым теснота мешала действовать. Сперва каждый был обезоруживаем, а потом собственным же его оружием предаваем смерти; тела убитых народ клал в виде очистительной жертвы подле настоятеля и пустынника. Вместе с Сашею отличался деятельностию и ожесточенностию староста из гостиного двора. Через четверть часа все французы пали, и староста предложил отворить дверь и силою пробиваться сквозь неприятелей, потому что снаружи уже слышен был барабанный бой, созывавший солдат, которые по крикам и запертым дверям догадались, что с их товарищами что-нибудь случилось.
Но Саша вспомнил подземелье и велел всем спешить к опускной двери. Все бросились туда с зажженными свечами. Саша и староста были последними, но когда Саша начал звать старосту, то тот очень спокойно отвечал ему, чтоб он один удалился.
– Я остаюсь здесь, – сказал мужественный купец. – Я построю над телом праведника могилу, которая будет достойна его и нас. Ступайте скорее и не оставайтесь вблизи монастыря. Бегите по Владимирской дороге. У Гончаровой найдете вы некоторых моих товарищей. Скажите там, что я уже не ворочусь, но что я свое дело сделал.
В эту минуту грянул выстрел из орудия и влетел в церковь. Не успев отворить двери, французы подвезли одно орудие и решились несколькими выстрелами уничтожить это препятствие. Саша спешил скрыться в подземелье, захватив под лестницею и свиток, а староста, сойдя вместе с ним в первый подвал, в котором несколько окон выходили на двор, вылез в одно из них, около которого не видно было французов.
Уходя из церкви, староста взял с собою кадильницу с горящими угольями и с этим странным оружием пробежал незаметно небольшое пространство, отделявшее зимнюю церковь от главной соборной. Тут с удивительною ловкостию взлез он на одно из дерев, осеняющих храм и распространяющих свои густые ветви над крышею его. Достигнув крыши, он расположился у одного из окон, которые окружали свод. Сильным ударом руки разбил стекла этого окна и просунул свою голову, чтоб посмотреть во внутренность церкви.
Внизу стояло более ста пороховых ящиков и около них с беспечностию ходил часовой. Услыша звук разбитых стекол, часовой взглянул наверх и увидел бородатую голову старосты, с любопытством осматривавшего внутренность.
– Э, э! приятель! что это значит? – закричал он ему. – Уж не ворваться ли хочешь? высоконько забрался. Оттуда ничего не возьмешь.
– Бормочи, проклятая нехристь! – сказал про себя староста. – Вот я те заставлю сделать прыжок.
Тут он уселся на крыше у самого окна и начал раздувать уголья в кадильнице; когда от них показалось маленькое пламя, он начал поддерживать его сухими веточками с дерева, близ коего сидел, и таким образом развел небольшой огонек; стоящий внизу часовой не мог видеть его занятий, но ему видно было, что бородатая голова все еще тут сидит. Он уже хотел выйти, чтоб крикнуть кого-нибудь, как вдруг сверху из окна полетели вниз пылающие сучья на пороховые ящики, и в то же мгновение показалась опять голова старосты, который с любопытством смотрел на действие своей выдумки. Часовой обомлел от страха – и бросился бежать, крича со всех сил: помогите! помогите! На крик его сбежалось несколько солдат, которые, разломав наконец двери зимней церкви, были поражены изумлением и яростию, не найдя в ней никого, кроме убитых своих товарищей. Почти знаками объяснил им часовой причину своего ужаса. Все прибежали к дверям своего порохового магазина и со страхом увидели, что бородатая голова продолжает бросать сверху горящие сучья на пороховые ящики, посматривая, скоро ли они загорятся. Все солдаты с криками ужаса разбежались – один часовой мужественно бросился между ящиками, не успевшими прогореть, и начал разбрасывать пылающие ветви.
– Проклятый басурман, – сказал староста, – постой же… я тебя погрею; тут он снял с себя кафтан, потом рубашку и, зажегши ее, бросил пылающую сверху. Часовой не мог разглядеть, что именно было брошено, но он видел в воздухе целую массу огня, летящего вниз, и, с воплем отчаяния ухватясь за близстоящий ящик, решился тут умереть. Действительно, горящая рубашка обхватила один ящик… прошла ужасная полминута, которая казалась и старосте и часовому целою вечностию, и вдруг струя дыма взвилась кверху, церковь зашаталась, раздался оглушающий треск, стены раздались и с грохотом опрокинулись на воздух, производя жалобный неявственный звон, весь монастырь превратился в развалины, посреди которых стонали раздавленные французы.
Саша и монахи успели в это время выбраться из подземелья и бежали к ближайшей роще. Некоторые бродящие французы, увидя их, бросились было за ними в погоню, но земля заколебалась, раздался оглушающий взрыв, и вся окрестность покрылась летящими каменьями и пылью. Саша первый догадался тогда, зачем староста остался, и продолжал бежать по направлению Владимирской дороги. Вскоре, однако, рана его и утомление принудили его остановиться. Он просил всех, чтоб они оставили его и продолжали путь, но большая часть осталась для охранения его.
Впрочем, все вскоре увидели, что в эту минуту опасно было идти далее, – ужасный взрыв встревожил все французские корпуса. Отовсюду были видны скачущие отряды; все спешили к развалинам монастыря; все бросились отыскивать несчастных своих соотечественников и ужаснулись зрелища, которое им представилось. Не только люди и члены их были на куски разорваны, но даже самые кости были раздавлены силою удара и тяжестию, на них упавшею, Только немногие кончали еще жизнь в жесточайших мучениях, но их напрасно расспрашивали… Бессвязные ответы их ничего не сказали. Русские… подожгли порох.
Вот все, что можно было узнать. Нашли наконец и труп старосты, ужаснейшим образом изуродованный и держащие еще в одной руке кольцо паникадила, а в другой – медный крест, висевший на шее. Тем и кончились все розыски.
Уже в сумерки пустились опять в путь Саша с своими товарищами и, идя вдоль опушки леса, наткнулись к утру на казачий пикет. Их опросили и пропустили далее. Чем далее теперь они шли, тем чаще попадались им русские отряды, и беглецы должны были всем рассказывать свое положение. Это утомило Сашу. Он кое-как достал себе телегу, купил офицерскую шинель и фуражку и, простясь с своими товарищами, отправился во Владимир.
Там хотел он отдохнуть и докончить лечение своей раны, но весь город был завален московскими выходцами. Не было ни квартиры, ни даже продовольствия. Только успел он купить себе полную офицерскую одежду и в этом виде, надев свой драгоценный крест, поехал далее, расспрашивая везде о местопребывании русской армии.
Через два дня езды он почувствовал, что рана его разболелась и лихорадка снова вступает в прежние свои права. Это его испугало. Остановясь в одном селе, прилегающем к богатой усадьбе, он послал спросить помещика, не может ли он принять к себе на одни сутки раненого офицера. Вместо ответа сам помещик прискакал верхом и самым радушным образом звал к себе Сашу. После нескольких фраз благодарности Саша поехал с ним и был принят с отверстыми объятиями.
Помещик этот был капитан Иван Васильевич Воинов. Молодость свою провел он, по тогдашнему московскому обычаю, по гостям. Когда он дожил до законного тридцатипятилетнего возраста, то ему сосватали московскую барышню, имевшую тысячу душ, что и составило с его именьем более двух тысяч. После этого каждый догадается, что они жили весело и пользовались всеобщим уважением. Главная усадьба их была между Владимиром и Калугою. В Москве же был каменный дом на Мясницкой.
Уже 5 лет прошло, как Иван Васильевич был отцом семейства. У него было четверо ребят; жена его была молода и прекрасна, мужики ее были зажиточны; поля давали всегда благословенный урожай; в лесах было много дичи и зайцев, на сворах у него была целая стая отличнейших гончих и борзых… Одним словом, он был самый счастливый человек! В начале лета быв приглашен предводителем дворянства во Владимир, он очень удивился, когда услышал там манифест об ополчении и узнал о мерах, принятых Москвою для отражения неприятеля. До этой минуты он даже и не знал, что Наполеон вступил в Россию. Принимая к себе почти ежедневно деревенских своих соседей, он однажды навсегда объявил им, что терпеть не может газетных разговоров, а потому он только вскользь слышал о войне с французами. Впрочем, и воротясь из Владимира он недолго занимался политическими новостями. Крестьяне были сданы в ополчение, и все пошло по-прежнему. Каково же было его изумление, когда он вдруг узнал, что Москва взята! Это известие решительно ошеломило его. Сперва он не верил тому, но беспрестанные беглецы из Москвы уверили его наконец в печальной истине, потом дошел до него слух, что Москва горит, и он с прискорбием почесал затылок. Ведь у него был дом на Мясницкой! С тех пор он прилежно занялся политикой и каждый день выезжал на большую дорогу, чтоб узнать от проезжих, далеко ли французы. Он уже начинал побаиваться и за свою усадьбу.
Приезд Саши был для него истинною находкою. Офицер, раненый, бежавший из Москвы!.. Он был в восторге и почти на руках принес его к своей Софье Ивановне, прямо в спальню. Та сперва испугалась, потом смутилась, потом удивилась, а наконец успокоилась. Саша начал извиняться по-французски за себя и за Ивана Васильевича, а против французского языка нельзя было устоять… Софья Ивановна редко его слышала. Благоверный супруг ее учился, правда, смолоду у какого-то мусье, но это было так давно, что он позабыл все, что знал. А знал ли он что-нибудь и тогда? – осталось тайною между ним и мусье. Кое-как выжила Софья Ивановна нежданных гостей из спальни и отправила в гостиную. Тут начались расспросы, и такие, что Саша часто и не знал, что отвечать. Иван Васильевич был просто дитя природы, дюжий, высокий, здоровый, веселый, но, по общественным познаниям, принадлежавший к веку допотопных людей.
– Кто этот Наполеон? правда ли, что он антихрист? Правда ли, что скоро будет преставление света? правда ли, что Москва загорелась от дыхания Наполеона? правда ли, что с ним пришли какие-то чудовища, у которых по семи голов и по сту рук, – и тому подобное.
Саша кое-как отделался от него общими фразами, на которые Иван Васильевич всякий раз восклицал: скажите пожалуйста! Наконец пришла Софья Ивановна, успевшая надеть шелковое платье розового цвета, в котором она 5 лет тому назад делала визиты. Тут Саша отдохнул и снова обратился к ней с французскими фразами. Это было несколько досадно Ивану Васильевичу, но делать было нечего. Надобно же было и жене доставить наслаждение, которого она так давно была лишена. Притом же он чувствовал, что русские его вопросы будут худо клеиться к французскому разговору, а как он всегда уверял, что понимает по-французски, только-де сам не может говорить, то и вслушивался рассеянно в быстрый разговор жены своей с Сашею. Наконец, однако же, немая роль ему наскучила: он придумал очень умную штуку. Покуда жена его тут, так надо притворяться знающим французский язык и потому надобно было удалить ее.
– Послушай, Сонечка, – сказал он ей очень ласково. – Куда же мы поместим нашего милого, дорогого гостя?
– Да, я думаю, всего лучше в диванную, друг мой, – отвечала жена.
– Ну, так ты бы похлопотала, похозяйничала… Вели девкам приготовить все как следует…
– Помилуйте, Иван Васильевич! – вскричал Саша. – Разве можно беспокоить Софью Ивановну? Я никак не соглашусь… Я уеду… Вы и так приняли меня самым дружеским образом. Я не знаю, как благодарить вас… Отведите мне где-нибудь темный уголок… Я солдат – мне ничего не надобно. Я спал и на биваках – на сырой земле, а под головою – бревно…
– Ah, mon Dieu! – вскричала Софья Ивановна, и разговор между ними опять продолжался по-прежнему на французском диалекте.
Видя, что невинная его хитрость не удалась, он придумал другое. «Пусть же теперь болтает с ним жена, а я заберусь к офицеру, когда он пойдет в свою спальню. Там уж он от меня не увернется. Да и жена туда не придет». Так он подумал и, не сказав ни слова, сам пошел хлопотать о помещении Саши.
Когда Софья Ивановна осталась одна с гостем, разговор сделался живее и откровеннее. Софье было 24 года; перед нею был прекрасный молодой офицер, раненый и с крестом. Сколько причин, чтоб смотреть на него самыми нежными глазами. И Саша, с своей стороны, был не застенчив на взгляды и нежности. Он даже решился спросить ее: каким образом судьба могла соединить такую прелестную и образованную женщину с человеком, который так далек от нее во всем! Она покраснела и пожала плечами. Тут он рассказал ей о вопросах, которые Иван Васильевич ему сделал, и Софья чувствовала, что Саша прав.
Не более четверти часа был Иван Васильевич в отсутствии, и в это время какая-то симпатия уже очень близко соединила сердца Софьи и Саши. Они еще ничего не говорили друг другу о внезапных своих чувствах, но оба догадывались, что чувства эти взаимно разделяются… Отчего бы, кажется, так скоро? Ведь это почти неестественно!.. Извините!
С одной стороны, уединенная деревенская жизнь, молодость и врожденное кокетство, а с другой – французский язык непременно должны были произвесть это действие.
По возвращении мужа Софья Ивановна, как бы из жалости к нему, заговорила по-русски, и словоохотливый Саша с живостию и быстротою рассказал все свои подвиги от Бородина до взорвания монастыря. Мужу более всего понравился крест Саши. Он с уважением подошел к нему и поцеловал.
– Счастливый молодой человек! – сказал он с чувством. – Рука Кутузова дала вам этот крест, и это дело великое.
– О! я получу гораздо более! – с легкомысленностию отвечал Саша. – Дайте мне только вылечиться и приехать в армию…