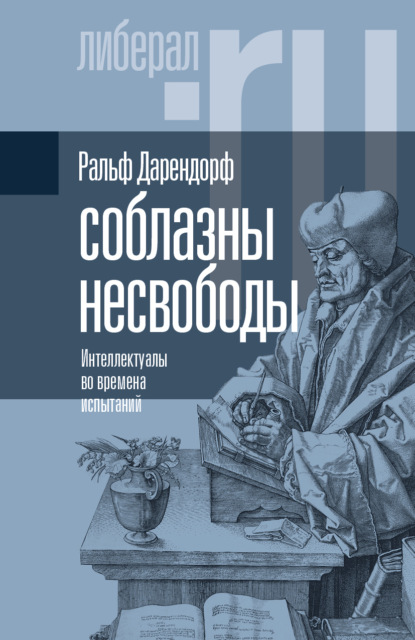По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Соблазны несвободы. Интеллектуалы во времена испытаний
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Никто из тех, чьи слова мы здесь приводим, не сохранил надолго свой энтузиазм начала 1930-х гг. Все они еще до того, как избавились от веры в Гитлера или Сталина, испытывали сомнения. Высказывания, цитируемые выше, по большей части двусмысленны и сопровождаются оговорками. Значит ли это, что мы не должны слишком строго судить людей, на время поддавшихся соблазнам эпохи? Ответ зависит от многих факторов и обстоятельств: в таких вещах нужна точность. Он зависит, в частности, от того, как долго человек был одурманен, а также от того, что он под влиянием дурмана не только говорил, но и делал. От причин его последующего обращения и формы запоздалого раскаяния. От того, находились ли сами энтузиасты, начавшие швырять камни, в стеклянном доме. Но прежде всего – от ответа на вопрос, противоположный тому, который поставлен нами в начале главы. А именно: кто в эти кризисные годы сумел устоять перед соблазнами?
Этот вопрос обсуждается в настоящем исследовании. Не все в ту пору повели себя так, как пресловутые «жертвы марта» 1933 г., очень рано, хотя с некоторым опозданием, прыгнувшие в уходящий поезд нацистов. Не все мыслили так, как левые идеалисты 1920-х и 1930-х. Не все уподобились многочисленным оппортунистам и идеалистам, которых мы выборочно рассматриваем ниже. Напротив, нашлись сильные умы, обнаружившие иммунитет к искушениям. А раз так, у нас есть право – и мы им воспользуемся – перевернуть наш исходный вопрос (почему столь многие позволили себя одурманить) и попытаться понять, почему некоторые все же не поддались ни одному из соблазнов несвободы. Чем именно они отличались от идеалистов и оппортунистов? И, более того, можно ли считать этих людей хранителями либерального образа мыслей во времена испытаний?
Этот вопрос важен еще и потому, что соблазны несвободы, знакомые нам по первой половине XX в., были, вероятно, не последними в своем роде. Нельзя утверждать, что мы непременно вернемся к фашизму или коммунизму. В столь конкретной форме история повторяется редко. Однако каждый шаг на пути Просвещения, по-видимому, рождает контрпросвещенческую реакцию. Огромной свободе, распространившейся в открытых обществах после 1945 г., в ходе trentes glorieuses[3 - Славное тридцатилетие (фр.).][h - Термин «славное тридцатилетие» введен французским экономистом и социологом Жаном Фурастье в 1979 г. для обозначения периода с 1946 по 1975 г., когда в западноевропейских странах и Японии произошли значительные экономические и социальные изменения, позволившие реализовать идеи социального государства и сформировать общество потребления.] – фактически для Западной Европы можно говорить о славном шестидесятилетии – сопутствует огромная нестабильность других обществ, все чаще не находящих опоры в привычных социальных связях. В таких условиях не бывает недостатка в ложных богах, которые порой носят имя истинных. Кто устоит перед обаянием этих богов? В чем вообще заключается тайна либерального образа мыслей, защищающего от соблазнов? Это и составляет предмет нашего дальнейшего исследования и анализа.
2. Речь идет о публичных интеллектуалах
Кто именно подразумевается в нашем вопросе, кому, таким образом, наше исследование посвящено – ясно из примеров, приведенных выше. Это не политические деятели, будь то представители власти или их противники; это и не пестрая масса обычных граждан, которых политики соблазняют и ведут за собой. Это интеллектуалы. Иначе говоря, люди, воздействующие на других своим словом. Они говорят, спорят, полемизируют, но главное – они пишут. Их оружие или, точнее, орудие труда – перо, пишущая машинка, компьютер. Они хотят, чтобы другие люди, как можно больше других людей, услышали или, еще лучше, прочитали то, что они считают нужным сказать. Их призвание – сопровождать происходящее критическими комментариями.
Поскольку интеллектуалы живут писательским трудом, неудивительно, что и о них написано очень много. К тому же они часто грешат сосредоточенностью на самих себе. Упомянутый выше Карл Маннгейм подчеркивал, что интеллектуалы – это люди, не связанные определенным положением в обществе, они «свободно парят» над ним и потому охватывают взглядом панораму, которую не могут видеть другие. Йозеф Шумпетер[a - Йозеф Алоиз Шумпетер (1883–1950) – австрийский экономист, социолог; одним из первых стал изучать экономическую динамику в противовес статическому анализу представителей неоклассического направления.] добавлял к этому способность интеллектуалов критически оценивать сложившиеся общественные отношения, включая отношения внутри их собственной группы. Задолго до Маннгейма и Шумпетера[i - Тексты, использованные в этой главе (наряду с «Коммунистическим манифестом»), извлечены из книг Йозефа Шумпетера и Карла Маннгейма. См.: Joseph Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie; Karl Mannheim, Ideologie und Utopie.] Карл Маркс и Фридрих Энгельс пытались схожим образом объяснить, почему им, буржуазным интеллектуалам, дано проложить дорогу к пролетарской революции. Во времена, «когда классовая борьба приближается к развязке», дерзко утверждали они, господствующий класс разлагается, и часть этого класса отрекается от него, «именно – часть буржуа-идеологов, которые возвысились до теоретического понимания всего хода исторического движения»[1 - Из вступительного раздела «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса: «Буржуа и пролетарии» (коллективный перевод).].
Эту рискованную претензию можно сформулировать более скромно: во времена испытаний интеллектуалы определенного типа более других влияют на ход событий. Поясним смысл этого утверждения применительно к нашему исследованию, отметив два обстоятельства.
Во-первых, здесь имеются в виду не просто интеллектуалы, а лишь те, кого я называю публичными интеллектуалами. Это понятие не вполне однозначно. В словосочетании «непубличный интеллектуал», строго говоря, есть внутреннее противоречие. Пишущий обычно публикует то, что написал, – то есть по определению не может существовать в очерченном, защищенном и, следовательно, частном пространстве. Таким образом, в нашей книге понятие публичного интеллектуала имеет дополнительно акцентированное значение. Речь идет о людях, которые видят свое назначение в том, чтобы быть причастными к доминирующим публичным дискурсам своего времени: определять их тематику и влиять на их направление.
Этому определению не отвечает множество самых разных людей, также называемых интеллектуалами. К публичным интеллектуалам принадлежит не вся интеллигенция, не все clercs в понимании Жюльена Бенда[2 - Подразумевается известная книга Жюльена Бенда La trahison des clercs (1927); в русском переводе – «Предательство интеллектуалов» (2009).][b - Согласно Жюльену Бенда (1867–1956), интеллектуалы – это люди, не преследующие практических целей и видящие свою задачу в сохранении вечных духовных ценностей: справедливости, истины и разума.] – иначе говоря, не все, кого сегодня называют представителями общества знания[c - «Общество знания» – новая форма постиндустриального общества, в которой доминирующей ценностью становится знание. В научный оборот понятие knowledge society ввел в 1968 г. американский ученый Питер Друкер. См.: Друкер П. Эпоха разрыва: ориентиры для нашего быстро меняющегося общества. М.: Издательский дом «Вильямс», 2007.]. Большинство профессоров, хотя они много читают и пишут, не принадлежат к публичным интеллектуалам. Сложнее обстоит дело с поэтами и писателями. По мнению Карла Хайнца Борера[d - Карл Хайнц Борер (род. в 1932 г.) – немецкий литературовед, публицист. Был редактором журнала Merkur, ведущего интеллектуального издания в Германии.], они пользуются публичным – он говорит: «моральным» – влиянием как раз там, где «не ориентируются на философские универсалии», а «делают явными оттенки того, что еще скрыто, что еще не получило словесного выражения». Борер упоминает в этом контексте Себастьяна Хафнера[e - Публикации в России двух книг Себастьяна Хафнера (1907–1999): «История одного немца» (2016) и «Некто Гитлер. История одного преступления» (2017) вызвали широкий резонанс.]. «Яркость и глубина предложенного им изображения человека в обстановке надвигающегося фашизма объясняются полным отказом от использования социологических и политологических понятий и, несмотря на это, умением схватить смысл, который эти понятия стремятся выразить»[ii - Борера я цитирую по сборнику: Der kritische Blick. ?ber intellektuelle T?tigkeiten und Tugenden (Fischer Taschenbuch: Frankfurt, 2002), который издал У.Ю. Венцель (Uwe Justus Wenzel). О?менталитетах (понятии, связанном с?именами Теодора Гайгера и?Мориса Хальбвакса) см.: Noel Annan, Our Age (Weidenfeld & Nicolson: London, 1990), p. 19.].
Конечно, социологи и политологи не обладают монополией в публичной интеллектуальной сфере. В дальнейшем, однако, мы чаще всего будем говорить о философствующих аналитиках, занятых исследованием политики и общества. Это те, кто дает эпохе язык, позволяющий другим людям ее понимать. «Интеллектуалы определяют формы менталитета, свойственные поколению», – пишет Ноэль Аннан[f - Ноэль Гилрой Аннан (1916–2000) – британский писатель; ввел понятие «интеллектуальная аристократия».], используя удачное (заметим, социологическое) понятие. Его слова относятся в первую очередь к публичным интеллектуалам. Этому не противоречит тот факт, что интеллектуалы, как справедливо добавляет Аннан, «образуют множество разнородных враждующих кланов».
Характеризуя понятие «публичные интеллектуалы», мы, вслед за Борером, сочли нужным не прибегать к «философским универсалиям» и предпочесть описания типичных представителей этой группы. Некоторых мы уже назвали; в ходе исследования к ним добавится немало других. Особый интерес для нас будут представлять публичные интеллектуалы, которых можно назвать movers and shakers, то есть сумевшие в определенный момент несомненным и памятным для всех образом привести в движение, встряхнуть тогдашнее общество. Отсюда второе замечание, касающееся темы интеллектуалов. Чтобы понять значение этих людей в обществе, важно учитывать не только их особенное качество (публичность), но и обстановку, в которой они действуют, иначе говоря – ситуацию, на которую они влияют, но которая не всегда поддается их влиянию.
Различие, играющее здесь ключевую роль, – это различие между переломными и нормальными временами. Звездный час интеллектуалов – время глубоких социальных потрясений. На протяжении XX в. таких моментов было более чем достаточно: 1914, 1917, 1933, 1945 – и это далеко не все даты, обсуждаемые ниже. Первая мировая война, русская революция, мировой экономический кризис и его последствия, успехи фашизма, гражданская война в Испании, Вторая мировая война – как минимум первая половина века была временем сплошных потрясений. Вызванные ими «повторные толчки» ощущались долго, почти до конца 1950-х. Затем, однако, начались нормальные времена, по меньшей мере на Западе, в свободном мире. Эти времена тоже нельзя считать безоблачными – но вплоть до крушения коммунизма в 1989 г. глубоких потрясений все-таки не наблюдалось[iii - О «переломных временах и нормальных временах» я более подробно писал в сборнике Wiederbeginn der Geschichte (C.H. Beck: M?nchen, 2004), см., в частности, главу 14.].
Для большинства граждан нормальные времена хороши; недаром послевоенную эпоху называют славными десятилетиями. В публичных интеллектуалах такие времена, напротив, рождают известное замешательство. В переломные времена интеллектуалы необходимы, в нормальные времена – разве что полезны. В момент перелома сами слова, которые его описывают, становятся делами; при нормальном течении событий слова служат не то чтобы прикрасами, но, по большей части, лишь некоторым подспорьем или указанием на возможные частичные коррективы.
То, что публичные интеллектуалы склонны драматизировать ситуации, которые в целом нормальны, имеет причину: это возвышает их представление о самих себе и усиливает значение их слов. В этом заключается смысл и вместе с тем бессмысленность приведенного нами замечания Маркса и Энгельса. Бесспорно, некоторые интеллектуалы – «буржуа-идеологи» или кто-либо другой – в переломные времена особенно ясно провидят если не «весь ход исторического движения», то сиюминутную суть и направление этого движения. Но в том, что время создания «Коммунистического манифеста» действительно было переломным, можно усомниться. Его авторы лишь накликивали кризис, которого не было. Во всяком случае, еще не было: идеи создателей манифеста пришлись ко двору лишь 70 лет спустя. Этот феномен также заслуживает анализа.
С другой стороны, не случайно и то, что громкие имена переломного времени часто принадлежат интеллектуалам. В периоды кризиса они целиком переключаются на общественную деятельность, так что от их принадлежности к интеллектуалам остается лишь воспоминание. Но по мере того как ситуация нормализуется, эти имена блекнут. Их обладатели становятся обычными политиками или обычными интеллектуалами. В связи с революцией 1989 г. можно упомянуть имя Вацлава Гавела, которому, как многим публичным интеллектуалам, переход от одного состояния к другому дался очень тяжело.
Итак, речь пойдет о публичных интеллектуалах во времена потрясений. При этом в поле нашего зрения попадут сильнейшие соблазны, исходившие от фашизма и коммунизма. Почему именно они представляют для нас интерес? Потому что это были соблазны несвободы. Благодаря тем, кто сумел перед ними устоять, мы лучше понимаем, что такое мысль, верная свободе. Иными словами, мы будем говорить о публичных интеллектуалах, которые во времена испытаний не отреклись от либерального образа мыслей.
3. Фашизм привлекал сплоченностью и наличием вождя
Наиболее тяжелым испытаниям в XX в. человечество подвергли фашизм, в первую очередь немецкий национал-социализм, и коммунизм, особенно российско-советский коммунизм, или большевизм. Испытания того и другого рода мы часто будем называть соблазнами, еще чаще – соблазнами несвободы. Это слово выбрано не случайно. «Понятие „соблазн“ указывает на иррациональную составляющую капитуляции перед национал-социализмом», – пишет Фриц Штерн[a - Фриц Рихард Штерн (1926–2016) – американский историк немецко-еврейского происхождения, автор книг, посвященных отношениям немцев и евреев в Германии XIX–XX вв.]. «Капитуляцию» Штерн понимает в том смысле, какой имеет английское surrender, означающее не только «сдачу», но и «отречение от себя». Точно так же многие пошли на капитуляцию перед коммунизмом. Политика несвободы заманивала: она не просто использовала фактор материальной нужды, но и обладала своеобразным обаянием. В чем это обаяние состояло – вопрос, имеющий важное значение.
Фриц Штерн дал на него ответ в обширном эссе «Национал-социализм как соблазн»[i - Статья Фрица Штерна (Fritz Stern, «Der Nationalsozialismus als Versuchung») перепечатана в?книге Der Traum vom Frieden und die Versuchung der Macht (Siedler: Berlin, 1988). Цитируются S. 164, 167, 169, а?также 173 (с?цитатой из Гофмансталя).]. «Соблазн 1933 года заключался в том, что уверовавшие в Гитлера считали его спасителем, который возродит нацию». Штерн упоминает, кроме того, «веру в чудо», в «божественное провидение», вообще «магически влекущую» «религиозно-мистическую составляющую национал-социализма». Далее он характеризует тех, кто нам особенно интересен, – интеллектуалов. Некоторые из них противостояли соблазну, боролись с национал-социализмом, предостерегали или протестовали. Другие верили в национал-социализм, хотя позже отступились от него и на словах, и на деле.
Они подтверждают мое заключение о национал-социализме как сильнейшем соблазне. Идеалисты определенного типа, подчиняясь движению, могли идентифицировать себя с нацией, пестовать в себе чувство ее единства, погубленное в Веймаре, и стоять за дело, требовавшее жертв, – подчинение в этом случае не было продиктовано мелкотравчатым карьеризмом. Люди осторожные уступали соблазну не без оглядки; но идеалисты, становясь национал-социалистами, в силу своего пылкого темперамента целиком отдавались наваждению.
В этом описании можно узнать некоторых интеллектуалов, упомянутых выше, когда мы формулировали исходный вопрос. И здесь же указаны три основных слагаемых соблазна, исходившего от национал-социализма. Первое просматривается за словами «чувство единства», которые говорят о поиске сплачивающей связи. Штерн цитирует Гуго фон Гофмансталя, описавшего смысл «консервативной революции» следующим образом: «Не свободы они хотят искать, а уз»[1 - Цитата из речи Гофмансталя Das Schrifttum als geistiger Raum der Nation («Литература как духовное пространство нации», 1927). «Они» здесь – новое поколение, отказывающееся от свободы ради сплачивающих уз, которые формируют истинную нацию.][b - Ср. в той же речи Гофмансталя: «[Эти искания] должны привести к высочайшей вершине, где дух становится жизнью, а жизнь – духом; иными словами – к политической реализации мира духа, к интеллектуальной реализации политического, к формированию истинной нации. Процесс, о котором я говорю, – не что иное, как консервативная революция такого масштаба, который прежде был неведом европейской истории». Цит. по: Рингер Ф. Закат немецких мандаринов: Академическое сообщество в Германии, 1890–1933. М.: НЛО, 2008.]. Нацисты обещали удовлетворить этот запрос.
Сейчас, спустя годы, странно слышать, что сплоченность общества, да и чувство единства вообще, были «погублены в Веймаре». Разве после Веймара немецкое общество не пронизывали, как раньше, жесткие, едва ли не сословные структуры? Разве немцам не был чужд крайний индивидуализм англосаксов? С другой стороны, разобщенность немцев действительно была одной из тем дискуссий в интеллектуальной среде, возникших после успеха национал-социалистов на выборах. В 1932 г. Теодор Гайгер[c - Теодор Юлиус Гайгер (1891–1952) – немецкий социолог, один из авторов концепции социальной стратификации; был противником национал-социализма, в 1933 г. эмигрировал в Данию, затем в Швецию.] еще верит, что разочарование широких слоев общества, вызванное экономической ситуацией, играет на руку одной – национал-социалистической – партии, которой, быть может, «вопреки тому, что наша эпоха определяется экономикой, удастся преодолеть экономическую обусловленность различных уровней хозяйства с помощью более эффективных связей иного рода»[ii - См. анализ национал-социализма в?книгах: Theodor Geiger, Die soziale Schichtung des deutschen Volkes и Hannah Arendt, Urspr?nge totalit?rer Herrschaft. Речь Хайдеггера о?самоутверждении университета упоминалась выше. Аллюзии, относящиеся к «рембрандтовскому немцу» Юлиуса Лангбена и «рабочему» Эрнста Юнгера, опираются на работу: Fritz Stern, Kulturpessimismus als politische Gefahr. Книга Franz Neumann, Behemoth цитируется по изданию 1942 г. (S. 470).]. В 1951 г. Ханна Арендт уже пишет о «чрезвычайно атомизированном обществе», в котором для положения человека – она говорит: «человека массы» – характерны «изоляция и нехватка нормальных социальных взаимоотношений»[2 - Арендт Х. Истоки тоталитаризма / Пер. с англ. И. Борисовой и др. М.: ЦентрКом, 1996. С. 422.], и считает эту атомизацию общей причиной возникновения тоталитаризма.
Если в речи Хайдеггера о самоутверждении университета можно выделить главную тему, то это тема всеобщей связи, которую он противопоставляет свободе. Фрайбургский ректор считал академическую свободу «неподлинной, основанной лишь на отрицании». «Понятие свободы немецкого студента возвращается теперь к своему истинному смыслу. Из этого смысла в дальнейшем вырастут сплоченность и служение немецкого студенчества». Далее Хайдеггер рассматривает три организационные формы связей, в определении которых можно расслышать отзвуки теорий Платона: «связь в народной общности» через «трудовое служение»; «связь с честью и судьбой нации» через «воинское служение»; «связь с духовной миссией немецкого народа» через «служение знания».
Три вида связей – через народ, с судьбой государства в духовной миссии – для немецкой сущности равноизначальны. Три возникающих отсюда служения – трудовое служение, воинское служение и служение знания – равно необходимы и равно почетны.
Может быть, Хайдеггер имел в виду не совсем то, чего добивались искавшие сплоченности люди из мира, описанного Ханной Арендт и другими авторами, – но он так или иначе указывает на методы, с помощью которых национал-социализм обещал утвердить формы солидарности. С одной стороны, эти методы должны были создать «общность» в строгом смысле понятия, введенного Фердинандом Тённисом[d - Согласно концепции Фердинанда Тённиса (1855–1936), суть «общности» в том, что отношения в ней понимаются как реальная и органическая жизнь. См.: Тённис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии. СПб.: Владимир Даль, 2002.]. Сюда относятся не только сравнительно абстрактные единства, как, например, народная общность, но и в высшей степени конкретные: «ячейки движения» (не случайно получившие такое название), орда, отряд, племя. Характер связей внутри этих единств был, впрочем, таким же искусственным, как лежавшая в их основе идеология крови и почвы. С другой стороны, чувство сплоченности внушалось и «тотальной мобилизацией», организацией масс, гигантоманскими парадами и постановками Альберта Шпеера[e - Альберт Шпеер (1905–1981) – в 30-х гг. личный архитектор фюрера, генеральный инспектор Берлина по строительству.]. Все это было безусловным соблазном для многих людей, вне зависимости от того, насколько атомизированными и потерянными они себя чувствовали прежде. Кстати, соблазном и для интеллектуалов, которым нравились как «культурный пессимизм» немецкой традиции («Рембрандтовский немец»), так и эстетизированные видения тотального порядка («Рабочий»)[3 - См.: Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт / Пер. с нем. А. Михайловского. СПб.: Наука, 2000.].
Если первым соблазном, исходившим от фашизма и национал-социализма, была сплоченность, то вторым – наличие вождя. Любой вариант фашизма непредставим без дуче, каудильо или фюрера. Легко заметить, что ни одна из версий подобного строя не предполагала решения вопроса о преемнике; придумать такое решение было попросту невозможно. В этом одно из отличий фашизма от коммунизма. Единственный вождь был с самого начала олицетворением режима, носившего, таким образом, глубоко ложное название. Франц Нойманн в своей книге «Бегемот» (1942) впервые развил тезис о национал-социализме как псевдогосударстве (Unstaat) – форме принуждения, не опирающейся на какую-либо теорию и организационный принцип, который можно было бы перенести в будущее. «За исключением харизматической власти вождя, нет никакой власти, которая координирует <…> силы, никакого места, где компромисс между ними может быть достигнут на универсальной надежной основе»[4 - См.: Нойманн Ф.Л. Бегемот. Структура и практика национал-социализма 1933–1944 / Пер. с англ. В. Быстрова. СПб.: Владимир Даль, 2015. С. 579. Говоря о некоординируемых силах, Нойманн выделяет четыре основные группы влияния: промышленные монополии, национал-социалистическую партию, армию и государственную бюрократию.][f - Франц Нойманн (1900–1954) был приверженцем Франкфуртской школы и последователем теории государственного права Карла Шмитта, которого чаще других цитирует в своей книге.].
«Харизматическую власть» Гитлера описывали и анализировали сотни, тысячи раз. Она, как мы видели, не оставила равнодушными даже таких жертв режима, как чета Маннгейм. Форма этой власти была обусловлена временем. Сейчас, через два поколения, при просмотре в кино или по телевидению знаменитых в свое время выступлений фюрера, часто нельзя понять, отчего они так сильно воздействовали на современников. По сути, «харизматическая власть» Гитлера была с самого начала апокалиптической. Уникальность вождя и отсутствие приемлемого механизма передачи власти означали, что после него может быть только потоп. В статье «Умереть в Джонстауне» Жан Бехлер описал коллективное самоубийство в Гайане приверженцев так называемого преподобного Джонса – и сделал это настолько проникновенно, что его описание вполне сопоставимо с историей гитлеровской Германии[iii - Следует отметить тонкую статью Жана Бехлера: Jean Baechler, «Mourir ? Jonestown» в Europ?ischen Archiv f?r Soziologie, Jg. XX, Nr. 2 (1979).]. Иоахим Фест[g - Иоахим Фест (1926–2006) – немецкий исследователь Третьего рейха, автор монументальной биографии Гитлера (1973), вышедшей в России в трех томах в 1993 г.] подтвердил анализ Бехлера в своей книге и в фильме, где показано «падение» Гитлера, его последние дни[5 - Имеется в виду изданная в 2002 г. книга Феста Der Untergang. Hitler und das Ende des Dritten Reiches («Падение. Гитлер и крах Третьего рейха»). Фильм Оливера Хиршбигеля, снятый по мотивам этой книги, шел в российском прокате под названием «Бункер» (2004).].
Но в чем заключался соблазн, исходивший от Гитлера-вождя? И, главное, в чем этот соблазн состоял для интеллектуалов? Имеем ли мы здесь дело с какой-то fatal fascination[6 - Фатальная завороженность (англ.).], с чем-то вроде психической болезни? И почему эта болезнь получила особенно широкое распространение в Германии? Вот вопросы, уже не одно десятилетие занимающие историков, социологов и других исследователей. К счастью, большинство ученых отказывается искать ответ в национальном характере. Душа народа мало что дает для объяснения его политического поведения. Не слишком помогает и утверждение, что Веймарская республика была демократией без демократов. Намного важнее тот факт, что в Германии к этому времени имелись лишь ограниченные предпосылки – и то по большей части в определенных регионах – к возникновению уверенного в себе среднего класса, видящего в непредсказуемости жизни и даже в хаотичности человеческих дел возможность для собственного успеха. В представлении же образованных слоев буржуазии и тем более государственных служащих свобода была тесно связана с порядком: когда «беспорядок» демократии и рыночного хозяйства заходит слишком далеко, считали они, нужно приветствовать политика, обещающего восстановить порядок.
Но эти объяснения феномена Гитлера все же не слишком надежны. Более значим третий элемент соблазна, исходившего от национал-социализма, – вера в преображение. Само понятие «харизматический вождь» прямо указывает на его религиозные корни. В Гитлере видели «спасителя», творящего «чудо», и сам он охотно ссылался на «провидение», во имя которого действовал. На «религиозно-мистическую составляющую национал-социализма», как ее назвал Фриц Штерн, обращали внимание часто. Многие рассматривают национал-социализм как «суррогатную религию». В самом деле, фюрер и его режим приводили некоторых идеалистов в состояние, схожее с религиозным помешательством. Йозеф Геббельс, министр пропаганды, был верховным жрецом этой лжерелигии. Ее проповедовала и целая армия более мелких жрецов, влиянию которых поддавались многие люди, утратившие традиционную веру.
С идеей преображения особенно хорошо корреспондирует понятие нации. Фашисты, в отличие от демократов, провозгласили целью своей политики не стремление к индивидуальному счастью, а национальное величие. Величие нации могло становиться наркотиком, заглушавшим и ослаблявшим самые разные фрустрации, начиная с таких сравнительно конкретных, как «мирный диктат» Версаля, и кончая «опоздавшей нацией»[h - Концепт «опоздавшая нация» был проанализирован немецким философом Гельмутом Плеснером (1892–1985) в лекциях «Судьба немецкого духа на исходе его буржуазной эпохи» (1934), опубликованных в 1959 г. под заголовком «Опоздавшая нация. О?политической обольщаемости буржуазного духа» (Die versp?tete Nation. ?ber die Verf?hrbarkeit b?rgerlichen Geistes).], которая-де приходит наконец в себя, то есть совершенно абстрактными мечтаниями. Национальное государство – одно из великих достижений эпохи модерна; оно долго оставалось единственной оболочкой, защищавшей господство права и демократическое самоопределение. Национализм был, напротив, крушением национального государства, его соскальзыванием к идеологии внутренних репрессий и внешней агрессии. В ХХ в. Германия и Италия как раз созрели для ухода на этот ложный путь. Пафос, неотделимый от национализма, апеллировал к иррациональным пластам в сознании людей, упустивших возможность создания национального государства.
Можно было бы упомянуть и другие элементы соблазна – прежде всего манихейское мышление в категориях «друг–враг» и культ силы. Но обещание сплоченности, руководство вождя и идеологема преображения сами по себе являются заманчивой подарочной коробкой, объясняющей, почему многие не устояли перед искушением. Если присмотреться, коробка пуста. Связи, которые сулит создать национал-социализм, существуют по большей части лишь на словах, служа не столько сплочению, сколько оправданию тотальной мобилизации. Руководство вождя не порождает порядок, а сколачивает людей в некую секту, дружно шествующую по пути к апокалипсису. Идея преображения нации – или расы – приводит, как нетрудно убедиться, к возникновению суррогатной религии, но не к преображению как таковому. Фашизм в любой своей версии был чем-то вроде блестящей обертки; действительность же сводилась к голому властному принуждению.
Показательно, что интеллектуалы, уступившие соблазну, отдавались ему, как правило, недолго. Мартин Хайдеггер менее чем через год подал в отставку с поста ректора и вернулся к своей эзотерической философии бытия. В 1946 г. любившая его Ханна Арендт еще писала Ясперсу, что ректор Хайдеггер, ставя подпись под направляемым его учителю Гуссерлю[j - Эдмунд Гуссерль (1859–1938) с 1916 г. был ординарным профессором философии во Фрайбургском университете. С 1919 по 1923 г. Хайдеггер был его ассистентом.] циркуляром с подтверждением запрета на преподавательскую деятельность, показал свою, мягко говоря, бесхребетность. «Поскольку мне известно, что это письмо и эта подпись едва не свели [Гуссерля] в могилу, я не могу не считать Хайдеггера потенциальным убийцей». Двумя десятилетиями позже, когда Хайдеггеру исполнилось восемьдесят, в поздравительной речи Арендт зазвучали совершенно иные ноты: «Теперь же всем нам известно, что и Хайдеггер однажды поддался искушению изменить свое местожительство [читайте: свою позицию] и „подключиться“ к миру человеческих дел». Это было заблуждением, которое, помимо прочего, сослужило ему плохую службу после 1945 г.; но заблуждение длилось всего десять месяцев, а затем философ вновь обрел привычное «местожительство»[j - У Хайдеггера «местожительство» (Wohnsitz) мыслителя, в отличие от других мест мира, где протекает человеческая жизнь, – «место тишины», «отрыв от бытия» (Seinsentzug).]. Мы «сочтем бросающимся в глаза и, возможно, раздражающим», замечает Арендт, что не только Платон, но и Хайдеггер, вмешиваясь в дела этого мира, «ищут прибежище у тиранов и фюреров». Однако это лишь dеformation professionnelle[7 - Здесь: отход от профессии (фр.).] философа, мысль которого, вообще говоря, берет начало не в его веке, а «в незапамятных временах», – так что ошибки, совершенные им в мире, фактически не столь важны[8 - Цит. по: Ханна Арендт – Мартин Хайдеггер. Письма 1925–1975 и другие свидетельства / Пер. с нем. А. Григорьева. М.: Издательство Института Гайдара, 2016. С. 203, 199, 201.]/[iv - Письмо Ханны Арендт цитируется по ее переписке с Карлом Ясперсом (здесь письмо от 9. 7. 1946).].
Слова еврейской подруги Хайдеггера, характеризующие его падение под воздействием фашистского соблазна, звучат странно. Впрочем, эти слова, с поправкой на известную высокопарность, можно применить к целому ряду интеллектуалов, подкошенных мартом 1933 г. Отсюда прежде всего следует, что было не так уж много интеллектуалов, которые и позже, в 1934 г., не говоря о 1938-м и тем более 1944-м, могли считаться правоверными нацистами. Веру к тому времени уже заместило банальное послушание, иногда – верность присяге, а чаще всего – обычный страх. Для жителей описанного нами псевдогосударства с его противоречивой идеологией было характерно скорее попутничество или, более точно, оппортунизм – яркие примеры этого рода мы приведем ниже. Так же обстояло дело в фашистской Италии и Испании. В случае фашизма можно без особого преувеличения говорить о соблазне, обманувшем ожидания. Под конец осталась только несвобода – и насилие, которое ее поддерживало.
4. Коммунизм привлекал сплоченностью и надеждой
«Большевизм и фашизм следуют друг за другом, обусловливают друг друга, друг другу подражают и друг с другом сражаются, но до этого они рождаются из одной почвы: войны; они – дети одной и той же истории»[1 - Ср.: Фюре Ф. Прошлое одной иллюзии. М.: Ad Marginem, 1998. С. 192.]. По мнению Франсуа Фюре[a - Франсуа Фюре (1927–1997), подчеркивая общность черт нацизма и сталинизма, использовал термин «тоталитарные близнецы». Его книга раскрывает причины огромной привлекательности идей Октябрьской революции для европейской интеллигенции.], умного и вдумчивого историка, питательную почву для тоталитарных систем создала Первая мировая война. Впрочем, духовная подготовка тоталитаризма началась гораздо раньше. Она имеет прямое отношение к тому, что подразумевал Ницше, говоря: «Бог умер». В XIX в., согласно Фюре, силой, определяющей человеческую судьбу, стали считать не Бога, а «историю» – и это замещение породило различные folies politiques, формы политического безумия, которые довелось пережить XX веку[i - См.: Fran?ois Furet, Le passе d’une illusion (Laffont/Calmann-Levy: Paris, 1995). Первая цитата – на p. 197; далее глава 4, p. 131, 148.].
Книга Фюре о «великой иллюзии» подразумевает прежде всего коммунизм. Именно в связи с коммунизмом автор особенно часто упоминает «Бога» и «историю». (Фашизм предпочитал говорить о «Провидении» и, кроме того, обожествлял своих вождей.) Одно из важнейших свидетельств о коммунистическом соблазне – и о разочаровании соблазнившихся – сборник исповедей бывших коммунистов, опубликованный в 1949 г. под названием The God That Failed («Бог, обманувший ожидания»). Английское название выражает опыт авторов очень точно: бог, которого они искали, оказался несостоятельным, потому что был ложным богом.
Составитель этого сборника Ричард Кроссман, английский левый интеллектуал и депутат от лейбористской партии, никогда не находил привлекательным мир, описанный авторами. Кроссман был, по словам Артура Кёстлера, «благополучным островным англосаксом, настроенным антикоммунистически». Поэтому он оценивал интеллектуальное «путешествие в коммунизм и обратно» более трезво, чем те, кто это путешествие совершил:
Сначала они видели ее [цель] с большой дистанции – так 130 лет назад их предшественники взирали на Французскую революцию, бывшую для них словно бы видением Царства Божьего на земле; и, как Вордсворт и Шелли, они посвятили свои способности смиренным трудам, способствующим его пришествию. Их не обескураживали ни поражения, обычные для профессиональных революционеров, ни насмешки, которыми их осыпали противники, но когда каждый из них обнаружил огромное расхождение между собственным божественным видением и действительностью коммунистического государства, конфликт с совестью стал невыносим.
Идея преображения, как мы ее назвали, в случае коммунизма выражена гораздо отчетливее, чем при фашизме. Речь и здесь идет о «вере», которая сравнима с религиозной. Из убедительного описания Манеса Шпербера[ii - За исключением цитат из книги Шпербера (Die vergebliche Warnung, S. 44 f., 115) и ссылки на «Святое семейство» Маркса, все цитаты в этой главе почерпнуты из сборника The God That Failed. Я использовал издание Bantam Books (New York, 1951).] (не представленного в томе Кроссмана) хорошо видно, как утрата веры в Бога его отцов – прежде всего собственного отца Шпербера – исподволь подготавливала его к принятию суррогатной религии коммунизма. Артур Кёстлер говорит, что его «обращение» произошло, когда он внутренне созрел, поскольку жил в «распадающемся обществе, которое жаждало веры», и не мог устоять перед «заманчивым новым откровением, пришедшим с Востока».
Тут есть важное отличие от фашизма, заметно усиливавшее религиозный характер веры интеллектуалов в коммунизм. Наличие вождя, которым, среди прочего, соблазнял фашизм, в коммунизме замещает более абстрактная, более стойкая сила истории, и прежде всего – сила надежды. Фашизм был идеологией настоящего, коммунизм – идеологией будущего. Хотя почти все ранние приверженцы коммунизма позволяли себя дурачить потемкинскими деревнями, которые им показывали во время интуристовских поездок в Советский Союз, реальный социализм все-таки был (еще) не обетованной землей, а в лучшем случае первым шагом на пути к земному раю.
Надежда при этом опиралась на своеобразную уверенность, поскольку была для обращенных не просто желанием построить лучший мир, а верой в историческую неизбежность его возникновения. Это происходит, по словам Фюре, когда в «истории» видят заместительницу Бога. Идеальное, прекрасное общество непременно будет создано, поскольку этого хочет история. Перед нами Марксова «историческая неизбежность» в ее наиболее брутальной версии: «Дело не в том, в чем в данный момент видит свою цель тот или иной пролетарий или даже весь пролетариат. Дело в том, что такое пролетариат на самом деле и что он, сообразно этому своему бытию, исторически вынужден будет делать»[2 - См.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 2. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. С. VI.]. Продвигаясь к цели, нельзя избежать ложных и кружных путей, но плутания можно и даже нужно принимать терпеливо, поскольку железный закон истории так же неисследим, как Божья воля в религиозном контексте. Вот почему иногда – в 1933 г. в Германии, а затем в конце гражданской войны в Испании – не надо было сражаться даже с фашизмом, ведь он является лишь неизбежным шагом на пути к революции и, таким образом, к желанной цели.
Опыт, из которого рождалась коммунистическая надежда, совершенно понятен. Большинство обращенных считали положение рабочих и неравенство, характерное для капиталистического общества, неприемлемыми. Но следующий шаг уже был спорным: трудно понять, почему многие интеллектуалы, особенно в «розовое десятилетие» – начиная с экономического кризиса (1929) и вплоть до пакта Гитлера–Сталина (1939) – связывали упования на достижение равенства или справедливости только с коммунистами. «Как могли эти интеллектуалы принимать догмы сталинизма?» – скептически спрашивает англичанин Кроссман. Сам Кроссман «не чувствовал даже слабого соблазна», но это и понятно: он был закоренелым противником догматизма и находил практическую политику лейбористской партии более разумной, чем религиозные посулы коммунистов. В очерке, написанном для кроссмановского сборника, чернокожий американский писатель Ричард Райт, рассказывая о своем разрыве с коммунистами, дает ощутить особую природу соблазна, переплетенного с надеждой:
В душе я знал, что больше никогда не смогу писать так же [как раньше], воспринимать жизнь так же просто и ясно, выражать столь пылкую надежду и столь безраздельно отдаваться вере.
Религия, даже суррогатная, сама по себе есть род связи. Уже корень этого слова – ligare (связывать) – указывает на то, что речь идет о лигатурах, скрепах. Религиозная вера нуждается в церкви, чтобы сделать эту связь обязательной. Коммунизм имел соответствующую организацию в виде партии. Если фашизм обещал создать мир, в котором будут восстановлены и ясно оформлены древние связи, рожденные кровью и почвой, то коммунизм предлагал определенную связь здесь и теперь – с предельно взыскательной партией, требующей практически безоговорочного, тотального подчинения. Интеллектуалы оказались в первых рядах тех, для кого эта связь была исполнением заветных желаний, и притом не «на один сезон», а, как правило, на годы, часто – на десятилетие, а то и на больший срок[iii - Для обсуждения вопроса о религиозной составляющей тоталитаризма особенно полезна статья: Hans Maier, «Deutungen totalit?rer Herrschaft 1919–1989», в Vierteljahrshefte f?r Zeitgeschichte 3/2002.].
Изображение приема в партию и последующих событий – наиболее драматичный эпизод исповеди авторов, разочаровавшихся в коммунизме. Для интеллектуала вступление в партию подразумевало отказ от двух главных жизненных ценностей – свободы и истины. Стивен Спендер, в сущности, не принадлежит к адептам бога, обманувшего ожидания, его членство в коммунистической партии продолжалось всего несколько недель зимы 1936/37 г. Зато он сумел живо – и в истинно английском стиле – показать, каких терзаний стоила интеллектуалу принадлежность к коммунистам. Партийный наставник Спендера Чалмерс советовал ему написать роман, где коммунисты изображались бы людьми глубоко несимпатичными, а капиталисты, напротив, добросердечными, но заблуждающимися с «исторической» точки зрения. Ход «истории», объяснял наставник, не зависит от доброй или злой воли и, следовательно, от добрых или злых дел, а партия – это представительница истории. Чалмерс «считал допустимыми методы, употребляемые в настоящем, поскольку возлагал надежду только на будущее, остальное его не интересовало».
Изображение Спендером радикального sacrificium intellectus[3 - Отказ от разума (лат.).] вызывает болезненное чувство даже при чтении. «Если от пары тысяч людей [подразумеваются интеллектуалы] требуется принести в жертву интеллектуальную свободу, чтобы этой ценой дать хлеб миллионам, – то, возможно, свободой нужно пожертвовать». Та же мысль еще жестче выражена в очерке Кёстлера, всерьез подпавшего под влияние партии[b - Артур Кёстлер был членом компартии Германии с 1931 до 1938 г.]:
Партия была непогрешима логически и морально. Непогрешимой морально ее делало то, что ее цели были верны, то есть соответствовали исторической необходимости и оправдывали любые средства. А логически партия была непогрешимой потому, что являлась передовым отрядом пролетариата, а пролетариат служил воплощением исторического прогресса[4 - Цит. по: Рыклин М. Коммунизм как религия. Интеллектуалы и Октябрьская революция. М.: Новое литературное обозрение, 2009 (https://www.rulit.me/books/kommunizm-kak-religiya-read-504682-36.html).].
Как видим, обращенные учились оправдывать перед собой и другими любые тактические извороты партии. В результате они все больше отдалялись от простых ценностных представлений, которые привели их в партию, и то, что поначалу было соблазном, быстро превращалось в опутывающие силки. Психолог Манес Шпербер[c - Манес Шпербер был учеником Адольфа Адлера, его первая научная работа – реферат «Психология революционера».] описывает этот процесс как «надличностное принуждение», заключавшееся в том, что партиец, «преследуя и подвергаясь преследованию, вынужден ходить по замкнутому кругу вокруг коммунизма».
Франсуа Фюре описывает судьбу «уверовавших и разочаровавшихся» на примере историй трех интеллектуалов – Пьера Паскаля, Бориса Суварина и Георга Лукача[d - Пьер Паскаль (1890–1983) – филолог-славист, с 1916 по 1927 г. жил в России, вел ежедневный дневник, который и анализирует Фюре в своем очерке. Борис Суварин (1895–1984) – журналист, писатель, основатель Французской компартии. Георг (Дьёрдь) Лукач (1885–1971) – один из основоположников «неомарксизма»», с 1929 по 1945 г. жил в Москве.]. В кризисные времена партия большевиков стала для всех троих «надежной гаванью и одновременно тюрьмой». «Политическая свобода не имеет большой ценности, когда люди находят в восстановленном и сохраненном равенстве новую мораль братства, возвещенную Христом и преданную миром денег»[5 - Из очерка о Пьере Паскале. Ср.: Фюре. Прошлое одной иллюзии (https://russia-west.ru/viewtopic.php?id=1007).].
Сплоченность вокруг партии и тем самым вокруг коммунистического движения – в двойном значении слова: политической организации и хода истории – была настолько тесной и прочной, что разрыв становится травматическим опытом для любого отступника. С коммунизмом порвало большинство упомянутых выше интеллектуалов, и многие переживали этот разрыв так же тяжело, как Ричард Райт. В истории фашизма, включая национал-социализм, едва ли удастся отыскать что-то схожее. Бесспорно, уже в 1934 г. бывшие энтузиасты часто испытывали разочарование. Они отдалились от нацистов, перейдя к молчаливому попутничеству, к тем или иным формам внутренней эмиграции. Но оппортунистический вариант оставался для них по-прежнему доступным. В случае коммунизма подобного не происходило и, более того, не могло происходить. Требование подчинения с самого начала носило абсолютный характер, отказ подчиняться мог стоить жизни. Это было объективной реальностью для всех, кто попал в сферу советского влияния, и субъективной – для тех, кому пришлось признать, что они, по словам Кёстлера, «разделили ложе с иллюзией», как в библейском рассказе об Иакове, Рахили и Лии. По-своему излагает причины, мешавшие порвать с коммунистической партией, Иньяцио Силоне: «Что-то все равно остается и накладывает на характер человека печать, которую нельзя изгладить до конца дней. Бывших коммунистов на удивление легко узнать. Они образуют особую категорию людей, как вышедшие за штат священники и отставные офицеры».
Этот вопрос обсуждается в настоящем исследовании. Не все в ту пору повели себя так, как пресловутые «жертвы марта» 1933 г., очень рано, хотя с некоторым опозданием, прыгнувшие в уходящий поезд нацистов. Не все мыслили так, как левые идеалисты 1920-х и 1930-х. Не все уподобились многочисленным оппортунистам и идеалистам, которых мы выборочно рассматриваем ниже. Напротив, нашлись сильные умы, обнаружившие иммунитет к искушениям. А раз так, у нас есть право – и мы им воспользуемся – перевернуть наш исходный вопрос (почему столь многие позволили себя одурманить) и попытаться понять, почему некоторые все же не поддались ни одному из соблазнов несвободы. Чем именно они отличались от идеалистов и оппортунистов? И, более того, можно ли считать этих людей хранителями либерального образа мыслей во времена испытаний?
Этот вопрос важен еще и потому, что соблазны несвободы, знакомые нам по первой половине XX в., были, вероятно, не последними в своем роде. Нельзя утверждать, что мы непременно вернемся к фашизму или коммунизму. В столь конкретной форме история повторяется редко. Однако каждый шаг на пути Просвещения, по-видимому, рождает контрпросвещенческую реакцию. Огромной свободе, распространившейся в открытых обществах после 1945 г., в ходе trentes glorieuses[3 - Славное тридцатилетие (фр.).][h - Термин «славное тридцатилетие» введен французским экономистом и социологом Жаном Фурастье в 1979 г. для обозначения периода с 1946 по 1975 г., когда в западноевропейских странах и Японии произошли значительные экономические и социальные изменения, позволившие реализовать идеи социального государства и сформировать общество потребления.] – фактически для Западной Европы можно говорить о славном шестидесятилетии – сопутствует огромная нестабильность других обществ, все чаще не находящих опоры в привычных социальных связях. В таких условиях не бывает недостатка в ложных богах, которые порой носят имя истинных. Кто устоит перед обаянием этих богов? В чем вообще заключается тайна либерального образа мыслей, защищающего от соблазнов? Это и составляет предмет нашего дальнейшего исследования и анализа.
2. Речь идет о публичных интеллектуалах
Кто именно подразумевается в нашем вопросе, кому, таким образом, наше исследование посвящено – ясно из примеров, приведенных выше. Это не политические деятели, будь то представители власти или их противники; это и не пестрая масса обычных граждан, которых политики соблазняют и ведут за собой. Это интеллектуалы. Иначе говоря, люди, воздействующие на других своим словом. Они говорят, спорят, полемизируют, но главное – они пишут. Их оружие или, точнее, орудие труда – перо, пишущая машинка, компьютер. Они хотят, чтобы другие люди, как можно больше других людей, услышали или, еще лучше, прочитали то, что они считают нужным сказать. Их призвание – сопровождать происходящее критическими комментариями.
Поскольку интеллектуалы живут писательским трудом, неудивительно, что и о них написано очень много. К тому же они часто грешат сосредоточенностью на самих себе. Упомянутый выше Карл Маннгейм подчеркивал, что интеллектуалы – это люди, не связанные определенным положением в обществе, они «свободно парят» над ним и потому охватывают взглядом панораму, которую не могут видеть другие. Йозеф Шумпетер[a - Йозеф Алоиз Шумпетер (1883–1950) – австрийский экономист, социолог; одним из первых стал изучать экономическую динамику в противовес статическому анализу представителей неоклассического направления.] добавлял к этому способность интеллектуалов критически оценивать сложившиеся общественные отношения, включая отношения внутри их собственной группы. Задолго до Маннгейма и Шумпетера[i - Тексты, использованные в этой главе (наряду с «Коммунистическим манифестом»), извлечены из книг Йозефа Шумпетера и Карла Маннгейма. См.: Joseph Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie; Karl Mannheim, Ideologie und Utopie.] Карл Маркс и Фридрих Энгельс пытались схожим образом объяснить, почему им, буржуазным интеллектуалам, дано проложить дорогу к пролетарской революции. Во времена, «когда классовая борьба приближается к развязке», дерзко утверждали они, господствующий класс разлагается, и часть этого класса отрекается от него, «именно – часть буржуа-идеологов, которые возвысились до теоретического понимания всего хода исторического движения»[1 - Из вступительного раздела «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса: «Буржуа и пролетарии» (коллективный перевод).].
Эту рискованную претензию можно сформулировать более скромно: во времена испытаний интеллектуалы определенного типа более других влияют на ход событий. Поясним смысл этого утверждения применительно к нашему исследованию, отметив два обстоятельства.
Во-первых, здесь имеются в виду не просто интеллектуалы, а лишь те, кого я называю публичными интеллектуалами. Это понятие не вполне однозначно. В словосочетании «непубличный интеллектуал», строго говоря, есть внутреннее противоречие. Пишущий обычно публикует то, что написал, – то есть по определению не может существовать в очерченном, защищенном и, следовательно, частном пространстве. Таким образом, в нашей книге понятие публичного интеллектуала имеет дополнительно акцентированное значение. Речь идет о людях, которые видят свое назначение в том, чтобы быть причастными к доминирующим публичным дискурсам своего времени: определять их тематику и влиять на их направление.
Этому определению не отвечает множество самых разных людей, также называемых интеллектуалами. К публичным интеллектуалам принадлежит не вся интеллигенция, не все clercs в понимании Жюльена Бенда[2 - Подразумевается известная книга Жюльена Бенда La trahison des clercs (1927); в русском переводе – «Предательство интеллектуалов» (2009).][b - Согласно Жюльену Бенда (1867–1956), интеллектуалы – это люди, не преследующие практических целей и видящие свою задачу в сохранении вечных духовных ценностей: справедливости, истины и разума.] – иначе говоря, не все, кого сегодня называют представителями общества знания[c - «Общество знания» – новая форма постиндустриального общества, в которой доминирующей ценностью становится знание. В научный оборот понятие knowledge society ввел в 1968 г. американский ученый Питер Друкер. См.: Друкер П. Эпоха разрыва: ориентиры для нашего быстро меняющегося общества. М.: Издательский дом «Вильямс», 2007.]. Большинство профессоров, хотя они много читают и пишут, не принадлежат к публичным интеллектуалам. Сложнее обстоит дело с поэтами и писателями. По мнению Карла Хайнца Борера[d - Карл Хайнц Борер (род. в 1932 г.) – немецкий литературовед, публицист. Был редактором журнала Merkur, ведущего интеллектуального издания в Германии.], они пользуются публичным – он говорит: «моральным» – влиянием как раз там, где «не ориентируются на философские универсалии», а «делают явными оттенки того, что еще скрыто, что еще не получило словесного выражения». Борер упоминает в этом контексте Себастьяна Хафнера[e - Публикации в России двух книг Себастьяна Хафнера (1907–1999): «История одного немца» (2016) и «Некто Гитлер. История одного преступления» (2017) вызвали широкий резонанс.]. «Яркость и глубина предложенного им изображения человека в обстановке надвигающегося фашизма объясняются полным отказом от использования социологических и политологических понятий и, несмотря на это, умением схватить смысл, который эти понятия стремятся выразить»[ii - Борера я цитирую по сборнику: Der kritische Blick. ?ber intellektuelle T?tigkeiten und Tugenden (Fischer Taschenbuch: Frankfurt, 2002), который издал У.Ю. Венцель (Uwe Justus Wenzel). О?менталитетах (понятии, связанном с?именами Теодора Гайгера и?Мориса Хальбвакса) см.: Noel Annan, Our Age (Weidenfeld & Nicolson: London, 1990), p. 19.].
Конечно, социологи и политологи не обладают монополией в публичной интеллектуальной сфере. В дальнейшем, однако, мы чаще всего будем говорить о философствующих аналитиках, занятых исследованием политики и общества. Это те, кто дает эпохе язык, позволяющий другим людям ее понимать. «Интеллектуалы определяют формы менталитета, свойственные поколению», – пишет Ноэль Аннан[f - Ноэль Гилрой Аннан (1916–2000) – британский писатель; ввел понятие «интеллектуальная аристократия».], используя удачное (заметим, социологическое) понятие. Его слова относятся в первую очередь к публичным интеллектуалам. Этому не противоречит тот факт, что интеллектуалы, как справедливо добавляет Аннан, «образуют множество разнородных враждующих кланов».
Характеризуя понятие «публичные интеллектуалы», мы, вслед за Борером, сочли нужным не прибегать к «философским универсалиям» и предпочесть описания типичных представителей этой группы. Некоторых мы уже назвали; в ходе исследования к ним добавится немало других. Особый интерес для нас будут представлять публичные интеллектуалы, которых можно назвать movers and shakers, то есть сумевшие в определенный момент несомненным и памятным для всех образом привести в движение, встряхнуть тогдашнее общество. Отсюда второе замечание, касающееся темы интеллектуалов. Чтобы понять значение этих людей в обществе, важно учитывать не только их особенное качество (публичность), но и обстановку, в которой они действуют, иначе говоря – ситуацию, на которую они влияют, но которая не всегда поддается их влиянию.
Различие, играющее здесь ключевую роль, – это различие между переломными и нормальными временами. Звездный час интеллектуалов – время глубоких социальных потрясений. На протяжении XX в. таких моментов было более чем достаточно: 1914, 1917, 1933, 1945 – и это далеко не все даты, обсуждаемые ниже. Первая мировая война, русская революция, мировой экономический кризис и его последствия, успехи фашизма, гражданская война в Испании, Вторая мировая война – как минимум первая половина века была временем сплошных потрясений. Вызванные ими «повторные толчки» ощущались долго, почти до конца 1950-х. Затем, однако, начались нормальные времена, по меньшей мере на Западе, в свободном мире. Эти времена тоже нельзя считать безоблачными – но вплоть до крушения коммунизма в 1989 г. глубоких потрясений все-таки не наблюдалось[iii - О «переломных временах и нормальных временах» я более подробно писал в сборнике Wiederbeginn der Geschichte (C.H. Beck: M?nchen, 2004), см., в частности, главу 14.].
Для большинства граждан нормальные времена хороши; недаром послевоенную эпоху называют славными десятилетиями. В публичных интеллектуалах такие времена, напротив, рождают известное замешательство. В переломные времена интеллектуалы необходимы, в нормальные времена – разве что полезны. В момент перелома сами слова, которые его описывают, становятся делами; при нормальном течении событий слова служат не то чтобы прикрасами, но, по большей части, лишь некоторым подспорьем или указанием на возможные частичные коррективы.
То, что публичные интеллектуалы склонны драматизировать ситуации, которые в целом нормальны, имеет причину: это возвышает их представление о самих себе и усиливает значение их слов. В этом заключается смысл и вместе с тем бессмысленность приведенного нами замечания Маркса и Энгельса. Бесспорно, некоторые интеллектуалы – «буржуа-идеологи» или кто-либо другой – в переломные времена особенно ясно провидят если не «весь ход исторического движения», то сиюминутную суть и направление этого движения. Но в том, что время создания «Коммунистического манифеста» действительно было переломным, можно усомниться. Его авторы лишь накликивали кризис, которого не было. Во всяком случае, еще не было: идеи создателей манифеста пришлись ко двору лишь 70 лет спустя. Этот феномен также заслуживает анализа.
С другой стороны, не случайно и то, что громкие имена переломного времени часто принадлежат интеллектуалам. В периоды кризиса они целиком переключаются на общественную деятельность, так что от их принадлежности к интеллектуалам остается лишь воспоминание. Но по мере того как ситуация нормализуется, эти имена блекнут. Их обладатели становятся обычными политиками или обычными интеллектуалами. В связи с революцией 1989 г. можно упомянуть имя Вацлава Гавела, которому, как многим публичным интеллектуалам, переход от одного состояния к другому дался очень тяжело.
Итак, речь пойдет о публичных интеллектуалах во времена потрясений. При этом в поле нашего зрения попадут сильнейшие соблазны, исходившие от фашизма и коммунизма. Почему именно они представляют для нас интерес? Потому что это были соблазны несвободы. Благодаря тем, кто сумел перед ними устоять, мы лучше понимаем, что такое мысль, верная свободе. Иными словами, мы будем говорить о публичных интеллектуалах, которые во времена испытаний не отреклись от либерального образа мыслей.
3. Фашизм привлекал сплоченностью и наличием вождя
Наиболее тяжелым испытаниям в XX в. человечество подвергли фашизм, в первую очередь немецкий национал-социализм, и коммунизм, особенно российско-советский коммунизм, или большевизм. Испытания того и другого рода мы часто будем называть соблазнами, еще чаще – соблазнами несвободы. Это слово выбрано не случайно. «Понятие „соблазн“ указывает на иррациональную составляющую капитуляции перед национал-социализмом», – пишет Фриц Штерн[a - Фриц Рихард Штерн (1926–2016) – американский историк немецко-еврейского происхождения, автор книг, посвященных отношениям немцев и евреев в Германии XIX–XX вв.]. «Капитуляцию» Штерн понимает в том смысле, какой имеет английское surrender, означающее не только «сдачу», но и «отречение от себя». Точно так же многие пошли на капитуляцию перед коммунизмом. Политика несвободы заманивала: она не просто использовала фактор материальной нужды, но и обладала своеобразным обаянием. В чем это обаяние состояло – вопрос, имеющий важное значение.
Фриц Штерн дал на него ответ в обширном эссе «Национал-социализм как соблазн»[i - Статья Фрица Штерна (Fritz Stern, «Der Nationalsozialismus als Versuchung») перепечатана в?книге Der Traum vom Frieden und die Versuchung der Macht (Siedler: Berlin, 1988). Цитируются S. 164, 167, 169, а?также 173 (с?цитатой из Гофмансталя).]. «Соблазн 1933 года заключался в том, что уверовавшие в Гитлера считали его спасителем, который возродит нацию». Штерн упоминает, кроме того, «веру в чудо», в «божественное провидение», вообще «магически влекущую» «религиозно-мистическую составляющую национал-социализма». Далее он характеризует тех, кто нам особенно интересен, – интеллектуалов. Некоторые из них противостояли соблазну, боролись с национал-социализмом, предостерегали или протестовали. Другие верили в национал-социализм, хотя позже отступились от него и на словах, и на деле.
Они подтверждают мое заключение о национал-социализме как сильнейшем соблазне. Идеалисты определенного типа, подчиняясь движению, могли идентифицировать себя с нацией, пестовать в себе чувство ее единства, погубленное в Веймаре, и стоять за дело, требовавшее жертв, – подчинение в этом случае не было продиктовано мелкотравчатым карьеризмом. Люди осторожные уступали соблазну не без оглядки; но идеалисты, становясь национал-социалистами, в силу своего пылкого темперамента целиком отдавались наваждению.
В этом описании можно узнать некоторых интеллектуалов, упомянутых выше, когда мы формулировали исходный вопрос. И здесь же указаны три основных слагаемых соблазна, исходившего от национал-социализма. Первое просматривается за словами «чувство единства», которые говорят о поиске сплачивающей связи. Штерн цитирует Гуго фон Гофмансталя, описавшего смысл «консервативной революции» следующим образом: «Не свободы они хотят искать, а уз»[1 - Цитата из речи Гофмансталя Das Schrifttum als geistiger Raum der Nation («Литература как духовное пространство нации», 1927). «Они» здесь – новое поколение, отказывающееся от свободы ради сплачивающих уз, которые формируют истинную нацию.][b - Ср. в той же речи Гофмансталя: «[Эти искания] должны привести к высочайшей вершине, где дух становится жизнью, а жизнь – духом; иными словами – к политической реализации мира духа, к интеллектуальной реализации политического, к формированию истинной нации. Процесс, о котором я говорю, – не что иное, как консервативная революция такого масштаба, который прежде был неведом европейской истории». Цит. по: Рингер Ф. Закат немецких мандаринов: Академическое сообщество в Германии, 1890–1933. М.: НЛО, 2008.]. Нацисты обещали удовлетворить этот запрос.
Сейчас, спустя годы, странно слышать, что сплоченность общества, да и чувство единства вообще, были «погублены в Веймаре». Разве после Веймара немецкое общество не пронизывали, как раньше, жесткие, едва ли не сословные структуры? Разве немцам не был чужд крайний индивидуализм англосаксов? С другой стороны, разобщенность немцев действительно была одной из тем дискуссий в интеллектуальной среде, возникших после успеха национал-социалистов на выборах. В 1932 г. Теодор Гайгер[c - Теодор Юлиус Гайгер (1891–1952) – немецкий социолог, один из авторов концепции социальной стратификации; был противником национал-социализма, в 1933 г. эмигрировал в Данию, затем в Швецию.] еще верит, что разочарование широких слоев общества, вызванное экономической ситуацией, играет на руку одной – национал-социалистической – партии, которой, быть может, «вопреки тому, что наша эпоха определяется экономикой, удастся преодолеть экономическую обусловленность различных уровней хозяйства с помощью более эффективных связей иного рода»[ii - См. анализ национал-социализма в?книгах: Theodor Geiger, Die soziale Schichtung des deutschen Volkes и Hannah Arendt, Urspr?nge totalit?rer Herrschaft. Речь Хайдеггера о?самоутверждении университета упоминалась выше. Аллюзии, относящиеся к «рембрандтовскому немцу» Юлиуса Лангбена и «рабочему» Эрнста Юнгера, опираются на работу: Fritz Stern, Kulturpessimismus als politische Gefahr. Книга Franz Neumann, Behemoth цитируется по изданию 1942 г. (S. 470).]. В 1951 г. Ханна Арендт уже пишет о «чрезвычайно атомизированном обществе», в котором для положения человека – она говорит: «человека массы» – характерны «изоляция и нехватка нормальных социальных взаимоотношений»[2 - Арендт Х. Истоки тоталитаризма / Пер. с англ. И. Борисовой и др. М.: ЦентрКом, 1996. С. 422.], и считает эту атомизацию общей причиной возникновения тоталитаризма.
Если в речи Хайдеггера о самоутверждении университета можно выделить главную тему, то это тема всеобщей связи, которую он противопоставляет свободе. Фрайбургский ректор считал академическую свободу «неподлинной, основанной лишь на отрицании». «Понятие свободы немецкого студента возвращается теперь к своему истинному смыслу. Из этого смысла в дальнейшем вырастут сплоченность и служение немецкого студенчества». Далее Хайдеггер рассматривает три организационные формы связей, в определении которых можно расслышать отзвуки теорий Платона: «связь в народной общности» через «трудовое служение»; «связь с честью и судьбой нации» через «воинское служение»; «связь с духовной миссией немецкого народа» через «служение знания».
Три вида связей – через народ, с судьбой государства в духовной миссии – для немецкой сущности равноизначальны. Три возникающих отсюда служения – трудовое служение, воинское служение и служение знания – равно необходимы и равно почетны.
Может быть, Хайдеггер имел в виду не совсем то, чего добивались искавшие сплоченности люди из мира, описанного Ханной Арендт и другими авторами, – но он так или иначе указывает на методы, с помощью которых национал-социализм обещал утвердить формы солидарности. С одной стороны, эти методы должны были создать «общность» в строгом смысле понятия, введенного Фердинандом Тённисом[d - Согласно концепции Фердинанда Тённиса (1855–1936), суть «общности» в том, что отношения в ней понимаются как реальная и органическая жизнь. См.: Тённис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии. СПб.: Владимир Даль, 2002.]. Сюда относятся не только сравнительно абстрактные единства, как, например, народная общность, но и в высшей степени конкретные: «ячейки движения» (не случайно получившие такое название), орда, отряд, племя. Характер связей внутри этих единств был, впрочем, таким же искусственным, как лежавшая в их основе идеология крови и почвы. С другой стороны, чувство сплоченности внушалось и «тотальной мобилизацией», организацией масс, гигантоманскими парадами и постановками Альберта Шпеера[e - Альберт Шпеер (1905–1981) – в 30-х гг. личный архитектор фюрера, генеральный инспектор Берлина по строительству.]. Все это было безусловным соблазном для многих людей, вне зависимости от того, насколько атомизированными и потерянными они себя чувствовали прежде. Кстати, соблазном и для интеллектуалов, которым нравились как «культурный пессимизм» немецкой традиции («Рембрандтовский немец»), так и эстетизированные видения тотального порядка («Рабочий»)[3 - См.: Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт / Пер. с нем. А. Михайловского. СПб.: Наука, 2000.].
Если первым соблазном, исходившим от фашизма и национал-социализма, была сплоченность, то вторым – наличие вождя. Любой вариант фашизма непредставим без дуче, каудильо или фюрера. Легко заметить, что ни одна из версий подобного строя не предполагала решения вопроса о преемнике; придумать такое решение было попросту невозможно. В этом одно из отличий фашизма от коммунизма. Единственный вождь был с самого начала олицетворением режима, носившего, таким образом, глубоко ложное название. Франц Нойманн в своей книге «Бегемот» (1942) впервые развил тезис о национал-социализме как псевдогосударстве (Unstaat) – форме принуждения, не опирающейся на какую-либо теорию и организационный принцип, который можно было бы перенести в будущее. «За исключением харизматической власти вождя, нет никакой власти, которая координирует <…> силы, никакого места, где компромисс между ними может быть достигнут на универсальной надежной основе»[4 - См.: Нойманн Ф.Л. Бегемот. Структура и практика национал-социализма 1933–1944 / Пер. с англ. В. Быстрова. СПб.: Владимир Даль, 2015. С. 579. Говоря о некоординируемых силах, Нойманн выделяет четыре основные группы влияния: промышленные монополии, национал-социалистическую партию, армию и государственную бюрократию.][f - Франц Нойманн (1900–1954) был приверженцем Франкфуртской школы и последователем теории государственного права Карла Шмитта, которого чаще других цитирует в своей книге.].
«Харизматическую власть» Гитлера описывали и анализировали сотни, тысячи раз. Она, как мы видели, не оставила равнодушными даже таких жертв режима, как чета Маннгейм. Форма этой власти была обусловлена временем. Сейчас, через два поколения, при просмотре в кино или по телевидению знаменитых в свое время выступлений фюрера, часто нельзя понять, отчего они так сильно воздействовали на современников. По сути, «харизматическая власть» Гитлера была с самого начала апокалиптической. Уникальность вождя и отсутствие приемлемого механизма передачи власти означали, что после него может быть только потоп. В статье «Умереть в Джонстауне» Жан Бехлер описал коллективное самоубийство в Гайане приверженцев так называемого преподобного Джонса – и сделал это настолько проникновенно, что его описание вполне сопоставимо с историей гитлеровской Германии[iii - Следует отметить тонкую статью Жана Бехлера: Jean Baechler, «Mourir ? Jonestown» в Europ?ischen Archiv f?r Soziologie, Jg. XX, Nr. 2 (1979).]. Иоахим Фест[g - Иоахим Фест (1926–2006) – немецкий исследователь Третьего рейха, автор монументальной биографии Гитлера (1973), вышедшей в России в трех томах в 1993 г.] подтвердил анализ Бехлера в своей книге и в фильме, где показано «падение» Гитлера, его последние дни[5 - Имеется в виду изданная в 2002 г. книга Феста Der Untergang. Hitler und das Ende des Dritten Reiches («Падение. Гитлер и крах Третьего рейха»). Фильм Оливера Хиршбигеля, снятый по мотивам этой книги, шел в российском прокате под названием «Бункер» (2004).].
Но в чем заключался соблазн, исходивший от Гитлера-вождя? И, главное, в чем этот соблазн состоял для интеллектуалов? Имеем ли мы здесь дело с какой-то fatal fascination[6 - Фатальная завороженность (англ.).], с чем-то вроде психической болезни? И почему эта болезнь получила особенно широкое распространение в Германии? Вот вопросы, уже не одно десятилетие занимающие историков, социологов и других исследователей. К счастью, большинство ученых отказывается искать ответ в национальном характере. Душа народа мало что дает для объяснения его политического поведения. Не слишком помогает и утверждение, что Веймарская республика была демократией без демократов. Намного важнее тот факт, что в Германии к этому времени имелись лишь ограниченные предпосылки – и то по большей части в определенных регионах – к возникновению уверенного в себе среднего класса, видящего в непредсказуемости жизни и даже в хаотичности человеческих дел возможность для собственного успеха. В представлении же образованных слоев буржуазии и тем более государственных служащих свобода была тесно связана с порядком: когда «беспорядок» демократии и рыночного хозяйства заходит слишком далеко, считали они, нужно приветствовать политика, обещающего восстановить порядок.
Но эти объяснения феномена Гитлера все же не слишком надежны. Более значим третий элемент соблазна, исходившего от национал-социализма, – вера в преображение. Само понятие «харизматический вождь» прямо указывает на его религиозные корни. В Гитлере видели «спасителя», творящего «чудо», и сам он охотно ссылался на «провидение», во имя которого действовал. На «религиозно-мистическую составляющую национал-социализма», как ее назвал Фриц Штерн, обращали внимание часто. Многие рассматривают национал-социализм как «суррогатную религию». В самом деле, фюрер и его режим приводили некоторых идеалистов в состояние, схожее с религиозным помешательством. Йозеф Геббельс, министр пропаганды, был верховным жрецом этой лжерелигии. Ее проповедовала и целая армия более мелких жрецов, влиянию которых поддавались многие люди, утратившие традиционную веру.
С идеей преображения особенно хорошо корреспондирует понятие нации. Фашисты, в отличие от демократов, провозгласили целью своей политики не стремление к индивидуальному счастью, а национальное величие. Величие нации могло становиться наркотиком, заглушавшим и ослаблявшим самые разные фрустрации, начиная с таких сравнительно конкретных, как «мирный диктат» Версаля, и кончая «опоздавшей нацией»[h - Концепт «опоздавшая нация» был проанализирован немецким философом Гельмутом Плеснером (1892–1985) в лекциях «Судьба немецкого духа на исходе его буржуазной эпохи» (1934), опубликованных в 1959 г. под заголовком «Опоздавшая нация. О?политической обольщаемости буржуазного духа» (Die versp?tete Nation. ?ber die Verf?hrbarkeit b?rgerlichen Geistes).], которая-де приходит наконец в себя, то есть совершенно абстрактными мечтаниями. Национальное государство – одно из великих достижений эпохи модерна; оно долго оставалось единственной оболочкой, защищавшей господство права и демократическое самоопределение. Национализм был, напротив, крушением национального государства, его соскальзыванием к идеологии внутренних репрессий и внешней агрессии. В ХХ в. Германия и Италия как раз созрели для ухода на этот ложный путь. Пафос, неотделимый от национализма, апеллировал к иррациональным пластам в сознании людей, упустивших возможность создания национального государства.
Можно было бы упомянуть и другие элементы соблазна – прежде всего манихейское мышление в категориях «друг–враг» и культ силы. Но обещание сплоченности, руководство вождя и идеологема преображения сами по себе являются заманчивой подарочной коробкой, объясняющей, почему многие не устояли перед искушением. Если присмотреться, коробка пуста. Связи, которые сулит создать национал-социализм, существуют по большей части лишь на словах, служа не столько сплочению, сколько оправданию тотальной мобилизации. Руководство вождя не порождает порядок, а сколачивает людей в некую секту, дружно шествующую по пути к апокалипсису. Идея преображения нации – или расы – приводит, как нетрудно убедиться, к возникновению суррогатной религии, но не к преображению как таковому. Фашизм в любой своей версии был чем-то вроде блестящей обертки; действительность же сводилась к голому властному принуждению.
Показательно, что интеллектуалы, уступившие соблазну, отдавались ему, как правило, недолго. Мартин Хайдеггер менее чем через год подал в отставку с поста ректора и вернулся к своей эзотерической философии бытия. В 1946 г. любившая его Ханна Арендт еще писала Ясперсу, что ректор Хайдеггер, ставя подпись под направляемым его учителю Гуссерлю[j - Эдмунд Гуссерль (1859–1938) с 1916 г. был ординарным профессором философии во Фрайбургском университете. С 1919 по 1923 г. Хайдеггер был его ассистентом.] циркуляром с подтверждением запрета на преподавательскую деятельность, показал свою, мягко говоря, бесхребетность. «Поскольку мне известно, что это письмо и эта подпись едва не свели [Гуссерля] в могилу, я не могу не считать Хайдеггера потенциальным убийцей». Двумя десятилетиями позже, когда Хайдеггеру исполнилось восемьдесят, в поздравительной речи Арендт зазвучали совершенно иные ноты: «Теперь же всем нам известно, что и Хайдеггер однажды поддался искушению изменить свое местожительство [читайте: свою позицию] и „подключиться“ к миру человеческих дел». Это было заблуждением, которое, помимо прочего, сослужило ему плохую службу после 1945 г.; но заблуждение длилось всего десять месяцев, а затем философ вновь обрел привычное «местожительство»[j - У Хайдеггера «местожительство» (Wohnsitz) мыслителя, в отличие от других мест мира, где протекает человеческая жизнь, – «место тишины», «отрыв от бытия» (Seinsentzug).]. Мы «сочтем бросающимся в глаза и, возможно, раздражающим», замечает Арендт, что не только Платон, но и Хайдеггер, вмешиваясь в дела этого мира, «ищут прибежище у тиранов и фюреров». Однако это лишь dеformation professionnelle[7 - Здесь: отход от профессии (фр.).] философа, мысль которого, вообще говоря, берет начало не в его веке, а «в незапамятных временах», – так что ошибки, совершенные им в мире, фактически не столь важны[8 - Цит. по: Ханна Арендт – Мартин Хайдеггер. Письма 1925–1975 и другие свидетельства / Пер. с нем. А. Григорьева. М.: Издательство Института Гайдара, 2016. С. 203, 199, 201.]/[iv - Письмо Ханны Арендт цитируется по ее переписке с Карлом Ясперсом (здесь письмо от 9. 7. 1946).].
Слова еврейской подруги Хайдеггера, характеризующие его падение под воздействием фашистского соблазна, звучат странно. Впрочем, эти слова, с поправкой на известную высокопарность, можно применить к целому ряду интеллектуалов, подкошенных мартом 1933 г. Отсюда прежде всего следует, что было не так уж много интеллектуалов, которые и позже, в 1934 г., не говоря о 1938-м и тем более 1944-м, могли считаться правоверными нацистами. Веру к тому времени уже заместило банальное послушание, иногда – верность присяге, а чаще всего – обычный страх. Для жителей описанного нами псевдогосударства с его противоречивой идеологией было характерно скорее попутничество или, более точно, оппортунизм – яркие примеры этого рода мы приведем ниже. Так же обстояло дело в фашистской Италии и Испании. В случае фашизма можно без особого преувеличения говорить о соблазне, обманувшем ожидания. Под конец осталась только несвобода – и насилие, которое ее поддерживало.
4. Коммунизм привлекал сплоченностью и надеждой
«Большевизм и фашизм следуют друг за другом, обусловливают друг друга, друг другу подражают и друг с другом сражаются, но до этого они рождаются из одной почвы: войны; они – дети одной и той же истории»[1 - Ср.: Фюре Ф. Прошлое одной иллюзии. М.: Ad Marginem, 1998. С. 192.]. По мнению Франсуа Фюре[a - Франсуа Фюре (1927–1997), подчеркивая общность черт нацизма и сталинизма, использовал термин «тоталитарные близнецы». Его книга раскрывает причины огромной привлекательности идей Октябрьской революции для европейской интеллигенции.], умного и вдумчивого историка, питательную почву для тоталитарных систем создала Первая мировая война. Впрочем, духовная подготовка тоталитаризма началась гораздо раньше. Она имеет прямое отношение к тому, что подразумевал Ницше, говоря: «Бог умер». В XIX в., согласно Фюре, силой, определяющей человеческую судьбу, стали считать не Бога, а «историю» – и это замещение породило различные folies politiques, формы политического безумия, которые довелось пережить XX веку[i - См.: Fran?ois Furet, Le passе d’une illusion (Laffont/Calmann-Levy: Paris, 1995). Первая цитата – на p. 197; далее глава 4, p. 131, 148.].
Книга Фюре о «великой иллюзии» подразумевает прежде всего коммунизм. Именно в связи с коммунизмом автор особенно часто упоминает «Бога» и «историю». (Фашизм предпочитал говорить о «Провидении» и, кроме того, обожествлял своих вождей.) Одно из важнейших свидетельств о коммунистическом соблазне – и о разочаровании соблазнившихся – сборник исповедей бывших коммунистов, опубликованный в 1949 г. под названием The God That Failed («Бог, обманувший ожидания»). Английское название выражает опыт авторов очень точно: бог, которого они искали, оказался несостоятельным, потому что был ложным богом.
Составитель этого сборника Ричард Кроссман, английский левый интеллектуал и депутат от лейбористской партии, никогда не находил привлекательным мир, описанный авторами. Кроссман был, по словам Артура Кёстлера, «благополучным островным англосаксом, настроенным антикоммунистически». Поэтому он оценивал интеллектуальное «путешествие в коммунизм и обратно» более трезво, чем те, кто это путешествие совершил:
Сначала они видели ее [цель] с большой дистанции – так 130 лет назад их предшественники взирали на Французскую революцию, бывшую для них словно бы видением Царства Божьего на земле; и, как Вордсворт и Шелли, они посвятили свои способности смиренным трудам, способствующим его пришествию. Их не обескураживали ни поражения, обычные для профессиональных революционеров, ни насмешки, которыми их осыпали противники, но когда каждый из них обнаружил огромное расхождение между собственным божественным видением и действительностью коммунистического государства, конфликт с совестью стал невыносим.
Идея преображения, как мы ее назвали, в случае коммунизма выражена гораздо отчетливее, чем при фашизме. Речь и здесь идет о «вере», которая сравнима с религиозной. Из убедительного описания Манеса Шпербера[ii - За исключением цитат из книги Шпербера (Die vergebliche Warnung, S. 44 f., 115) и ссылки на «Святое семейство» Маркса, все цитаты в этой главе почерпнуты из сборника The God That Failed. Я использовал издание Bantam Books (New York, 1951).] (не представленного в томе Кроссмана) хорошо видно, как утрата веры в Бога его отцов – прежде всего собственного отца Шпербера – исподволь подготавливала его к принятию суррогатной религии коммунизма. Артур Кёстлер говорит, что его «обращение» произошло, когда он внутренне созрел, поскольку жил в «распадающемся обществе, которое жаждало веры», и не мог устоять перед «заманчивым новым откровением, пришедшим с Востока».
Тут есть важное отличие от фашизма, заметно усиливавшее религиозный характер веры интеллектуалов в коммунизм. Наличие вождя, которым, среди прочего, соблазнял фашизм, в коммунизме замещает более абстрактная, более стойкая сила истории, и прежде всего – сила надежды. Фашизм был идеологией настоящего, коммунизм – идеологией будущего. Хотя почти все ранние приверженцы коммунизма позволяли себя дурачить потемкинскими деревнями, которые им показывали во время интуристовских поездок в Советский Союз, реальный социализм все-таки был (еще) не обетованной землей, а в лучшем случае первым шагом на пути к земному раю.
Надежда при этом опиралась на своеобразную уверенность, поскольку была для обращенных не просто желанием построить лучший мир, а верой в историческую неизбежность его возникновения. Это происходит, по словам Фюре, когда в «истории» видят заместительницу Бога. Идеальное, прекрасное общество непременно будет создано, поскольку этого хочет история. Перед нами Марксова «историческая неизбежность» в ее наиболее брутальной версии: «Дело не в том, в чем в данный момент видит свою цель тот или иной пролетарий или даже весь пролетариат. Дело в том, что такое пролетариат на самом деле и что он, сообразно этому своему бытию, исторически вынужден будет делать»[2 - См.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 2. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. С. VI.]. Продвигаясь к цели, нельзя избежать ложных и кружных путей, но плутания можно и даже нужно принимать терпеливо, поскольку железный закон истории так же неисследим, как Божья воля в религиозном контексте. Вот почему иногда – в 1933 г. в Германии, а затем в конце гражданской войны в Испании – не надо было сражаться даже с фашизмом, ведь он является лишь неизбежным шагом на пути к революции и, таким образом, к желанной цели.
Опыт, из которого рождалась коммунистическая надежда, совершенно понятен. Большинство обращенных считали положение рабочих и неравенство, характерное для капиталистического общества, неприемлемыми. Но следующий шаг уже был спорным: трудно понять, почему многие интеллектуалы, особенно в «розовое десятилетие» – начиная с экономического кризиса (1929) и вплоть до пакта Гитлера–Сталина (1939) – связывали упования на достижение равенства или справедливости только с коммунистами. «Как могли эти интеллектуалы принимать догмы сталинизма?» – скептически спрашивает англичанин Кроссман. Сам Кроссман «не чувствовал даже слабого соблазна», но это и понятно: он был закоренелым противником догматизма и находил практическую политику лейбористской партии более разумной, чем религиозные посулы коммунистов. В очерке, написанном для кроссмановского сборника, чернокожий американский писатель Ричард Райт, рассказывая о своем разрыве с коммунистами, дает ощутить особую природу соблазна, переплетенного с надеждой:
В душе я знал, что больше никогда не смогу писать так же [как раньше], воспринимать жизнь так же просто и ясно, выражать столь пылкую надежду и столь безраздельно отдаваться вере.
Религия, даже суррогатная, сама по себе есть род связи. Уже корень этого слова – ligare (связывать) – указывает на то, что речь идет о лигатурах, скрепах. Религиозная вера нуждается в церкви, чтобы сделать эту связь обязательной. Коммунизм имел соответствующую организацию в виде партии. Если фашизм обещал создать мир, в котором будут восстановлены и ясно оформлены древние связи, рожденные кровью и почвой, то коммунизм предлагал определенную связь здесь и теперь – с предельно взыскательной партией, требующей практически безоговорочного, тотального подчинения. Интеллектуалы оказались в первых рядах тех, для кого эта связь была исполнением заветных желаний, и притом не «на один сезон», а, как правило, на годы, часто – на десятилетие, а то и на больший срок[iii - Для обсуждения вопроса о религиозной составляющей тоталитаризма особенно полезна статья: Hans Maier, «Deutungen totalit?rer Herrschaft 1919–1989», в Vierteljahrshefte f?r Zeitgeschichte 3/2002.].
Изображение приема в партию и последующих событий – наиболее драматичный эпизод исповеди авторов, разочаровавшихся в коммунизме. Для интеллектуала вступление в партию подразумевало отказ от двух главных жизненных ценностей – свободы и истины. Стивен Спендер, в сущности, не принадлежит к адептам бога, обманувшего ожидания, его членство в коммунистической партии продолжалось всего несколько недель зимы 1936/37 г. Зато он сумел живо – и в истинно английском стиле – показать, каких терзаний стоила интеллектуалу принадлежность к коммунистам. Партийный наставник Спендера Чалмерс советовал ему написать роман, где коммунисты изображались бы людьми глубоко несимпатичными, а капиталисты, напротив, добросердечными, но заблуждающимися с «исторической» точки зрения. Ход «истории», объяснял наставник, не зависит от доброй или злой воли и, следовательно, от добрых или злых дел, а партия – это представительница истории. Чалмерс «считал допустимыми методы, употребляемые в настоящем, поскольку возлагал надежду только на будущее, остальное его не интересовало».
Изображение Спендером радикального sacrificium intellectus[3 - Отказ от разума (лат.).] вызывает болезненное чувство даже при чтении. «Если от пары тысяч людей [подразумеваются интеллектуалы] требуется принести в жертву интеллектуальную свободу, чтобы этой ценой дать хлеб миллионам, – то, возможно, свободой нужно пожертвовать». Та же мысль еще жестче выражена в очерке Кёстлера, всерьез подпавшего под влияние партии[b - Артур Кёстлер был членом компартии Германии с 1931 до 1938 г.]:
Партия была непогрешима логически и морально. Непогрешимой морально ее делало то, что ее цели были верны, то есть соответствовали исторической необходимости и оправдывали любые средства. А логически партия была непогрешимой потому, что являлась передовым отрядом пролетариата, а пролетариат служил воплощением исторического прогресса[4 - Цит. по: Рыклин М. Коммунизм как религия. Интеллектуалы и Октябрьская революция. М.: Новое литературное обозрение, 2009 (https://www.rulit.me/books/kommunizm-kak-religiya-read-504682-36.html).].
Как видим, обращенные учились оправдывать перед собой и другими любые тактические извороты партии. В результате они все больше отдалялись от простых ценностных представлений, которые привели их в партию, и то, что поначалу было соблазном, быстро превращалось в опутывающие силки. Психолог Манес Шпербер[c - Манес Шпербер был учеником Адольфа Адлера, его первая научная работа – реферат «Психология революционера».] описывает этот процесс как «надличностное принуждение», заключавшееся в том, что партиец, «преследуя и подвергаясь преследованию, вынужден ходить по замкнутому кругу вокруг коммунизма».
Франсуа Фюре описывает судьбу «уверовавших и разочаровавшихся» на примере историй трех интеллектуалов – Пьера Паскаля, Бориса Суварина и Георга Лукача[d - Пьер Паскаль (1890–1983) – филолог-славист, с 1916 по 1927 г. жил в России, вел ежедневный дневник, который и анализирует Фюре в своем очерке. Борис Суварин (1895–1984) – журналист, писатель, основатель Французской компартии. Георг (Дьёрдь) Лукач (1885–1971) – один из основоположников «неомарксизма»», с 1929 по 1945 г. жил в Москве.]. В кризисные времена партия большевиков стала для всех троих «надежной гаванью и одновременно тюрьмой». «Политическая свобода не имеет большой ценности, когда люди находят в восстановленном и сохраненном равенстве новую мораль братства, возвещенную Христом и преданную миром денег»[5 - Из очерка о Пьере Паскале. Ср.: Фюре. Прошлое одной иллюзии (https://russia-west.ru/viewtopic.php?id=1007).].
Сплоченность вокруг партии и тем самым вокруг коммунистического движения – в двойном значении слова: политической организации и хода истории – была настолько тесной и прочной, что разрыв становится травматическим опытом для любого отступника. С коммунизмом порвало большинство упомянутых выше интеллектуалов, и многие переживали этот разрыв так же тяжело, как Ричард Райт. В истории фашизма, включая национал-социализм, едва ли удастся отыскать что-то схожее. Бесспорно, уже в 1934 г. бывшие энтузиасты часто испытывали разочарование. Они отдалились от нацистов, перейдя к молчаливому попутничеству, к тем или иным формам внутренней эмиграции. Но оппортунистический вариант оставался для них по-прежнему доступным. В случае коммунизма подобного не происходило и, более того, не могло происходить. Требование подчинения с самого начала носило абсолютный характер, отказ подчиняться мог стоить жизни. Это было объективной реальностью для всех, кто попал в сферу советского влияния, и субъективной – для тех, кому пришлось признать, что они, по словам Кёстлера, «разделили ложе с иллюзией», как в библейском рассказе об Иакове, Рахили и Лии. По-своему излагает причины, мешавшие порвать с коммунистической партией, Иньяцио Силоне: «Что-то все равно остается и накладывает на характер человека печать, которую нельзя изгладить до конца дней. Бывших коммунистов на удивление легко узнать. Они образуют особую категорию людей, как вышедшие за штат священники и отставные офицеры».