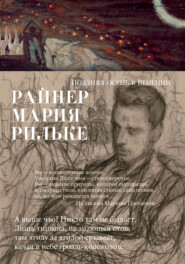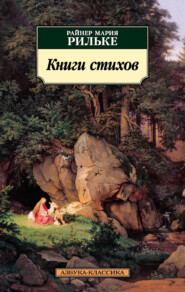По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вдруг откуда-то крик.
В тот же миг
разрывается сон.
Нет. Не кычет сова. Впереди
одинокое дерево: Освободи!
И он видит: там вздыблено что-то. Вздыблено тело, юное женское тело,
голое, все в крови,
молит – веревки порви!
И он прыгает в черную зелень,
он рубит горячие путы,
и горит ее взор.
И оскалены зубы.
Неужто смеется?
В седло. Мчать.
В сердце ударил страх.
Но кулак с кровавой веревкой он не смеет разжать.
Фон Лангенау задумался. Он пишет письмо. Медленно он выводит большими буквами, строгими и прямыми:
«Дорогая матушка,
гордитесь: я несу знамя,
не тревожьтесь: я несу знамя,
любите меня: я несу знамя».
Потом он прячет письмо под мундир, в сокровенное место, туда, где лежит уже розовый лепесток. Он думает: скоро оно тоже будет пахнуть розой. И думает: быть может, кто-то найдет его… И думает: ведь враг уже близко…
Кони топчут убитого крестьянина. Глаза у крестьянина распахнуты, и в них отражается что-то; нет, это не небо. Потом воют собаки. Значит, скоро наконец-то жилье. Над домишками каменно высится замок. Широко перед ним стелется мост. Просторны ворота. Пронзителен рог. Чу! Крики, звон и собачий лай! Кони ржут, и копыта гремят.
Отдохнуть! Погостить. Наконец-то не думать о том, чем набить себе брюхо. Дать покой изнуренному слуху. Предаться тому, что случится. Что будет – то благо. Пусть разляжется вольно отвага на нежном шитье покрывала. Ты сейчас не солдат. Разметать свои локоны смело, свободно по свободному воротнику. Раскинуться в креслах. Чтобы пело блаженно все тело, раскинуться – после купанья. И заново постигать, что суть эти женщины. Что за повадка у белых и каковы голубые; и что за ладони у них, и как переливчат их смех, когда пажи светлокудрые, склоняясь под тяжестью чаш, им подносят плоды.
Обедом начиналось. И так нежданно обернулось балом. Огни мерцали, голоса порхали, звон хрусталя был в песнях, и речах, и в блеске глаз. И все пустились в пляс. По залам бушевало море. Найти себя в приветом милом взоре, там утонуть, исчезнуть, потерять себя и вновь искать по залам, залам, в темный сад бежать и, словно в колыбели, качаться в неясности ветров, дремавшей в них доселе и взбудораженной смятением шелков.
От темного вина и тысяч роз час опрометью мчится в ночь и в сон.
И некто лишь стоит, не смея шелохнуться, боясь очнуться, сна распутать сети; ведь только в снах есть женщины, как эти, из серебра бесед они плетут мгновенья, их каждое движенье, как складка, на парчу легло, и если они руки подымают, то будто розы обрывают там где-то, где и не бывает роз. Ты этого не встретишь въяве – и пусть, и настигает вдруг мечта о славе. Венца давно ждало чело.
Некто в белых шелках понимает, что проснуться он не может; он не спит, он ошарашен, он объят явью. И пугливо он прячется в сон: вот он стоит в парке, он стоит один, он один в черном парке. Бал далеко. Огни обманны, а ночь рядом, она прохладна и близка. И он спрашивает у склоненной к нему женщины:
– Кто ты? Ты – ночь?
И она улыбается.
А ему вдруг стыдно своих белых шелков.
Подальше бы отсюда, снова стоять одному, в латах.
С ног до головы в латах.
……………………………………………………………
– Ты забыл? Ты ведь сегодня мой паж! Ты бросаешь меня? Ты уходишь? Ты мой в этих белых шелках…
……………………………………………………………
– Неужто соскучился по своему шершавому мундиру?
……………………………………………………………
– Замерз? Или по дому тоскуешь?
Улыбается графиня.
Нет. Просто детство вдруг скользнуло с плеч, мягкое, темное платье детства. Но кто же снял его?
– Ты?
И он не узнает собственного голоса.
– Ты!
И вот он уже ничем не облечен. Он стоит как святой. Стройный, голый, светлый.
Постепенно гаснут в замке огни. Всем хочется лечь: все устали, кто влюблен, кто и пьян. После стольких долгих, пустых и походных ночей вдруг – в кроватях. В широких дубовых кроватях. Здесь и молитва – не то что в мерзлой канаве, куда ложишься спать, как ложишься в гроб.
– Да будет, Господи, воля твоя!
Молитва в кровати короче.
Но истовей.
В том покое, в башне, темно.
Но они озаряют улыбками лица друг другу. Ощупью, будто слепцы, они ищут друг друга, как дверь. Они жмутся друг к другу, словно дети перед призраком ночи. Но они ничего не боятся. Что им может грозить? Нет ни вчера, ни потом. Время рухнуло. И они цветут из развалин.
Он не спросит ее: «Кто твой муж?»
Ни она его: «Кто ты?»
Ведь они повстречались во основание нового рода. Они одарят друг друга тысячей новых имен и опять заберут их себе, тихонько, как вынимают серьгу.
В прихожей на стуле висит портупея, мундир и плащ фон Лангенау. Перчатки валяются на полу. Знамя застыло, приткнувшись к оконной раме. Гроза за окном разрубает ночь в черные и белые клочья. Долгой молнией несется по небу лунный луч, и мечется по полу тень недвижного знамени. Знамя спит.
Что это? Окно распахнулось? Гроза ворвалась? Отчего так хлопают двери? Кто бродит по дому? Ну и пусть. Все равно. Никому не проникнуть в тот дальний покой. Там, за сотней дверей – огромный сон, двое делят его, и он единит их, как одна мать, как одна смерть.
В тот же миг
разрывается сон.
Нет. Не кычет сова. Впереди
одинокое дерево: Освободи!
И он видит: там вздыблено что-то. Вздыблено тело, юное женское тело,
голое, все в крови,
молит – веревки порви!
И он прыгает в черную зелень,
он рубит горячие путы,
и горит ее взор.
И оскалены зубы.
Неужто смеется?
В седло. Мчать.
В сердце ударил страх.
Но кулак с кровавой веревкой он не смеет разжать.
Фон Лангенау задумался. Он пишет письмо. Медленно он выводит большими буквами, строгими и прямыми:
«Дорогая матушка,
гордитесь: я несу знамя,
не тревожьтесь: я несу знамя,
любите меня: я несу знамя».
Потом он прячет письмо под мундир, в сокровенное место, туда, где лежит уже розовый лепесток. Он думает: скоро оно тоже будет пахнуть розой. И думает: быть может, кто-то найдет его… И думает: ведь враг уже близко…
Кони топчут убитого крестьянина. Глаза у крестьянина распахнуты, и в них отражается что-то; нет, это не небо. Потом воют собаки. Значит, скоро наконец-то жилье. Над домишками каменно высится замок. Широко перед ним стелется мост. Просторны ворота. Пронзителен рог. Чу! Крики, звон и собачий лай! Кони ржут, и копыта гремят.
Отдохнуть! Погостить. Наконец-то не думать о том, чем набить себе брюхо. Дать покой изнуренному слуху. Предаться тому, что случится. Что будет – то благо. Пусть разляжется вольно отвага на нежном шитье покрывала. Ты сейчас не солдат. Разметать свои локоны смело, свободно по свободному воротнику. Раскинуться в креслах. Чтобы пело блаженно все тело, раскинуться – после купанья. И заново постигать, что суть эти женщины. Что за повадка у белых и каковы голубые; и что за ладони у них, и как переливчат их смех, когда пажи светлокудрые, склоняясь под тяжестью чаш, им подносят плоды.
Обедом начиналось. И так нежданно обернулось балом. Огни мерцали, голоса порхали, звон хрусталя был в песнях, и речах, и в блеске глаз. И все пустились в пляс. По залам бушевало море. Найти себя в приветом милом взоре, там утонуть, исчезнуть, потерять себя и вновь искать по залам, залам, в темный сад бежать и, словно в колыбели, качаться в неясности ветров, дремавшей в них доселе и взбудораженной смятением шелков.
От темного вина и тысяч роз час опрометью мчится в ночь и в сон.
И некто лишь стоит, не смея шелохнуться, боясь очнуться, сна распутать сети; ведь только в снах есть женщины, как эти, из серебра бесед они плетут мгновенья, их каждое движенье, как складка, на парчу легло, и если они руки подымают, то будто розы обрывают там где-то, где и не бывает роз. Ты этого не встретишь въяве – и пусть, и настигает вдруг мечта о славе. Венца давно ждало чело.
Некто в белых шелках понимает, что проснуться он не может; он не спит, он ошарашен, он объят явью. И пугливо он прячется в сон: вот он стоит в парке, он стоит один, он один в черном парке. Бал далеко. Огни обманны, а ночь рядом, она прохладна и близка. И он спрашивает у склоненной к нему женщины:
– Кто ты? Ты – ночь?
И она улыбается.
А ему вдруг стыдно своих белых шелков.
Подальше бы отсюда, снова стоять одному, в латах.
С ног до головы в латах.
……………………………………………………………
– Ты забыл? Ты ведь сегодня мой паж! Ты бросаешь меня? Ты уходишь? Ты мой в этих белых шелках…
……………………………………………………………
– Неужто соскучился по своему шершавому мундиру?
……………………………………………………………
– Замерз? Или по дому тоскуешь?
Улыбается графиня.
Нет. Просто детство вдруг скользнуло с плеч, мягкое, темное платье детства. Но кто же снял его?
– Ты?
И он не узнает собственного голоса.
– Ты!
И вот он уже ничем не облечен. Он стоит как святой. Стройный, голый, светлый.
Постепенно гаснут в замке огни. Всем хочется лечь: все устали, кто влюблен, кто и пьян. После стольких долгих, пустых и походных ночей вдруг – в кроватях. В широких дубовых кроватях. Здесь и молитва – не то что в мерзлой канаве, куда ложишься спать, как ложишься в гроб.
– Да будет, Господи, воля твоя!
Молитва в кровати короче.
Но истовей.
В том покое, в башне, темно.
Но они озаряют улыбками лица друг другу. Ощупью, будто слепцы, они ищут друг друга, как дверь. Они жмутся друг к другу, словно дети перед призраком ночи. Но они ничего не боятся. Что им может грозить? Нет ни вчера, ни потом. Время рухнуло. И они цветут из развалин.
Он не спросит ее: «Кто твой муж?»
Ни она его: «Кто ты?»
Ведь они повстречались во основание нового рода. Они одарят друг друга тысячей новых имен и опять заберут их себе, тихонько, как вынимают серьгу.
В прихожей на стуле висит портупея, мундир и плащ фон Лангенау. Перчатки валяются на полу. Знамя застыло, приткнувшись к оконной раме. Гроза за окном разрубает ночь в черные и белые клочья. Долгой молнией несется по небу лунный луч, и мечется по полу тень недвижного знамени. Знамя спит.
Что это? Окно распахнулось? Гроза ворвалась? Отчего так хлопают двери? Кто бродит по дому? Ну и пусть. Все равно. Никому не проникнуть в тот дальний покой. Там, за сотней дверей – огромный сон, двое делят его, и он единит их, как одна мать, как одна смерть.