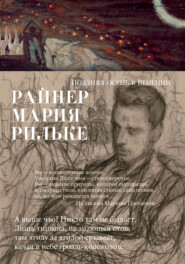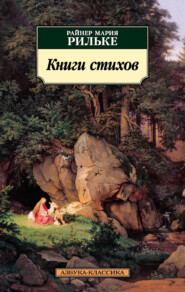По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Победивший дракона
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И никого и ничего нет, и ездишь по миру с чемоданом и ящиком книг и, в сущности, без любопытства. Ну, какая же это, в сущности, жизнь: без дома, без унаследованных вещей, без собак. Были бы, по крайней мере, собственные воспоминания. Но разве они есть? Было бы, по крайней мере, детство, а то и оно как закопанное. Наверное, надо быть старым, чтобы дойти до всего этого. Я думаю, мне это подходит: быть старым.
* * *
Сегодня прекрасное осеннее утро. Я шел по Тюильри[15 - Сад между Лувром и площадью Согласия, разбитый на месте сгоревшего в дни Парижской коммуны (1871) дворца (1564–1670), одной из резиденций французских королей.]. Все, что находилось перед востоком, напротив солнца, слепило. Освещенное завешивал туман, как светло-серый занавес. Серые на сером, грелись на солнце статуи в еще не обезлиствевшем саду. Отдельные цветы на длинных грядках просыпались и говорили: красный – испуганным голосом. Потом из-за угла, от Елисейских полей появился очень высокий и стройный мужчина; он шел с костылем, не подводя его под плечо, – держал костыль перед собой, легко, и время от времени ставил его прочно и со стуком, как жезл герольда. Он не мог сдержать улыбку радости и, ни на кого не глядя, улыбался солнцу и деревьям. Его шаг был боязлив, как шаг ребенка, но необычно легок и преисполнен воспоминаний о прежней ходьбе.
* * *
Да уж, маленькая луна может все. У нее свои дни, где вокруг все светло, легко, едва подано в светлом воздухе и все-таки отчетливо. У ближайшего уже оттенок дали, оно отнято и только показано, но не протянуто; а то, что имеет отношение к простору – река, мосты, длинные улицы и площади, которые безрассудно себя расточают, все, что этот простор разместил позади себя, нарисовано на нем, как на шелке. И не сказать, чем может потом оказаться светло-зеленая карета на мосту Pont-neuf [16 - Pont-neuf (фр. Новый мост) связывает западную оконечность острова Сите с левым и правым берегами Сены.], или нечто красноватое, чего не удержать, или даже афиша на брандмауэре жемчужно-серого строения со многими крышами и общей фронтальной стеной. Все упрощено, нанесено на несколько правильных светлых планов, как лицо на картине Моне. И ничто не ничтожно, и ничто не избыточно. Букинисты на набережной открывают свои ящики, и свежая или попользованная желтизна книг, фиолетовая смуглость томов, преобладающая зелень папок – все согласуется, годится, принимает участие и создает полноту, где ничего и ничто не отсутствует.
* * *
А внизу следующий подбор: небольшая ручная коляска, ее толкает женщина; спереди, на коляске, шарманка в длину. Сзади, поперек, детская корзинка, где совсем крохотуля стоит на прочных ножках, довольный, в своем чепце, и не дает себя посадить. Время от времени женщина заводит свою заунывную песню. И крохотуля тотчас принимается снова топать в своей корзинке, а маленькая девочка в зеленом воскресном платье тянет руки к окнам, танцует и бьет в тамбурин.
* * *
Я думаю, что мне нужно начинать что-то делать, теперь, когда я учусь видеть. Мне двадцать восемь, и даже хорошо, что ничего особенного не произошло. Переберем: я написал этюд о Карпаччо, и этюд плох, одну драму, которая называется «Супружество», где я нечто фальшивое хочу обосновать двусмысленными средствами, и стихи. Ах, но в стихах получится немного, если их пишешь с ранних лет. Со стихами нужно повременить, и смысл и сладость собираются в течение всей жизни, и по возможности – долгой, и совсем уж в конце, может быть, удастся написать десять строк действительно хороших. Потому что стихи – это не чувства, как думают люди (их, чувств, в молодости предостаточно): это опыты. Ради одной строчки нужно увидеть много городов, людей и вещей, нужно узнать животных, нужно чувствовать, как птицы летят, и знать жесты маленьких цветов, когда они открываются по утрам. Нужно уметь вспоминать о дорогах в незнакомых краях, о неожиданных встречах и расставаниях, давно и с грустью предвиденных, – о днях детства, еще до конца не проясненных, о родителях, сожалея, что их приходилось обижать, когда они дарили радость, а их не понимали (кого-нибудь другого она бы обрадовала), вспоминать о детских болезнях, начинающихся всегда так странно и с таким множеством глубоких и тяжелых превращений, о днях в тихих уютных комнатах и об утрах у моря, о море вообще, о морях, о ночных путешествиях, когда они высоко и с затихающим шелестом пролетали вместе со всеми звездами, – и этого еще недостаточно, если даже обо всем этом можешь думать. Нужно иметь воспоминания о многих любовных ночах, когда ни одна из них не похожа на другую, о криках рожениц и о легких, белых спящих женщинах, только что разрешившихся от бремени. Но нужно еще побыть при умирающих, нужно посидеть около покойника в комнате с открытым окном и прерывистыми уличными шумами. Но этого еще недостаточно – иметь воспоминания. Нужно уметь их забыть, если их много. И нужно большое терпение, чтобы ждать, когда они вернутся снова. Поскольку эти воспоминания, собственно, еще не суть. Лишь когда они в нас становятся кровью, взглядом и жестом, безымянно и уже неотличимо от нас самих, – лишь тогда может случиться, что в какой-то очень редкий час первое слово стиха зародится в их середине и выйдет из них.
Все мои стихи возникли иначе – значит, их нет. И когда я писал свою драму, как же я там блуждал! Был ли я подражателем и глупцом, если нуждался в третьем, чтобы рассказывать о судьбе двоих, когда они друг другу в тягость? Как ловко я попался в ловушку! А ведь мне надо бы знать, что этот третий, тот самый, кто проходит сквозь все жизни и литературы, – это призрак третьего, коего никогда не было, и он никакого значения не имеет, его нужно просто не признавать. Он относится к отговоркам природы, потому что природа всегда старается отвлечь внимание людей от своих глубочайших тайн. Он – прикрытие в виде ширмы, за которой разыгрывается драма. Он – шум при входе в безголосую тишину действительного конфликта. Можно подумать, что всем до сих пор слишком тяжело говорить о двоих, о ком, собственно, и идет речь; третий, именно потому, что он такой нереальный, и есть та самая легкость задачи, когда ответ знают все. Сразу в начале всех драм замечаешь нетерпение поскорей подойти к третьему, они его уже ждут не дождутся. Как только он появляется, все хорошо. Но как скучно, если он запаздывает, без него решительно не может ничего произойти, все стоит, застопоривается, ждет. А ну как все при этом заторе и выжидании останется? Как, господин драматург и ты, публика, знающая жизнь, как быть, если он уже пропал без вести, этот излюбленный прожигатель жизни или этот мнящий о себе слишком много молодой человек, который во все супружества вставляется как отмычка? Как быть, если его, например, подрал черт? Давайте предположим. Сразу настораживает противоестественная театральная пустота, ее замуровывают, как опасную дыру, только моль из окантовки лож шатко переступает по несостоятельному пространству, где не на что опереться. Драматурги не наслаждаются больше своими роскошными городскими особняками. Все частные сыщики ищут для них в удаленных частях мира того самого невосполнимого, кто, собственно, и был всем театральным действием.
И при этом они живут среди людей, не эти «третьи», но те самые двое, о ком так немыслимо много можно было бы сказать. О ком еще никогда и ничего так и не сказали, хотя они страдают и действуют, и не знают, как себе помочь.
Это смешно. Я сижу здесь, в моей маленькой комнате, я, Бригге, двадцати восьми лет от роду и о ком никто не знает. Я сижу здесь, и я – ничто. И все же это ничто начинает думать и думает, на пятом этаже, на исходе серого парижского дня, вот что.
Разве возможно, думает, что еще ничего действительного и важного не увидено, не узнано и не сказано? Разве это возможно, располагая тысячами лет времени, чтобы смотреть, размышлять и запечатлевать, дать пройти этим тысячам лет мимо, как школьной перемене, успев только съесть свой бутерброд и яблоко?
Да, это возможно.
Разве возможно, несмотря на изобретения и прогресс, несмотря на культуру, религию и мировую мудрость, оставаться на поверхности жизни? Разве это возможно, что даже эту поверхность, что-то собой тем не менее все же представлявшую, обтянули невероятно скучной материей, так что она выглядит как салонная мебель во время летних отпусков?
Да, это возможно.
Разве возможно, что вся мировая история превратно понята? Разве возможно, что прошлое лживо, потому что всегда говорили о массах, именно как если бы рассказывали о сбежавшемся множестве людей, вместо того чтобы сказать об одном, вокруг которого они стояли, потому что он был чужой и умер?
Да, это возможно.
Разве возможно, чтобы считать, что необходимо наверстывать то, что происходило до того, как мы родились? Разве это возможно, чтобы каждый отдельный человек помнил, что он возник из всех ранее живших, то есть знал бы это и обязался не поддаваться никаким возражениям других, которые знали нечто другое?
Да, это возможно.
Разве возможно, что все эти люди совершенно точно знают прошлое, которого никогда не было? Разве это возможно, что все действительное для них ничто; что их жизнь идет, не связанная ни с чем, как часы в пустой комнате?
Да, это возможно.
Разве возможно ничего не знать о девушках, тогда как они все-таки живут? Разве это возможно – говорить «женщины», «дети», «мальчики» и не подозревать (при всей образованности не подозревать), что эти слова давно не имеют никакого множественного числа и у них только неисчислимое единственное число?
Да, это возможно.
Разве возможно, что есть люди, которые говорят «Бог» и считают, что это нечто общее для всех? – А посмотри лишь на двух школьников: один покупает себе перочинный нож, а его сосед по парте – точно такой же, в тот же самый день. И через неделю они сравнивают ножи, и оказывается, что между ножами лишь отдаленное сходство – такими разными они стали в разных руках. (Да, говорит мать одного из них: если бы вы тоже всегда все одинаково затупляли.) Ах, так: разве возможно поверить, что у всех один Бог, не пользуясь им?
Да, это возможно.
Но если все это возможно, даже если есть только кажущаяся возможность, – тогда должно же, ради всего святого, что-то произойти. Первый, тот, кого эта беспокойная мысль донимает, должен начать что-то из упущенного делать; даже если он какой-нибудь не самый подходящий: другого-то ведь нет. Этот молодой, без претензий, иностранец, Бригге, должен усесться на пятом этаже и писать день и ночь, да, он должен будет писать, и – все.
* * *
Мне тогда было лет двенадцать или, самое большее, тринадцать. Мой отец взял меня с собой в Урнеклостер[17 - Родовое гнездо старинного графского рода Урне, находящегося через Софию Урне (1629–1714) в родстве с династией графов фон Ольденбург, королей Дании в 1448–1863 гг. и Норвегии в 1448–1814 гг.]. Я не знаю, что его побудило проведать своего тестя. Они не виделись много лет – со дня смерти моей матери, и отец еще никогда не бывал в старом замке, куда граф Брахе удалился от дел уже в преклонных летах. Достопримечательный дом я уже больше никогда не видел: когда умер мой дедушка, дом перешел в чужие руки. Как ни старательно я восстанавливаю его в своих детских воспоминаниях, он не представляется одним зданием; во мне он совершенно разделен; тут помещение, там помещение и здесь кусок коридора, и он оба эти помещения никак не соединяет, а сохраняется сам по себе, как фрагмент. Подобным же образом во мне разбросано все – комнаты, лестницы, спускающиеся с такой возвышенной медлительностью, и другие – узкие, винтовые деревянные лесенки, в чьей темноте идешь, как кровь по жилам; башенная комната, высоко подвешенные балконы, неожиданные террасы второго этажа, куда протискиваешься через маленькую дверь, – все это еще во мне и никогда не перестанет пребывать во мне. Как если бы представление об этом доме низвергнулось в меня с бесконечной высоты и где-то на моем дне распалось на куски.
В целости сохранился в моем сердце, как мне кажется, только тот зал, где мы, по обыкновению, собирались к обеду каждый вечер в семь часов. Это помещение я никогда не видел днем, я даже не помню, есть ли там окна и куда они выходят; каждый раз, когда бы ни вступала туда вся семья, свечи уже горели в тяжелых канделябрах, и через несколько минут забываешь время дня и все, что видел во дворе. Это высокое, как я предполагаю, сводчатое помещение казалось прочней, чем все остальное. Оно своей темнеющей высотой, своими никогда полностью не проясненными углами высасывало из каждого все представления и воспоминания, ничего определенного не давая взамен. Там сидишь как растворенный – совершенно без воли, без смысла, без удовольствия и без защиты. Как пустое место. Я вспоминаю, что это уничтожающее состояние сначала вызывало во мне почти дурноту, какой-то вид морской болезни, и ее я преодолевал тем, что вытягивал ногу так, чтобы касаться колена моего отца, сидевшего напротив меня. Лишь позднее до меня дошло, что он мое столь странное поведение понял или, кажется, все же терпел, хотя между нами сложились почти прохладные отношения, и они такое поведение не проясняют. Между тем это легкое прикосновение давало мне силы выдерживать длинные трапезы. И после нескольких недель судорожной выдержки я с почти безграничной приспособляемостью ребенка настолько привык к жутковатости тех сходок, что позднее, уже не напрягаясь, мог выдержать двухчасовое сидение за столом; теперь оно проходило даже сравнительно быстро, потому что я занимался тем, что рассматривал присутствующих.
Мой дедушка называл их семьей, и я слышал, как и другие употребляли это название, на мой взгляд, совершенно произвольное, поскольку, хотя эти четыре человека и состояли в дальнем родстве, им никоим образом не следовало бы совмещаться. Дядюшка, сидевший рядом со мной, был уже стар, на его грубом и обожженном лице виднелось несколько черных пятен, как я узнал, от взрыва боевого порохового заряда; ворчливый и всем недовольный, каким его и считали, военную службу он закончил в чине майора и теперь в одном из неизвестных мне помещений замка производил алхимические опыты и, как говорили слуги, сносился с тюремной мертвецкой, откуда ему один или два раза в год доставляли трупы, после чего он на целые дни и ночи запирался, трупы изрезал и таинственным образом обрабатывал, чтобы они противостояли гниению. Напротив него всегда сидела фрейлейн Матильда Брахе. Персона неопределенного возраста, дальняя кузина моей матери; о ней никто ничего не знал, разве только то, что она вела оживленную переписку с каким-то австрийским спиритом, называвшим себя бароном Нольде, и выказывала ему такую преданность, что не предпринимала ничего, даже самой малости, предварительно не получив его согласия или, более того, чего-то вроде его благословения. В то время она отличалась необыкновенной дородностью, и ее мягкая, вялая полнота как бы вливалась в свободные светлые платья; ее движения казались утомленными и неопределенными, а ее глаза постоянно слезились. И, несмотря на это, в ней было что-то такое, что напоминало мне мою нежную и стройную мать. Я, чем больше ее рассматривал, находил в ее лице все утонченные и тихие черты, которые не мог бы как следует вспомнить после смерти моей матери; лишь теперь, когда я ежедневно видел Матильду Брахе, я снова знал, как выглядела умершая; да, я узнал это, может быть, впервые. Лишь теперь из сотен и сотен мелочей во мне складывался образ покойной, тот образ, который меня повсюду сопровождает. Позднее мне стало ясно, что в лице фрейлейн Брахе наличествовали все мелочи, определявшие черты моей матери, – они только были расставлены порознь, искажены и больше не связаны друг с другом, как если бы в промежутках между ними поместили чужое лицо.
Рядом с этой дамой сидел маленький сын кузины, мальчик приблизительно одного возраста со мной, но поменьше ростом и послабей. Из плиссированного воротника выглядывала тонкая бледная шея и пропадала под удлиненным подбородком. Губы узкие и плотно сжатые, крылья носа слегка дрожат, прекрасные карие глаза, но подвижен только один. Иногда этот глаз спокойно и печально смотрел на меня, в то время как другой уставлялся в один и тот же угол, как если бы он был продан и больше во внимание не принимался.
Во главе стола возвышалось чудовищно огромное кресло моего деда, и слуга, ничего иного не делавший, это кресло ему пододвигал, и в нем старик занимал лишь незначительное пространство. Одни называли этого тугоухого и властного старого господина «ваше превосходительство» и «гофмаршал», другие титуловали его генералом. Он, конечно, имел все эти звания, но с той поры, когда он занимал какие-то должности, прошло столько времени, что теперь эти обращения едва ли кто понимал. Мне же вообще казалось, что к его личности, в известные моменты так резко очерченной и все же снова и снова размытой, растворенной, не подошло бы никакое определенное имя или звание. Я никогда не решался назвать его дедушкой, хотя он иногда относился ко мне доброжелательно, даже подзывал меня к себе, причем пытался придать моему имени шутливое звучание. Впрочем, в отношении всей семьи к графу замечалась некая смесь преклонения и страха, и только маленький Эрик жил в известной доверительности к седовласому хозяину дома; его подвижный глаз иногда быстро и к полному взаимопониманию бросал взор на деда, который так же быстро и тем же отвечал ему; иногда в долгие послеобеденные часы деда и внука видели в конце глубокой картинной галереи и наблюдали, как они, рука в руке, ходили вдоль темных старых портретов, не разговаривая, но явно понимая друг друга каким-то другим способом.
Я почти целыми днями пропадал в парке и за его пределами, в буковых лесах или на лугу; к счастью, в Урнеклостере держали собак, и они меня сопровождали; тут и там встречались дома арендаторов земли или фермы, где я мог утолить голод молоком, хлебом и фруктами, и думаю, что я наслаждался своей свободой довольно беззаботно и, по крайней мере, уже в следующие недели не пугался при мысли о вечерних обеденных сходах. Я почти ни с кем не разговаривал, потому что как раз радовался, что одинок; лишь с собаками у меня время от времени происходили короткие беседы: мы прекрасно понимали друг друга. Вообще-то молчаливость – наша фамильная особенность; я знал о ней по моему отцу, и меня не удивляло, что за ужином почти не разговаривали.
В первые дни после нашего приезда Матильда Брахе казалась крайне разговорчивой. Она расспрашивала отца о прежних знакомых в заграничных городах, она вспоминала о давних впечатлениях, она почти до слез растрогалась, когда заговорила об умерших подругах и одном известном молодом человеке, давая понять, что он ее любил, но она не могла ответить на его постоянную и безнадежную благосклонность. Мой отец вежливо слушал, время от времени наклонял, соглашаясь, голову и отвечал лишь при крайней необходимости. Граф во главе стола постоянно улыбался стиснутыми и растянутыми губами, его лицо казалось крупнее, чем на самом деле, как если бы он надел маску. Иногда он и сам вставлял слово, причем его голос ни к кому не относился, но, при всей своей тихости, слышался во всем зале; в его голосе улавливалось нечто от равномерного и непричастного тиканья часов; тишина вокруг этого голоса, казалось, имеет собственный пустой резонанс, для каждого слога одинаковый.
Граф Брахе считал, что проявляет к моему отцу особую учтивость, заводя с ним разговор о его покойной супруге, моей матери. Он называл ее графиней Сивиллой, и все его фразы заканчивались так, как если бы он спрашивал о ней. Сам не знаю почему, но мне всегда казалось, что речь идет о совсем молодой девушке в белом, которая в любой момент может к нам войти. В таком же тоне, я слышал, он говорит о «нашей маленькой Анне Софи»[18 - Анна Софи Ревентлов (1693–1743); в 1712 г. король Дании и Норвегии Фридрих IV (1699–1730) заключил с ней тайный брак и стал двоеженцем. Когда законная королева умерла, через девять лет Фридрих IV женился на Анне Софи во второй раз и сделал ее королевой.]. И когда я однажды спросил об этой фрейлейн, поскольку мне показалось, что она особенно мила дедушке, то узнал, что он имел в виду дочь великого канцлера Конрада Ревентлова, некогда морганатическую супругу Фридриха Четвертого, уже почти полтора века покоящуюся в Роскилле[19 - Роскилле – собор XII века в Восточной Дании, где хоронили членов королевской семьи.]. Хронологический порядок не играл для него никакой роли, смерть ему казалась мелким инцидентом, и он ее совершенно игнорировал; персоны, однажды включенные им в свою память, существовали, и в этом смысле их умирание не могло изменить даже малости. Много лет спустя после смерти старого господина рассказывали, что он и будущие события воспринимал с тем же своеволием – как настоящие. Как-то одной известной молодой женщине он рассказывал о ее сыновьях, в особенности о путешествиях одного из них, в то время как молодая дама, находясь на третьем месяце своей первой беременности, сидела рядом с непрерывно говорящим стариком, почти обезумев от страха и ужаса.
Но в тот раз все началось с того, что я рассмеялся. Да, я громко рассмеялся и никак не мог успокоиться. Дело в том, что как-то вечером за столом отсутствовала именно Матильда Брахе. Старый, почти ослепший слуга, когда подошел к ее пустому стулу, все же предложил блюдо. Какое-то время слуга оставался в склоненной позе, после чего удовлетворенно и полный достоинства, как если бы все было в порядке, пошел с подносом дальше. Я наблюдал за этой сценой, и в тот момент, когда я ее видел, она мне казалась совсем не смешной. Но какое-то время спустя, как раз когда я засунул кусок чего-то в рот, смех так быстро меня разобрал, что я поперхнулся и вызвал большой шум. И несмотря на то, что ситуация меня самого удручала, несмотря на то, что я всеми способами старался стать серьезным, смех сотрясал меня снова и снова и полностью властвовал надо мной.
Мой отец, стараясь замаскировать мое поведение, спросил своим растянутым глуховатым голосом: «Разве Матильда больна?» Дедушка засмеялся в своей обычной манере и ответил некоей фразой, но я, занятый сам собой, тогда в нее не вник; фраза приблизительно гласила: «Нет, она лишь не хочет встречаться с Кристиной». Поэтому я не увидел последствия этих слов в том, что мой сосед, обгоревший майор, поднялся и, невнятно пробормотав извинение и поклонившись в сторону графа, покинул зал. Мне лишь бросилось в глаза, что за спиной хозяина дома, в дверях, он еще раз обернулся и стал кивать маленькому Эрику и, к моему большому удивлению, мне тоже, как если бы он просил нас последовать за ним. Я настолько поразился, что мой смех, так меня тяготивший, сразу прекратился. В остальном же уход майора меня нисколько не коснулся; он был мне неприятен, и к тому же я отметил, что маленький Эрик не обращает на него никакого внимания.
Трапеза, как всегда, тащилась своим чередом и добралась до десерта, когда мои взгляды сцапало и удержало некое движение, возникшее в конце зала, в полутьме. Там медленно отворилась всегда закрытая, как я считал, дверь, ведущая, как мне говорили, на антресоль, и теперь, когда с совершенно новым чувством любопытства и смятения я смотрел туда, из темноты дверного раствора выступила стройная, одетая в светлое дама и медленно направилась к нам. Не знаю, совершил ли я какое-нибудь неловкое движение или издал какой-нибудь звук, но шум падающего стула заставил меня оторвать взор от странной фигуры, и я увидел моего отца, который вскочил и теперь, мертвенно бледный, с напряженно сжатыми и уроненными кулаками, направился к даме. Между тем она, совершенно несоприкосновенная с этой сценой, двигалась к нам, шаг за шагом, и оказалась уже недалеко от графа, когда он рывком поднялся, схватил моего отца за руку, притянул его назад, к столу, и держал, в то время как посторонняя дама медленно и безучастно следовала по освободившемуся пространству, шаг за шагом, сквозь неописуемую тишину, в которой где-то, дрожа, звенел бокал, и пропала в дверях с противоположной стороны зала. В это мгновение я заметил, что это был маленький Эрик, и он с глубоким поклоном закрыл двери за неизвестной дамой.
Я единственный, кто остался сидеть за столом; я сделался таким тяжелым в моем кресле, что, как мне казалось, никогда не смогу один подняться. Некоторое время я смотрел, не видя. Затем проявился отец, и я обнаружил, что старик все еще крепко держит его за руку. Лицо моего отца теперь стало гневным, налилось кровью, но дед, чьи пальцы, как белая когтистая лапа, охватили руку моего отца, улыбался своей маскообразной улыбкой. Затем я услышал, как отец что-то сказал, слог за слогом, и я не мог понять смысла его слов. Тем не менее они глубоко запали в мой слух, и однажды, около двух лет назад, в один из дней, роясь в своих воспоминаниях, я эти слова нашел и с тех пор их знаю. Отец сказал: «Ты вспыльчив, камергер, и невежлив. Почему ты не позволяешь людям идти по своим делам?» «Кто это?» – закричал мой отец немного раньше. «Тот, кто, конечно, имеет право здесь находиться. Никакая не посторонняя. Кристина Брахе». – И снова установилась та самая странно тонкая тишина, и снова начал дрожать бокал. А мой отец каким-то движением вырвался и бросился из зала.
Я слышал, как он в своей комнате всю ночь ходил взад-вперед; я тоже не мог заснуть. Но вдруг ближе к утру очнулся от какого-то подобия сна и с ужасом, парализовавшим меня до самого сердца, увидел нечто белое, сидевшее на краю моей кровати. Мое отчаянье наконец дало мне силы хотя бы для того, чтобы спрятать голову под одеяло, и там от страха и беспомощности я заплакал. Вдруг над моими плачущими глазами стало прохладно и светло; я плотно зажмурился, чтобы не видеть ничего над слезами. Но теперь голос с совсем близкого расстояния вшептывался в меня, тепловато и сладко ласкался к моему лицу, и я узнал его: голос фрейлейн Матильды. Я сразу успокоился, а она, несмотря на то что я был уже совершенно спокоен, продолжала меня утешать; хотя я чувствовал, что доброта эта слишком уж размягченная, но все же наслаждался ею и думал, что я ее все-таки заслужил. «Тетя, – сказал я наконец и попытался в ее расплывчатом лице уловить черты моей матери. – Тетя, кто эта дама?»
«Ах, – сказала фрейлейн Брахе со вздохом, показавшимся мне смешным, – несчастная, мальчик мой, несчастная».
Утром того же дня я заметил в комнате нескольких слуг, занятых упаковкой. Я подумал, что мы уезжаем, и находил совершенно естественным, что мы теперь же уедем. Может быть, это и являлось намереньем моего отца. Я никогда не узнаю, что побудило его после того вечера остаться в Урнеклостере. Но мы не уехали. Мы задержались еще на восемь или девять недель в этом доме, переносили гнет его странностей и еще трижды видели Кристину Брахе.
Я тогда ничего не знал про ее историю. Не знал, что она давным-давно умерла при вторых родах, разрешаясь мальчиком, и со временем он вырос для трагической и жестокой судьбы, – я не знал, что она покойница. Но мой отец знал. Хотел ли он, при всей своей азартности склонный к последовательности и ясности, принудить себя, сдержанно и ни о чем не спрашивая, перетерпеть это испытание? Я видел, не уясняя, как он боролся с собой, я это просто ощущал на самом себе, не понимая, как он в конце концов себя все-таки принудил.
Это случилось, когда мы видели Кристину Брахе в последний раз. В этот раз фрейлейн Матильда тоже явилась к столу, но она была не такая, как всегда. Как в первые дни после нашего пребывания, она говорила беспрестанно, без определенной связи и ежеминутно путаясь, и при этом в ней замечалось телесное беспокойство, и это вынуждало ее постоянно поправлять волосы или платье, – и вдруг она с резким жалобным криком вскочила и исчезла.
В тот же миг я непроизвольно посмотрел на известную дверь, и действительно: входила Кристина Брахе. Мой сосед, майор, сделал порывистое толчковое движение, вросшее в мое тело, но у самого майора явно не было никакой силы, чтобы подняться. Его обгорелое, старое, в пятнах, лицо поворачивалось от одного к другому, его рот был открыт, и язык перемещался за испорченными зубами; потом это лицо вдруг исчезло, и майорская серая голова уже лежала на столе, и его руки, как отдельные куски, лежали на ней и под ней, и откуда-то приподнималась бледная, в пятнах, кисть руки и дрожала.
И теперь мимо шла Кристина Брахе, шаг за шагом, медленно, как больная, сквозь неописуемую тишину, в которой звучал лишь один-единственный скулящий звук, как если бы выла старая собака. Но тут слева, из-за огромного серебряного лебедя, наполненного нарциссами, выдвинулась огромная маска старика с всегдашней непонятной серой усмешкой. Он, поднимая, тянул свой бокал с вином к моему отцу. И теперь я увидел, как мой отец, как раз когда Кристина Брахе проходила позади его кресла, потянулся за своим бокалом и, как нечто очень тяжелое, поднял его на ширину ладони над столом.
И в ту же ночь мы уехали.
* * *
Biblioth?que Nationale[20 - Национальная библиотека; основана в Париже в 1480 г.].
* * *
Сегодня прекрасное осеннее утро. Я шел по Тюильри[15 - Сад между Лувром и площадью Согласия, разбитый на месте сгоревшего в дни Парижской коммуны (1871) дворца (1564–1670), одной из резиденций французских королей.]. Все, что находилось перед востоком, напротив солнца, слепило. Освещенное завешивал туман, как светло-серый занавес. Серые на сером, грелись на солнце статуи в еще не обезлиствевшем саду. Отдельные цветы на длинных грядках просыпались и говорили: красный – испуганным голосом. Потом из-за угла, от Елисейских полей появился очень высокий и стройный мужчина; он шел с костылем, не подводя его под плечо, – держал костыль перед собой, легко, и время от времени ставил его прочно и со стуком, как жезл герольда. Он не мог сдержать улыбку радости и, ни на кого не глядя, улыбался солнцу и деревьям. Его шаг был боязлив, как шаг ребенка, но необычно легок и преисполнен воспоминаний о прежней ходьбе.
* * *
Да уж, маленькая луна может все. У нее свои дни, где вокруг все светло, легко, едва подано в светлом воздухе и все-таки отчетливо. У ближайшего уже оттенок дали, оно отнято и только показано, но не протянуто; а то, что имеет отношение к простору – река, мосты, длинные улицы и площади, которые безрассудно себя расточают, все, что этот простор разместил позади себя, нарисовано на нем, как на шелке. И не сказать, чем может потом оказаться светло-зеленая карета на мосту Pont-neuf [16 - Pont-neuf (фр. Новый мост) связывает западную оконечность острова Сите с левым и правым берегами Сены.], или нечто красноватое, чего не удержать, или даже афиша на брандмауэре жемчужно-серого строения со многими крышами и общей фронтальной стеной. Все упрощено, нанесено на несколько правильных светлых планов, как лицо на картине Моне. И ничто не ничтожно, и ничто не избыточно. Букинисты на набережной открывают свои ящики, и свежая или попользованная желтизна книг, фиолетовая смуглость томов, преобладающая зелень папок – все согласуется, годится, принимает участие и создает полноту, где ничего и ничто не отсутствует.
* * *
А внизу следующий подбор: небольшая ручная коляска, ее толкает женщина; спереди, на коляске, шарманка в длину. Сзади, поперек, детская корзинка, где совсем крохотуля стоит на прочных ножках, довольный, в своем чепце, и не дает себя посадить. Время от времени женщина заводит свою заунывную песню. И крохотуля тотчас принимается снова топать в своей корзинке, а маленькая девочка в зеленом воскресном платье тянет руки к окнам, танцует и бьет в тамбурин.
* * *
Я думаю, что мне нужно начинать что-то делать, теперь, когда я учусь видеть. Мне двадцать восемь, и даже хорошо, что ничего особенного не произошло. Переберем: я написал этюд о Карпаччо, и этюд плох, одну драму, которая называется «Супружество», где я нечто фальшивое хочу обосновать двусмысленными средствами, и стихи. Ах, но в стихах получится немного, если их пишешь с ранних лет. Со стихами нужно повременить, и смысл и сладость собираются в течение всей жизни, и по возможности – долгой, и совсем уж в конце, может быть, удастся написать десять строк действительно хороших. Потому что стихи – это не чувства, как думают люди (их, чувств, в молодости предостаточно): это опыты. Ради одной строчки нужно увидеть много городов, людей и вещей, нужно узнать животных, нужно чувствовать, как птицы летят, и знать жесты маленьких цветов, когда они открываются по утрам. Нужно уметь вспоминать о дорогах в незнакомых краях, о неожиданных встречах и расставаниях, давно и с грустью предвиденных, – о днях детства, еще до конца не проясненных, о родителях, сожалея, что их приходилось обижать, когда они дарили радость, а их не понимали (кого-нибудь другого она бы обрадовала), вспоминать о детских болезнях, начинающихся всегда так странно и с таким множеством глубоких и тяжелых превращений, о днях в тихих уютных комнатах и об утрах у моря, о море вообще, о морях, о ночных путешествиях, когда они высоко и с затихающим шелестом пролетали вместе со всеми звездами, – и этого еще недостаточно, если даже обо всем этом можешь думать. Нужно иметь воспоминания о многих любовных ночах, когда ни одна из них не похожа на другую, о криках рожениц и о легких, белых спящих женщинах, только что разрешившихся от бремени. Но нужно еще побыть при умирающих, нужно посидеть около покойника в комнате с открытым окном и прерывистыми уличными шумами. Но этого еще недостаточно – иметь воспоминания. Нужно уметь их забыть, если их много. И нужно большое терпение, чтобы ждать, когда они вернутся снова. Поскольку эти воспоминания, собственно, еще не суть. Лишь когда они в нас становятся кровью, взглядом и жестом, безымянно и уже неотличимо от нас самих, – лишь тогда может случиться, что в какой-то очень редкий час первое слово стиха зародится в их середине и выйдет из них.
Все мои стихи возникли иначе – значит, их нет. И когда я писал свою драму, как же я там блуждал! Был ли я подражателем и глупцом, если нуждался в третьем, чтобы рассказывать о судьбе двоих, когда они друг другу в тягость? Как ловко я попался в ловушку! А ведь мне надо бы знать, что этот третий, тот самый, кто проходит сквозь все жизни и литературы, – это призрак третьего, коего никогда не было, и он никакого значения не имеет, его нужно просто не признавать. Он относится к отговоркам природы, потому что природа всегда старается отвлечь внимание людей от своих глубочайших тайн. Он – прикрытие в виде ширмы, за которой разыгрывается драма. Он – шум при входе в безголосую тишину действительного конфликта. Можно подумать, что всем до сих пор слишком тяжело говорить о двоих, о ком, собственно, и идет речь; третий, именно потому, что он такой нереальный, и есть та самая легкость задачи, когда ответ знают все. Сразу в начале всех драм замечаешь нетерпение поскорей подойти к третьему, они его уже ждут не дождутся. Как только он появляется, все хорошо. Но как скучно, если он запаздывает, без него решительно не может ничего произойти, все стоит, застопоривается, ждет. А ну как все при этом заторе и выжидании останется? Как, господин драматург и ты, публика, знающая жизнь, как быть, если он уже пропал без вести, этот излюбленный прожигатель жизни или этот мнящий о себе слишком много молодой человек, который во все супружества вставляется как отмычка? Как быть, если его, например, подрал черт? Давайте предположим. Сразу настораживает противоестественная театральная пустота, ее замуровывают, как опасную дыру, только моль из окантовки лож шатко переступает по несостоятельному пространству, где не на что опереться. Драматурги не наслаждаются больше своими роскошными городскими особняками. Все частные сыщики ищут для них в удаленных частях мира того самого невосполнимого, кто, собственно, и был всем театральным действием.
И при этом они живут среди людей, не эти «третьи», но те самые двое, о ком так немыслимо много можно было бы сказать. О ком еще никогда и ничего так и не сказали, хотя они страдают и действуют, и не знают, как себе помочь.
Это смешно. Я сижу здесь, в моей маленькой комнате, я, Бригге, двадцати восьми лет от роду и о ком никто не знает. Я сижу здесь, и я – ничто. И все же это ничто начинает думать и думает, на пятом этаже, на исходе серого парижского дня, вот что.
Разве возможно, думает, что еще ничего действительного и важного не увидено, не узнано и не сказано? Разве это возможно, располагая тысячами лет времени, чтобы смотреть, размышлять и запечатлевать, дать пройти этим тысячам лет мимо, как школьной перемене, успев только съесть свой бутерброд и яблоко?
Да, это возможно.
Разве возможно, несмотря на изобретения и прогресс, несмотря на культуру, религию и мировую мудрость, оставаться на поверхности жизни? Разве это возможно, что даже эту поверхность, что-то собой тем не менее все же представлявшую, обтянули невероятно скучной материей, так что она выглядит как салонная мебель во время летних отпусков?
Да, это возможно.
Разве возможно, что вся мировая история превратно понята? Разве возможно, что прошлое лживо, потому что всегда говорили о массах, именно как если бы рассказывали о сбежавшемся множестве людей, вместо того чтобы сказать об одном, вокруг которого они стояли, потому что он был чужой и умер?
Да, это возможно.
Разве возможно, чтобы считать, что необходимо наверстывать то, что происходило до того, как мы родились? Разве это возможно, чтобы каждый отдельный человек помнил, что он возник из всех ранее живших, то есть знал бы это и обязался не поддаваться никаким возражениям других, которые знали нечто другое?
Да, это возможно.
Разве возможно, что все эти люди совершенно точно знают прошлое, которого никогда не было? Разве это возможно, что все действительное для них ничто; что их жизнь идет, не связанная ни с чем, как часы в пустой комнате?
Да, это возможно.
Разве возможно ничего не знать о девушках, тогда как они все-таки живут? Разве это возможно – говорить «женщины», «дети», «мальчики» и не подозревать (при всей образованности не подозревать), что эти слова давно не имеют никакого множественного числа и у них только неисчислимое единственное число?
Да, это возможно.
Разве возможно, что есть люди, которые говорят «Бог» и считают, что это нечто общее для всех? – А посмотри лишь на двух школьников: один покупает себе перочинный нож, а его сосед по парте – точно такой же, в тот же самый день. И через неделю они сравнивают ножи, и оказывается, что между ножами лишь отдаленное сходство – такими разными они стали в разных руках. (Да, говорит мать одного из них: если бы вы тоже всегда все одинаково затупляли.) Ах, так: разве возможно поверить, что у всех один Бог, не пользуясь им?
Да, это возможно.
Но если все это возможно, даже если есть только кажущаяся возможность, – тогда должно же, ради всего святого, что-то произойти. Первый, тот, кого эта беспокойная мысль донимает, должен начать что-то из упущенного делать; даже если он какой-нибудь не самый подходящий: другого-то ведь нет. Этот молодой, без претензий, иностранец, Бригге, должен усесться на пятом этаже и писать день и ночь, да, он должен будет писать, и – все.
* * *
Мне тогда было лет двенадцать или, самое большее, тринадцать. Мой отец взял меня с собой в Урнеклостер[17 - Родовое гнездо старинного графского рода Урне, находящегося через Софию Урне (1629–1714) в родстве с династией графов фон Ольденбург, королей Дании в 1448–1863 гг. и Норвегии в 1448–1814 гг.]. Я не знаю, что его побудило проведать своего тестя. Они не виделись много лет – со дня смерти моей матери, и отец еще никогда не бывал в старом замке, куда граф Брахе удалился от дел уже в преклонных летах. Достопримечательный дом я уже больше никогда не видел: когда умер мой дедушка, дом перешел в чужие руки. Как ни старательно я восстанавливаю его в своих детских воспоминаниях, он не представляется одним зданием; во мне он совершенно разделен; тут помещение, там помещение и здесь кусок коридора, и он оба эти помещения никак не соединяет, а сохраняется сам по себе, как фрагмент. Подобным же образом во мне разбросано все – комнаты, лестницы, спускающиеся с такой возвышенной медлительностью, и другие – узкие, винтовые деревянные лесенки, в чьей темноте идешь, как кровь по жилам; башенная комната, высоко подвешенные балконы, неожиданные террасы второго этажа, куда протискиваешься через маленькую дверь, – все это еще во мне и никогда не перестанет пребывать во мне. Как если бы представление об этом доме низвергнулось в меня с бесконечной высоты и где-то на моем дне распалось на куски.
В целости сохранился в моем сердце, как мне кажется, только тот зал, где мы, по обыкновению, собирались к обеду каждый вечер в семь часов. Это помещение я никогда не видел днем, я даже не помню, есть ли там окна и куда они выходят; каждый раз, когда бы ни вступала туда вся семья, свечи уже горели в тяжелых канделябрах, и через несколько минут забываешь время дня и все, что видел во дворе. Это высокое, как я предполагаю, сводчатое помещение казалось прочней, чем все остальное. Оно своей темнеющей высотой, своими никогда полностью не проясненными углами высасывало из каждого все представления и воспоминания, ничего определенного не давая взамен. Там сидишь как растворенный – совершенно без воли, без смысла, без удовольствия и без защиты. Как пустое место. Я вспоминаю, что это уничтожающее состояние сначала вызывало во мне почти дурноту, какой-то вид морской болезни, и ее я преодолевал тем, что вытягивал ногу так, чтобы касаться колена моего отца, сидевшего напротив меня. Лишь позднее до меня дошло, что он мое столь странное поведение понял или, кажется, все же терпел, хотя между нами сложились почти прохладные отношения, и они такое поведение не проясняют. Между тем это легкое прикосновение давало мне силы выдерживать длинные трапезы. И после нескольких недель судорожной выдержки я с почти безграничной приспособляемостью ребенка настолько привык к жутковатости тех сходок, что позднее, уже не напрягаясь, мог выдержать двухчасовое сидение за столом; теперь оно проходило даже сравнительно быстро, потому что я занимался тем, что рассматривал присутствующих.
Мой дедушка называл их семьей, и я слышал, как и другие употребляли это название, на мой взгляд, совершенно произвольное, поскольку, хотя эти четыре человека и состояли в дальнем родстве, им никоим образом не следовало бы совмещаться. Дядюшка, сидевший рядом со мной, был уже стар, на его грубом и обожженном лице виднелось несколько черных пятен, как я узнал, от взрыва боевого порохового заряда; ворчливый и всем недовольный, каким его и считали, военную службу он закончил в чине майора и теперь в одном из неизвестных мне помещений замка производил алхимические опыты и, как говорили слуги, сносился с тюремной мертвецкой, откуда ему один или два раза в год доставляли трупы, после чего он на целые дни и ночи запирался, трупы изрезал и таинственным образом обрабатывал, чтобы они противостояли гниению. Напротив него всегда сидела фрейлейн Матильда Брахе. Персона неопределенного возраста, дальняя кузина моей матери; о ней никто ничего не знал, разве только то, что она вела оживленную переписку с каким-то австрийским спиритом, называвшим себя бароном Нольде, и выказывала ему такую преданность, что не предпринимала ничего, даже самой малости, предварительно не получив его согласия или, более того, чего-то вроде его благословения. В то время она отличалась необыкновенной дородностью, и ее мягкая, вялая полнота как бы вливалась в свободные светлые платья; ее движения казались утомленными и неопределенными, а ее глаза постоянно слезились. И, несмотря на это, в ней было что-то такое, что напоминало мне мою нежную и стройную мать. Я, чем больше ее рассматривал, находил в ее лице все утонченные и тихие черты, которые не мог бы как следует вспомнить после смерти моей матери; лишь теперь, когда я ежедневно видел Матильду Брахе, я снова знал, как выглядела умершая; да, я узнал это, может быть, впервые. Лишь теперь из сотен и сотен мелочей во мне складывался образ покойной, тот образ, который меня повсюду сопровождает. Позднее мне стало ясно, что в лице фрейлейн Брахе наличествовали все мелочи, определявшие черты моей матери, – они только были расставлены порознь, искажены и больше не связаны друг с другом, как если бы в промежутках между ними поместили чужое лицо.
Рядом с этой дамой сидел маленький сын кузины, мальчик приблизительно одного возраста со мной, но поменьше ростом и послабей. Из плиссированного воротника выглядывала тонкая бледная шея и пропадала под удлиненным подбородком. Губы узкие и плотно сжатые, крылья носа слегка дрожат, прекрасные карие глаза, но подвижен только один. Иногда этот глаз спокойно и печально смотрел на меня, в то время как другой уставлялся в один и тот же угол, как если бы он был продан и больше во внимание не принимался.
Во главе стола возвышалось чудовищно огромное кресло моего деда, и слуга, ничего иного не делавший, это кресло ему пододвигал, и в нем старик занимал лишь незначительное пространство. Одни называли этого тугоухого и властного старого господина «ваше превосходительство» и «гофмаршал», другие титуловали его генералом. Он, конечно, имел все эти звания, но с той поры, когда он занимал какие-то должности, прошло столько времени, что теперь эти обращения едва ли кто понимал. Мне же вообще казалось, что к его личности, в известные моменты так резко очерченной и все же снова и снова размытой, растворенной, не подошло бы никакое определенное имя или звание. Я никогда не решался назвать его дедушкой, хотя он иногда относился ко мне доброжелательно, даже подзывал меня к себе, причем пытался придать моему имени шутливое звучание. Впрочем, в отношении всей семьи к графу замечалась некая смесь преклонения и страха, и только маленький Эрик жил в известной доверительности к седовласому хозяину дома; его подвижный глаз иногда быстро и к полному взаимопониманию бросал взор на деда, который так же быстро и тем же отвечал ему; иногда в долгие послеобеденные часы деда и внука видели в конце глубокой картинной галереи и наблюдали, как они, рука в руке, ходили вдоль темных старых портретов, не разговаривая, но явно понимая друг друга каким-то другим способом.
Я почти целыми днями пропадал в парке и за его пределами, в буковых лесах или на лугу; к счастью, в Урнеклостере держали собак, и они меня сопровождали; тут и там встречались дома арендаторов земли или фермы, где я мог утолить голод молоком, хлебом и фруктами, и думаю, что я наслаждался своей свободой довольно беззаботно и, по крайней мере, уже в следующие недели не пугался при мысли о вечерних обеденных сходах. Я почти ни с кем не разговаривал, потому что как раз радовался, что одинок; лишь с собаками у меня время от времени происходили короткие беседы: мы прекрасно понимали друг друга. Вообще-то молчаливость – наша фамильная особенность; я знал о ней по моему отцу, и меня не удивляло, что за ужином почти не разговаривали.
В первые дни после нашего приезда Матильда Брахе казалась крайне разговорчивой. Она расспрашивала отца о прежних знакомых в заграничных городах, она вспоминала о давних впечатлениях, она почти до слез растрогалась, когда заговорила об умерших подругах и одном известном молодом человеке, давая понять, что он ее любил, но она не могла ответить на его постоянную и безнадежную благосклонность. Мой отец вежливо слушал, время от времени наклонял, соглашаясь, голову и отвечал лишь при крайней необходимости. Граф во главе стола постоянно улыбался стиснутыми и растянутыми губами, его лицо казалось крупнее, чем на самом деле, как если бы он надел маску. Иногда он и сам вставлял слово, причем его голос ни к кому не относился, но, при всей своей тихости, слышался во всем зале; в его голосе улавливалось нечто от равномерного и непричастного тиканья часов; тишина вокруг этого голоса, казалось, имеет собственный пустой резонанс, для каждого слога одинаковый.
Граф Брахе считал, что проявляет к моему отцу особую учтивость, заводя с ним разговор о его покойной супруге, моей матери. Он называл ее графиней Сивиллой, и все его фразы заканчивались так, как если бы он спрашивал о ней. Сам не знаю почему, но мне всегда казалось, что речь идет о совсем молодой девушке в белом, которая в любой момент может к нам войти. В таком же тоне, я слышал, он говорит о «нашей маленькой Анне Софи»[18 - Анна Софи Ревентлов (1693–1743); в 1712 г. король Дании и Норвегии Фридрих IV (1699–1730) заключил с ней тайный брак и стал двоеженцем. Когда законная королева умерла, через девять лет Фридрих IV женился на Анне Софи во второй раз и сделал ее королевой.]. И когда я однажды спросил об этой фрейлейн, поскольку мне показалось, что она особенно мила дедушке, то узнал, что он имел в виду дочь великого канцлера Конрада Ревентлова, некогда морганатическую супругу Фридриха Четвертого, уже почти полтора века покоящуюся в Роскилле[19 - Роскилле – собор XII века в Восточной Дании, где хоронили членов королевской семьи.]. Хронологический порядок не играл для него никакой роли, смерть ему казалась мелким инцидентом, и он ее совершенно игнорировал; персоны, однажды включенные им в свою память, существовали, и в этом смысле их умирание не могло изменить даже малости. Много лет спустя после смерти старого господина рассказывали, что он и будущие события воспринимал с тем же своеволием – как настоящие. Как-то одной известной молодой женщине он рассказывал о ее сыновьях, в особенности о путешествиях одного из них, в то время как молодая дама, находясь на третьем месяце своей первой беременности, сидела рядом с непрерывно говорящим стариком, почти обезумев от страха и ужаса.
Но в тот раз все началось с того, что я рассмеялся. Да, я громко рассмеялся и никак не мог успокоиться. Дело в том, что как-то вечером за столом отсутствовала именно Матильда Брахе. Старый, почти ослепший слуга, когда подошел к ее пустому стулу, все же предложил блюдо. Какое-то время слуга оставался в склоненной позе, после чего удовлетворенно и полный достоинства, как если бы все было в порядке, пошел с подносом дальше. Я наблюдал за этой сценой, и в тот момент, когда я ее видел, она мне казалась совсем не смешной. Но какое-то время спустя, как раз когда я засунул кусок чего-то в рот, смех так быстро меня разобрал, что я поперхнулся и вызвал большой шум. И несмотря на то, что ситуация меня самого удручала, несмотря на то, что я всеми способами старался стать серьезным, смех сотрясал меня снова и снова и полностью властвовал надо мной.
Мой отец, стараясь замаскировать мое поведение, спросил своим растянутым глуховатым голосом: «Разве Матильда больна?» Дедушка засмеялся в своей обычной манере и ответил некоей фразой, но я, занятый сам собой, тогда в нее не вник; фраза приблизительно гласила: «Нет, она лишь не хочет встречаться с Кристиной». Поэтому я не увидел последствия этих слов в том, что мой сосед, обгоревший майор, поднялся и, невнятно пробормотав извинение и поклонившись в сторону графа, покинул зал. Мне лишь бросилось в глаза, что за спиной хозяина дома, в дверях, он еще раз обернулся и стал кивать маленькому Эрику и, к моему большому удивлению, мне тоже, как если бы он просил нас последовать за ним. Я настолько поразился, что мой смех, так меня тяготивший, сразу прекратился. В остальном же уход майора меня нисколько не коснулся; он был мне неприятен, и к тому же я отметил, что маленький Эрик не обращает на него никакого внимания.
Трапеза, как всегда, тащилась своим чередом и добралась до десерта, когда мои взгляды сцапало и удержало некое движение, возникшее в конце зала, в полутьме. Там медленно отворилась всегда закрытая, как я считал, дверь, ведущая, как мне говорили, на антресоль, и теперь, когда с совершенно новым чувством любопытства и смятения я смотрел туда, из темноты дверного раствора выступила стройная, одетая в светлое дама и медленно направилась к нам. Не знаю, совершил ли я какое-нибудь неловкое движение или издал какой-нибудь звук, но шум падающего стула заставил меня оторвать взор от странной фигуры, и я увидел моего отца, который вскочил и теперь, мертвенно бледный, с напряженно сжатыми и уроненными кулаками, направился к даме. Между тем она, совершенно несоприкосновенная с этой сценой, двигалась к нам, шаг за шагом, и оказалась уже недалеко от графа, когда он рывком поднялся, схватил моего отца за руку, притянул его назад, к столу, и держал, в то время как посторонняя дама медленно и безучастно следовала по освободившемуся пространству, шаг за шагом, сквозь неописуемую тишину, в которой где-то, дрожа, звенел бокал, и пропала в дверях с противоположной стороны зала. В это мгновение я заметил, что это был маленький Эрик, и он с глубоким поклоном закрыл двери за неизвестной дамой.
Я единственный, кто остался сидеть за столом; я сделался таким тяжелым в моем кресле, что, как мне казалось, никогда не смогу один подняться. Некоторое время я смотрел, не видя. Затем проявился отец, и я обнаружил, что старик все еще крепко держит его за руку. Лицо моего отца теперь стало гневным, налилось кровью, но дед, чьи пальцы, как белая когтистая лапа, охватили руку моего отца, улыбался своей маскообразной улыбкой. Затем я услышал, как отец что-то сказал, слог за слогом, и я не мог понять смысла его слов. Тем не менее они глубоко запали в мой слух, и однажды, около двух лет назад, в один из дней, роясь в своих воспоминаниях, я эти слова нашел и с тех пор их знаю. Отец сказал: «Ты вспыльчив, камергер, и невежлив. Почему ты не позволяешь людям идти по своим делам?» «Кто это?» – закричал мой отец немного раньше. «Тот, кто, конечно, имеет право здесь находиться. Никакая не посторонняя. Кристина Брахе». – И снова установилась та самая странно тонкая тишина, и снова начал дрожать бокал. А мой отец каким-то движением вырвался и бросился из зала.
Я слышал, как он в своей комнате всю ночь ходил взад-вперед; я тоже не мог заснуть. Но вдруг ближе к утру очнулся от какого-то подобия сна и с ужасом, парализовавшим меня до самого сердца, увидел нечто белое, сидевшее на краю моей кровати. Мое отчаянье наконец дало мне силы хотя бы для того, чтобы спрятать голову под одеяло, и там от страха и беспомощности я заплакал. Вдруг над моими плачущими глазами стало прохладно и светло; я плотно зажмурился, чтобы не видеть ничего над слезами. Но теперь голос с совсем близкого расстояния вшептывался в меня, тепловато и сладко ласкался к моему лицу, и я узнал его: голос фрейлейн Матильды. Я сразу успокоился, а она, несмотря на то что я был уже совершенно спокоен, продолжала меня утешать; хотя я чувствовал, что доброта эта слишком уж размягченная, но все же наслаждался ею и думал, что я ее все-таки заслужил. «Тетя, – сказал я наконец и попытался в ее расплывчатом лице уловить черты моей матери. – Тетя, кто эта дама?»
«Ах, – сказала фрейлейн Брахе со вздохом, показавшимся мне смешным, – несчастная, мальчик мой, несчастная».
Утром того же дня я заметил в комнате нескольких слуг, занятых упаковкой. Я подумал, что мы уезжаем, и находил совершенно естественным, что мы теперь же уедем. Может быть, это и являлось намереньем моего отца. Я никогда не узнаю, что побудило его после того вечера остаться в Урнеклостере. Но мы не уехали. Мы задержались еще на восемь или девять недель в этом доме, переносили гнет его странностей и еще трижды видели Кристину Брахе.
Я тогда ничего не знал про ее историю. Не знал, что она давным-давно умерла при вторых родах, разрешаясь мальчиком, и со временем он вырос для трагической и жестокой судьбы, – я не знал, что она покойница. Но мой отец знал. Хотел ли он, при всей своей азартности склонный к последовательности и ясности, принудить себя, сдержанно и ни о чем не спрашивая, перетерпеть это испытание? Я видел, не уясняя, как он боролся с собой, я это просто ощущал на самом себе, не понимая, как он в конце концов себя все-таки принудил.
Это случилось, когда мы видели Кристину Брахе в последний раз. В этот раз фрейлейн Матильда тоже явилась к столу, но она была не такая, как всегда. Как в первые дни после нашего пребывания, она говорила беспрестанно, без определенной связи и ежеминутно путаясь, и при этом в ней замечалось телесное беспокойство, и это вынуждало ее постоянно поправлять волосы или платье, – и вдруг она с резким жалобным криком вскочила и исчезла.
В тот же миг я непроизвольно посмотрел на известную дверь, и действительно: входила Кристина Брахе. Мой сосед, майор, сделал порывистое толчковое движение, вросшее в мое тело, но у самого майора явно не было никакой силы, чтобы подняться. Его обгорелое, старое, в пятнах, лицо поворачивалось от одного к другому, его рот был открыт, и язык перемещался за испорченными зубами; потом это лицо вдруг исчезло, и майорская серая голова уже лежала на столе, и его руки, как отдельные куски, лежали на ней и под ней, и откуда-то приподнималась бледная, в пятнах, кисть руки и дрожала.
И теперь мимо шла Кристина Брахе, шаг за шагом, медленно, как больная, сквозь неописуемую тишину, в которой звучал лишь один-единственный скулящий звук, как если бы выла старая собака. Но тут слева, из-за огромного серебряного лебедя, наполненного нарциссами, выдвинулась огромная маска старика с всегдашней непонятной серой усмешкой. Он, поднимая, тянул свой бокал с вином к моему отцу. И теперь я увидел, как мой отец, как раз когда Кристина Брахе проходила позади его кресла, потянулся за своим бокалом и, как нечто очень тяжелое, поднял его на ширину ладони над столом.
И в ту же ночь мы уехали.
* * *
Biblioth?que Nationale[20 - Национальная библиотека; основана в Париже в 1480 г.].