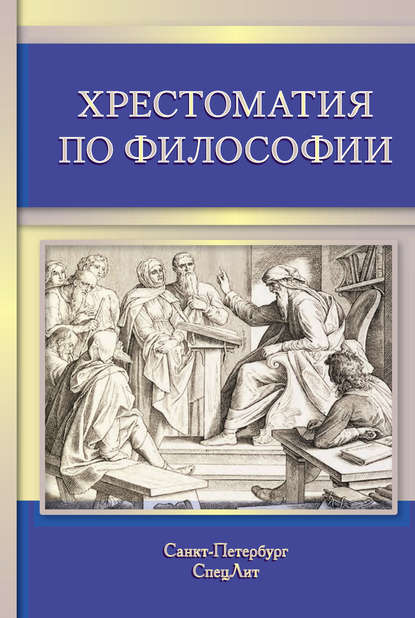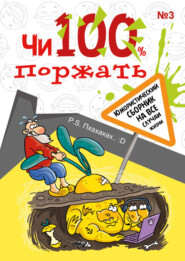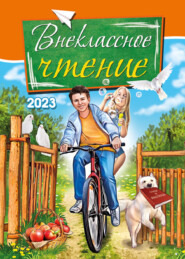По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Хрестоматия по философии
Автор
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это и есть первый основной и последний вопрос философии. Все остальное организуется вокруг него. Теперь, я надеюсь, вы понимаете, что, говоря о философии, мы имеем дело с самой мыслью, с работой мысли, что ею выполняется нечто, без чего человека не было бы. То есть философия тоже оказывается способом его самосозидания. Это одно из орудий самоконструирования человеческого существа в его личностном аспекте.
Скажем, фраза Сократа, которая якобы принадлежала и дельфийскому оракулу, гласит: познай самого себя. Разумеется, это не значит – познай или узнай свои свойства, каков ты есть, к чему склонен, к чему не склонен и т. д. в эмпирическом, психологическом смысле слова. Отнюдь. Познай самого себя на самом деле означает, что звезды, например, мы можем тоже, конечно, познавать, но это очень далеко от нас. И поэтому то же самое, столь же существенное, что вытекает из познания звезд, можно извлечь, углубившись в близкое, в себя. В каком смысле? В том, что мы можем стать людьми. Ведь это невозможно – быть человеком, а бывает.
Или, например, нам доступен, близок феномен совести. Давайте углубимся в него, заглянем в себя – и через это, уверен, откроем основания человеческого бытия, потому что, узнавая, мы будем отвечать на вопрос, почему есть нечто, а не ничто. Почему средь хаоса иногда бывают все-таки какие-то космосы, то есть островки порядка. Под космосом мы понимаем обычно всю необъятную Вселенную, а в действительности и в языке, и в греческой философской традиции космосом называлась любая маленькая «фитюлька» (космос не обязательно большой), если она органично устроена и содержит в себе всю свою упорядоченность.
Так вот, человек есть микрокосмос, углубляясь в который мы можем, войдя в маленькое, где-то, на каком-то уровне вынырнуть и в большое. Поскольку основания «нечто» в каждом человеке не эмпирические, не природные, а, как я сказал, – вневременные, соотнесенные с божественным. Потом в философии это назовут разными терминами, в том числе появится и кантовский термин – «трансцендентальное». Это и будет первым актом философствования, предполагающим определенного рода технику. Философия потому и важна, что она имеет какое-то отношение не просто к нашим представлениям о мире, а глубокую связь с самим фактом существования человека. Поскольку если философия есть изобретенное средство человеческого самосозидания, то тем самым предполагается, что есть и какая-то техника, потому что если что-то делается, то делается, конечно, с помощью техники. Какая же это техника?
Сейчас нам пока важно первое свойство этой техники. Первая ее характеристика, которая потом будет повторяться все время в истории философии, в ее содержании как таковой. Давайте вдумаемся в тот путь, который мы уже проделали в течение сегодняшней беседы. Я сказал, что природа нам не дает чего-то. И на это место не-данности чего-то мы должны суметь подставить или ввести некое неприродное основание, и оно будет порождать в нас человеческий эффект. Вдумаемся, что же здесь происходит? Было ритуальное пение, экстаз, шаманство. Шаман – вы знаете – он танцует и уходит в себя, а потом, после какого-то путешествия, возвращается с какой-то истиной или предсказанием, предвидением. Но это все милые детали, а нам важен смысл. А смысл был такой, что фактически первые философы поняли, что здесь, по отношению к природным силам человека, его способности испытывать определенные чувства, помнить что-то и прочее, происходит то, что они назвали трансцендированием. Что такое трансцендирование? Это выход человека за данную ему стихийно и натурально ситуацию, за его природные качества. Причем такой выход, чтобы, обретя эту трансцендирующую позицию, можно было бы овладеть чем-то в себе. То есть установить какой-то порядок.
Мамардашвили М. Появление философии на фоне мифа // Мой опыт нетипичен / М. Мамардашвили. – СПб., 2000. – С. 37–53.
Философия и религия
Тема моего доклада предполагает некоторый теоретический взгляд извне на философию и на религию и предполагает, конечно, определенную ученость, некоторые ученые рассуждения, в которых бы фигурировали имена, работы и анализ определенных принципов как философских, так и религиозных. И конечно, какую-то картину самих институций, прежде всего – церкви. Но ничего этого у меня не будет, такой внешний академический взгляд выходит за рамки моей профессии и моих интересов. Я попытаюсь просто из собственного профессионального опыта высказать определенные мысли и переживания о своего рода перекрестиях между религиозными понятиями, с одной стороны, и философскими – с другой, которые могут случаться в биографии философа. Я имею в виду в данном случае биографию именно философа, а не человека. Поэтому если вы ожидаете от меня учености, то ее не будет, но мне кажется, ученость – дело наживное, интереснее, во всяком случае для меня и, надеюсь, для вас – какой-то внутренний ход изложения из самого переживания, моего сознательного опыта и из того, как этот опыт конституируется в человеке, занимающемся профессионально рефлексией над собой, своим опытом и над опытом окружающих.
Сразу можно сказать так, что философское мышление и мышление религиозное, или религиозное сознание, – противоположны одно другому. Задачи философствования обычно исключают религиозность сознания. То есть они не исключают, конечно, того, что сам философ при этом может быть верующим человеком и принадлежать к какой-то конфессии, к какой-то церковной институции. Это другой вопрос. А я имею в виду сам склад и ход философского мышления и границы, которые оно перед собой ставит. Философское мышление не останавливается перед теми границами, которые выдвигает религиозное сознание. В этом состоит уже первое противоречие, с которого я начну, поскольку существует одновременно пункт, как бы противоположный тому, что я сказал.
Дело в том, что и философия, и религия имеют одну общую точку, только после которой они радикально расходятся. И мое внутреннее ощущение убеждает меня как в наличии этой точки, так и в последующем расхождении. Какова эта общая точка? Для меня лично она состоит в постулате или допущении некоторой другой жизни, чем жизнь текущая, повседневная. То есть я хочу сказать, что есть некая структурация жизненных проявлений, которая осуществляется человеческим существом изнутри его повседневной естественной жизни, и в той мере, в какой осуществляется, она наделена другим порядком. Это как бы жизнь человека в другом, не повседневном режиме существования. Речь идет о состоянии концентрации и сосредоточении всех человеческих сил, которые поддерживают себя вопреки естественному процессу существования. Ведь ясно, что на какие-то мгновения мы можем пребывать в состоянии сосредоточения, хотя естественным образом мы из них выпадаем. Ну, скажем, это можно пояснить на простом религиозном символе, учитывая как раз неслучайность названной общей точки, поэтому я возьму религиозный символ и философское положение. Религиозный символ – простой, связанный с известной сценой из Евангелия, когда Христос просил своих апостолов не спать, а они спали, а спали они потому, что человеку естественно спать. А я возьму в этой связи высказывание Паскаля, которое одновременно является истиной религиозного сознания и отвлеченной философской истиной. Высказывание следующее: «Агония Христа будет длиться до конца света, и все это время нельзя спать!» Под «агонией» в данном случае имеется в виду не событие, о котором можно сказать, что оно уже свершилось, а значимое и символическое событие в духовной или душевной жизни человека. О нем нельзя сказать, что оно свершилось и находится в прошлом, позади нас. Нет, оно свершается таким образом, что человек все время должен бодрствующим образом в нем участвовать. Только тогда смысл этого события является действующей силой в человеке.
Конечно, это совершенно особое восприятие мира как не готового, не заданного; это мир человеческого участия, но участия на пределе человеческих сил, которое представляет собой порядок протекания жизненного процесса иной, чем порядок текущей жизни, когда мы не можем находиться постоянно в состоянии концентрации. Либо силы наши не могут сосредоточиться, либо они не оказываются в той точке, где должны оказаться. Хотя абстрактно мы ими владеем, но именно тогда, когда они нужны, мы можем оказаться не в полноте своих сил – отсюда ностальгия, раскаяние, поскольку жизненные процессы необратимы. Хотя я знал и мог, но именно в этот момент – забыл то, что знал, именно тогда, когда нужно. В свое время Монтень называл такое состояние собранности – искусством, считая его высшим искусством жизни a propos (кстати). Ибо важно не только иметь какие-то силы и интенции, но важно еще, чтобы они были кстати. Мы же чаще всего с сердцем, полным любви к человеку, скажем, к своей матери, бросаемся ей на шею, а оказывается, что это «не кстати» (это уже пример из романа Пруста), потому что мать в этот момент находится в другой точке пространства – умственного и духовного, – она занята чем-то другим, и итог нашей совершенно несомненной, искренней любви не проходит через общую точку. Это и значит, мы живем не a propos. А вот в другой жизни, или в другом режиме, предполагается нечто, что не зависит от таких естественных ограничений человека или каким-то образом их компенсирует.
Это я пока, казалось бы, в пределах религии находился, поскольку оперировал словами «Христос», «бодрствование», но дело в том, что также описываются и нерелигиозные состояния, те, которые, скажем, Платон описал бы так: акт мысли – это такое состояние, которое доступно человеку на пределе максимально возможного для него напряжения всех его сил. Сколько времени можно пребывать в таком состоянии? Назовем длительность этого состояния бесконечностью сознательной жизни.
Итак, утверждением, что «агония Христа будет длиться до конца света, и все это время нельзя спать», описывается состояние какого-то другого мира, чем мир, в котором мы реально или эмпирически живем. Такое разделение является просто фактом нашего опыта. Оно эмпирически удостоверяемо, как ни странно, поскольку мы всегда все представляем себе наглядно. Поэтому оно тоже может быть фетишизировано или объективировано, так как можно представить, что есть какой-то другой, реально существующий, особый мир, скажем небесный, мир особых сущностей, который якобы существует так же, как предметы существуют, только это будто бы другого рода предметы и сущности. А это и есть объективация или, точнее, натурализация того различения, которое я ввел по точке, общей для религии и для философии, и которое вовсе не является утверждением о равноправности существования двух параллельных миров или двух параллельных действительностей. Поэтому грамотное религиозное сознание, как и грамотное философское сознание не случайно не делают этой ошибки, хотя о ней и приходится, к сожалению, напоминать. Например, в религии об этом напоминают следующим утверждением: Царство Божие – в вас. То есть это как бы гигиеническое напоминание о том, что оно значит. Что Бог не где-то там, наверху, а в нас самих, и имеет непосредственное отношение к нашему сознанию, сопряженному в этом случае с какими-то символами или с определенным образом организованной средой сознательных переживаний. Я не помню сейчас его имени, но один из русских богословов так, между прочим, и говорил: о божественной среде человеческого усилия. Следовательно, подобное постулирование существа, которое называется Богом, или образом Христа, и является утверждением об этой божественной среде, в которой, если мы сопряжены с ним, нам удается совершить над собой усилие, переводящее процесс нашей жизни в другой режим. Но этот режим никогда не совпадает с параллельной плоскостью нашей жизни, которая будет всегда перемежающейся фазой или перемежающимися местами в этом режиме.
Сошлюсь в этой связи снова на Марселя Пруста, у которого для его романа «В поисках утраченного времени» было несколько вариантов названия, и в том числе такое: «Intermittence du coeur» – «Интермитенции сердца». К сожалению, в русском языке, как и в грузинском, нет эквивалентного термина для слова «интермитенция». Есть слово «перемежающийся», скажем, перемежающаяся лихорадка, но, по-моему, чистота термина при этом теряется. Вот такое прерывистое бытие, перемежающееся. В дальнейшем жизнь этой темы во французской культуре продолжится в 1922 году, в год смерти Пруста, она воплотилась тут же в теле другого человека. Я имею в виду эпизод из переписки между Антоненом Арто, создателем и теоретиком так называемого «театра жестокости», и Жаком Ривьером, который был в то время редактором «Нового литературного журнала», в котором публиковались самые современные, модерные образцы прозы и поэзии. Жак Ривьер раскритиковал стихи Антонена Арто за несовершенство формы, и Арто объясняет ему в письме, что перед ним стояла не задача формы, не создание поэмы, которая была бы закончена как греческая статуя: не эта завершенность и законченность меня интересовала, пишет он, меня интересовала жизнь, «я искал свое существо. Откуда оно приходит, иногда оно есть, а иногда его нет, и вся физическая мука моего существа в том, что потерян центр существования» (под существованием Арто явно имел в виду существование вот в том режиме другой жизни, о которой я говорил). На что Жак Ривьер в своем ответном письме обронил такую фразу: «Да, это бытие, очевидно, интермитентно». Вот это и есть полная перекличка с вариантом названия прустовского романа.
Надеюсь, что я тем самым пояснил эту общую точку. А общность ее несомненна, хотя бы в фокусе моего размышления, потому что я могу в этом случае с одинаковым успехом менять термины философские на термины религиозные и обратно. Могу, скажем, фразу Паскаля интерпретировать совершенно независимо от христианской конфессии, в терминах определенной теории или определенной онтологии и метафизики мира, не употребляя никаких символов, предполагающих религиозное почитание. Учитывая, что в этой точке есть еще одно общее свойство – в той мере, в какой мы говорим о религии, мы всегда говорим, по сути дела, уже о мировых религиях. То есть не этнических или народных религиях, а о мировых, которые отличаются от этнических религий прежде всего тем, что они обращены к личности и предполагают наличие в самом человеке начала и корня, который задан в нем как некоторый внутренний образ, или голос. И достаточно слышать этот голос и следовать ему, оказавшись один на один с миром, не цепляясь ни за какой внешний авторитет, никакую внешнюю опеку, пользуясь лишь этим личностным источником, чтобы идти, и тогда в пути Бог поможет. Он поможет только идущему. Как говорил по этому поводу один из отцов Церкви, в строгом смысле нам не нужна при этом даже такая книга, как Библия, если есть этот источник, означающий, что в принципе в человека ничто извне не входит, он уже должен быть внутри. В принципе извне невозможны ни передача знания, ни управление, ибо действия, имеющие внутренний источник, они, как бы распрямляясь подобно пружине, изнутри корреспондируют и согласуются, а не путем внешней организации. И знаем мы об этом не из книг, не из внешней нормы; это сознание не управляется внешним поучением или внешним насилием, приведением к одной мысли. Поэтому он и говорил, что нам не нужна даже такая книга, как Библия. Но поскольку человек слабое существо, то чисто прагматически, случайно, он все же вынужден обращаться к ее тексту. Хотя в строгом смысле слова, повторяю, текст этот как бы не нужен, поскольку он сам собой существует в человеке в виде внутреннего личностного корня и источника, и ориентира. Будучи, так сказать, уже понятым из смысла Евангелия, со стороны тех вещей, о которых я говорю, а вовсе не исчерпывающе определяю.
Рассказав все это, я одновременно дал скорее определение иной вещи; говоря о Евангелии, я определил феномен просвещения. Того самого просвещения, которое складывалось и формировалось как раз в полемике с религией, в конфронтации с христианской церковью. В реальной жизни и в реальной истории такие парадоксы случаются. Сошлюсь на великого Канта, у которого эпоха Просвещения в его мыслях отлилась в кристалл прозрачный, он прекрасно понимал, что здесь возможны только отрицательные определения, или, как он выражался, негативные понятия, почти что в смысле той разновидности теологии, которая называется апофатической, которая не дает Богу других определений, кроме негативных: это – не то, не это, нет, нет, нет. То есть она пытается передать суть дела путем последовательного отрицания всех конкретных определений. Так же как, например, буддистские коаны, которые тоже часто служат лишь напоминанием о том, что есть вещи, для которых нет понятий и их невозможно высказать предикативным путем, то есть приписывая предмету какой-то предикат и тем самым познавая его.
Итак, отрицательное определение просвещения. Мне кажется, на это важно указать, независимо от темы доклада, потому что оно актуально и для наших сегодняшних проблем, поскольку в истории российской культуры что-то сломалось именно в связи с просвещением, еще в начале XIX века. И кстати, на рефлексивном уровне осознанием этой неудачи – что что-то не так, что-то не удалось – и было появление в России первой независимой философской мысли, я имею в виду Чаадаева. На мой взгляд, как мыслитель он появился на волне осознания того, что не удалось именно просвещение. К 20-м годам XIX века уже можно было это констатировать. А другой ветвью этой констатации было появление русской литературы. Я имею в виду Гоголя, из «Шинели» которого выросла, как известно, вся русская литература. Как совершенно справедливо замечает Набоков, не в смысле литературы оскорбленных, угнетенных, униженных, то есть социально-сострадательная, и этим якобы исчерпывающая суть русской литературы, а как явление чистого искусства, литература как таковая. Она выросла именно из игры с фантомами и «мертвыми душами», из которой Гоголь извлек чисто литературные эффекты благодаря языку, стилистически проникая в реальность и предвидя будущее России гораздо глубже, чем это можно было сделать реалистическим описанием, борясь за исправление социальной несправедливости. Набоков это очень тонко подметил в своем тексте о Гоголе, который был опубликован недавно в «Новом мире», по-моему.
Так вот, я возвращаюсь: никак не могу справиться с просвещением. Возвращаюсь к отрицательному его определению, в отличие от иллюзии, состоявшей в том, будто бы существовала все время увеличивающаяся сумма позитивных знаний, которую можно было передать другим людям, формируя их, образовывая и просвещая. Кант же понимал, что эпоха Просвещения не есть некая совокупность позитивных знаний, которые можно было бы передать только через образование. Он совершенно четко связывал его с внутренней работой души: введенное мной евангельское начало – это именно труд души. Царство Небесное в нас означает, что оно в нас как состояние, несомое трудом нашего внутреннего освобождения, возвышения над самими собой, собственного преобразования. Так вот, связывая феномен просвещения с этим внутренним трудом, трудом души, назовем его так, Кант говорил, что Просвещение – это взрослое состояние человечества, когда люди способны мыслить своим собственным умом, действовать не нуждаясь во внешних авторитетах и опеке.
Вот что такое Просвещение! Это чисто негативное, в философском смысле, понятие. Оно совпало у нас с евангельской истиной, и тем самым мы видим, что схватка между Просвещением и Церковью была в каком-то смысле недоразумением. Но дело в том, что вся реальная история состоит из недоразумений. История, конечно, может быть определена как недоразумение, но, очевидно, такое, без которого человек не может обойтись. Лишь пройдя недоразумение, называемое историей, он приходит к тому, от чего отклонился. То есть история – это орган изменения, или поле травмы человеческой, состоящей в том, чтобы изменить естественное склонение. Ведь моральное состояние философами определяется как сознание изменения. Или, другими словами, преобразование того, что ему предшествовало, когда даже сознание как таковое может быть определено как некоторое изменение изменения, изменение случившегося естественным, спонтанным образом. Скажем, временные процессы, как я показывал вам, разрушают порядок второго, особого режима жизни, и нужно всегда некое выправление естественного склонения. И в этом смысле предшествующие изменению состояния человека являются знанием, которое и для философа, и для религиозного сознания является самой большой опасностью. То знание о себе, которое человек имеет к моменту, когда что-то происходит. Вот если не изменилось к этому моменту, тогда человек выпадает из человеческого сознания, совершается что-то прямо противоположное ему. Я продолжаю обсуждать проблему, пользуясь пока терминами то философии, то религии. Покажу это на примере.
Вы, очевидно, знаете, что основа философии дана фразой Сократа. Она звучит так: «Я знаю, что я ничего не знаю». Обычно ее воспринимают чисто психологически, что человек просто напоминает себе, что он мало знает. Что все мы наделены таким сознанием, а это красивое афористическое выражение давно знакомой эмпирической истины. Но Сократ говорил, что я знаю, что ничего не знаю, ибо знать, что я ничего не знаю, очень трудно. А с другой стороны (я сейчас вместе это попытаюсь пояснить), религиозный мыслитель XIX века Кьеркегор, тоже рассуждая о знании, говорил о нем как о смертельной болезни (у него и книга так называется). Почему? Потому что когда человек пал, вкусив от древа познания, то вовсе не в смысле отвержения науки, что наука его якобы отлучила от райского бытия, а в смысле очень четком, во внутреннем понимании. Какое знание здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду самодовольное и уверенное знание о самом себе. Кто ты и что ты? Это называл Кьеркегор «смертельной болезнью» и задавал такой вопрос: скажите мне, кто имеет больше шансов стать христианином, в истинном евангельском смысле этого слова, в момент конфирмации? То есть при обряде приобщения к церкви юношей и девушек, по-моему, в возрасте 7 или 14 лет – у католиков и протестантов по-разному. Тот, кто уже был крещен и только на этом основании независимо от степени развитости религиозного сознания, во время конфирмации формально признается христианином? Или тот, кого до этого не крестили? И Кьеркегор отвечал, что тот, кого не крестили, так как он не знает о себе, что он христианин, и, следовательно, имеет больше шансов к свершению движения души, чем тот, который уже знает о себе, что он христианин. Ибо такое знание опасно. И именно против него предостерегал Сократ, когда говорил: «Я знаю, что я ничего не знаю», предполагая тем самым, что возможно движение души, которое должен совершить человек (а оно всегда сложнее, чем совершение любого ритуала) по отношению к любому предшествующему моменту знания о самом себе и образу, который он имеет относительно себя. Этот образ, согласно Кьеркегору, и есть смертельная болезнь или опасность.
Вот здесь и начинается радикальное расхождение между философией и религией, или религиозным сознанием. Значит, я сказал, что первичные метафизические акты (принимая во внимание, что христианство не есть мифологическая религия, то есть, возникнув, она может быть мифологизирована, что и случилось, – существует миф о Христе), но первичные акты, они, наоборот, антимифологичны и, собственно говоря, посредством христианства европейцы и вырвались из мифологически коллективного, инертного тела – во время. В область, где есть история и где есть личность. В мифологически инертном теле, коллективном существовании человека нет двух вещей – нет истории и нет личности. А здесь, в первичных актах, они появляются, но очень странная вещь, на которую я и хочу обратить ваше внимание: всем мировым религиям, скажем христианству и буддизму, и тем более исламу, предшествовало появление философии. В исторической последовательности так называемых форм общественного сознания мы обычно всегда располагаем их так, что сначала была религия, а потом философия, наука и т. д. А в действительности это неточно. Вообще-то возникновение мировых религий было бы, очевидно, невозможно без свершения какого-то странного акта именно в философии, как раз и породившего сам образ и принцип личности. И соответствующее метафизическое представление о мире, который есть мир онтологии, где существуют и длятся во времени онтологические порядки при условии, что они покоятся на вершине волны личностного, только данным человеком совершаемого усилия или движения души, которое незаместимо никаким другим, в нем нельзя сотрудничать с другими людьми, там нет разделения труда, невозможна кооперация и т. д. То, что мелькнуло перед тобой и указало тебе на какое-то высвободившееся место, не может быть выполнено никем другим. Не будет выполнена та часть мира, которая должна была исполниться с твоим участием. Если твоего усилия не было, она необратимым образом уйдет в небытие. Пометив тем самым эту завязку, перейдем теперь к расхождению.
Религиозное сознание предполагает, что можно остановиться. То есть предполагает нашу разрешающую способность к уважению и почитанию как чего-то в мире, так и в самом человеке. Любовная коллегиальность или любовное сотрудничество людей, предполагаемое религией, всегда имеет как бы некий предел, за который любовь не переходит. И вот это состояние недеяния, молчаливого почета и уважения и тем самым сдерживание себя, невыплескивание (хотя должно было бы выплескиваться), оно и разрешает человеческую психику, и является элементом поддержания гармонии между верующими людьми.
Мамардашвили М. Появление философии на фоне мифа» // Мой опыт нетипичен / М. Мамардашвили. – СПб., 2000. – С. 219–226.
Философия и личность
Тема моего сообщения – «Философия и личность». Я прошу с самого начала понять меня правильно: замысел выступления не состоит в том, чтобы излагать какую-нибудь философскую теорию личности. Я вообще сомневаюсь, что такая есть и что такая возможна. Я лишь хочу высказать какие-то соображения о связи этих двух вещей, каждая из которых не ясна, и поскольку мне чудится, что есть какое-то особое, близкое отношение между личностью и философией и что-то выделяющее это отношение из всех возможных отношений, как философии с чем-то другим: с наукой, например, с миром, так и личности с чем-то другим, скажем с индивидом, с процессами обучения человека и т. д. Есть что-то близкое, что одновременно из совокупности других проблем выделяет и то и другое. И вот я, вращаясь в рамках интуитивного представления и о том и о другом и не претендуя ни на какие определения отдельно личности или философии, пытаюсь просто эксплицировать нашу интуицию, которая есть у всех нас. Мы иногда не обращаем на нее внимания, хотя на уровне обычного словоупотребления довольно точно применяем термины и понятия, скажем, когда мы говорим на уровне интуиции о ком-то, что это – личность: большая, маленькая, – совсем не в этом смысле, я имею в виду, когда мы поступок называем личностным, именно этот поступок называем и к нему прилагаем это слово, а не другое; и на это есть какие-то основания в нашей интуиции, в нашем обыденном словоупотреблении.
Точно так же есть какие-то основания, по которым нам и хочется и колется зачислять философию в науки. Мы знаем, что философия – это теория, это работа с понятиями, то есть определенный вид интеллектуальной теоретической деятельности. И тем не менее, когда кто-нибудь говорит нам, что философия – это наука, мы как-то невольно вздрагиваем. Вот почему вздрагиваем? В чем здесь дело? Та общая связка одного и другого, связка, которая вместе выделяет в особую, взаимосвязанную проблему философию и личность, она, эта связка, лежит в одном очень интересном обстоятельстве самой человеческой жизни, сознательной жизни, и в самом феномене, который мы, тоже интуитивно, называем «человек», выделяя его в какой-то специфический облик, без каких-либо определений (я специально такие слова и употребляю), выступающий на фоне Вселенной, космоса, на фоне существ, которые составляют Вселенную. Что-то в нем есть и особенное, выделяющее его, и таинственное, очевидно. Во всяком случае, самые большие проблемы, перед которыми стоит человек, – это те загадки, которые он сам-собой-себе-задан. То есть самой большой проблемой для человека является, конечно, человек: ничто и никто не может ему так напакостить, в смысле затруднить ему мысль, как он же сам себе. Но это не случайно. Это связано не с тем, что человеческие глубины непознаваемы, что это тайна и мрак, а, очевидно, с тем, что человек есть такое существо, которое вообще существует, только задавая вопросы.
В философии уже давно есть традиция выделения особой категории вопросов, которые называются иногда символами, иногда просто вопросами, требуют особой, специальной техники их формулирования и обработки и которые – суть вопросы, не имеющие ответа в том смысле, что они и не требуют такого ответа, их смысл и функция состоят в том, чтобы быть заданными, то есть философия показывала, что есть некоторое существо, факт конституирования и бытийствования которого проявляется вопросом. Ну, скажем, в экзистенциальной философии особенность человеческого существования была давно выявлена и определена так: в составе бытия человеческое существо есть такое существо, которое задает вопрос о своем бытии. И это отличает его от всех других. Я чисто произвольно цитирую просто для того, чтобы создать ассоциативное слежение за мыслью, и не хочу никаких определений, каких-нибудь окончательных формулировок, и тем более не хочу, упаси меня Бог, дискуссии по этому вопросу. В чем дело? Чтобы пробудить ассоциации, я скажу вам о таком понятии, которое существует в философии, понятии, скажем, «Я». В смысле интеллектуальной техники введения этого понятия и обращении с ним оно равнозначно другому философскому понятию, а именно понятию Бога или божественного интеллекта. От второго понятия прошу мысленно, в голове, отвлечь всякие религиозные ассоциации, потому что я говорю о философском понятии, а не о понятии теологии. В чем сходство этих понятий? В свое время Декарт на материале как понятия Я, так и понятия Бога показывал, что, собственно говоря, само это понятие не имеет предмета, а есть проявление действия в человеке какого-то существования. Отсюда и формулировка: «Я мыслю, следовательно, существую». То есть нам не нужно искать такое Я, как эмпирический предмет наряду с другими предметами, как мы могли бы увидеть звезды наряду с другими звездами или планетами, столы рядом со стульями, то есть выполняли бы основные правила научной процедуры, состоящей в том, что для всякого, даже самого абстрактного, понятия должна существовать какая-то процедура, подставляющая под него какой-то объект, на который мы могли бы указать другими средствами, а именно эмпирическими средствами наблюдения и опыта. Это так называемые предметные понятия. Но есть, понятия, которые не имеют предмета и не для этого создаются. Это – символы. Таким символом является, например, понятие Я. И когда в философии говорят о Я, или о личности Я, если угодно, то имеется в виду не наше эмпирическое, психологическое Я, которое существовало бы реально и натурально, а некая конструкция, являющаяся сама продуктом некоторого усилия и существующая лишь благодаря поддерживающему усилию существа, думающего о Я, то есть имеющего это понятие. То есть сам предмет создается актом мышления о нем и вне этого акта не существует. В этом смысле он тогда является проявлением существования: Я мыслю, следовательно, существую. Также точно онтологическое доказательство бытия Бога у Декарта сводится к этой мысли, что нет такого предмета, и сама мысль о нем, о Боге, которая ниоткуда невыводима, не может быть рассмотрена как продукт воздействия на нас каких-то эмпирических обстоятельств, которые содержали бы и передавали нам какую-то мысль об этом существе, а есть проявление нашей приобщенности к существованию некоторого сверхмощного божественного интеллекта (я беру этот момент в рамках теории познания, то есть рассматриваю его как квазирелигиозный).
Какова особенность этих перечисленных мной символических понятий, которые требуют, я повторяю, особой интеллектуальной техники введения их в состав теории и способов обращения с ними? А то, что эти понятия указывают на некую фундаментальную особенность человеческого феномена, состоящую в том, что человек есть, очевидно, искусственное существо. Как в смысле необходимости создания им органов своей жизни, которая не вытекает ни из каких заданных биологических механизмов и не гарантируется никакими природными процессами в своем осуществлении, так и в смысле проблемности существования его в так называемой второй природе или созданной им среде из каких-то особых кентаврических объектов, которые имеют одновременно и свойства объектов, предметов природы, и в то же время природой не создаются, а создаются человеком. Человек создан этой средой, и дело в том, что существование его в этой среде проблематично в том смысле, что эта среда не может существовать, воспроизводиться и продолжать свое существование сама собой. Она должна в каждый момент дополняться воспроизводством какого-то усилия со стороны человека. Без этого мир умирает.
То есть мы получили две вещи одновременно, мы получили какой-то род бытия, который содержит в себе дыры, скажем так, дырявое бытие, запрашивающее какое-то усилие от человека и без воспроизводства этого усилия не существующее: оно как бы провисает в пустоте и падает, а с другой стороны, мы имеем вот это существо, которое это усилие совершает, как существо незавершенное, ни на чем в природе не основанное. Если вы, психологи, вглядитесь в любые способы осуществления специфически человеческих эмоций, целеполагания, реализации каких-то человеческих чувств, мы увидим, что в самих этих механизмах, если угодно, не дано, не закодировано никакое осуществление человеком того чувства или состояния, которое мы интуитивно называем специфическим человеческим. Ну, скажем, животное, реализуя свое половое влечение, реализует его согласно переданным и автоматически осуществляющимся механизмам инстинкта, а не распределяет в предметы полового желания формы его осуществления, место его осуществления и т. д.
У человека ничего этого нет. Он (пока условно скажем) все это приобретает. Для того, чтобы мать и сын не были объединены половым желанием, всю многомиллионную историю человечества существует очень сложный и загадочный запрет инцеста – странное, своеобразное культурное учреждение. И смысл его и сложность состоят как раз в том, что оно понадобилось.
Человек должен установить определенными способами психологической проработки и развития предметы своих желаний. Они не заданы ему автоматически или машинообразно. Сам факт, скажем, сексуальных отклонений отрицательно свидетельствует о том обстоятельстве, что нет некоторых механизмов, которые были бы похожи на механизм знания и осуществления посредством знания чего-то, они не предсуществуют какому-то особому человеческому развитию, как онтогенетическому, так и филогенетическому.
И мысль моя состоит в том, что философия, с одной стороны, и личность – с другой, оба эти явления вытекают из вот этого основного, описанного мною. А именно коротко: из искусственности и безосновности в природном смысле слова феномена человека. Философия – в каком-то смысле орган ориентации человека вот в этом пустом и одновременно сложном пространстве, которое, чтобы существовать, требует от человека усилия. На языке философии такое усилие обычно называется трансцендированием. Трансцендированием опыта, существующих порядков, существующих психических механизмов и т. д. Вот некоторое указание на то, что в человеке, помимо того, что мы могли бы описать как натурально существующее, есть еще и некая действующая сила, толкающая его все время к выходу за эти пределы и трансцендированию. Трансцендирование к чему? А ни к чему; поскольку по смыслу символических понятий, которые я перед этим вводил, таких предметов нет. То есть: есть трансцендирование, но нет трансцендентного, трансцендентных предметов нет. Кант своей «Критикой чистого разума» на веки вечные установил этот факт, который существовал, конечно, до его установления, – что нет таких трансцендентных предметов, в том числе Бога. Есть символы, посредством которых мы обозначаем последствия действия какой-то силы в нас самих.
Поэтому самое содержательное определение свободы (а понятие свободы имеет прямое отношение к личности) – это определение свободы как чего-то такого в нас, что от нас не зависит, что является трансцендированием в том смысле, что оно не имеет никогда никаких конкретных оснований, которые мы могли бы находить в какой-нибудь конкретной, окружающей индивида культуре.
Ну, скажем (я начну с простого), например, честность, добро и тому подобное отличаются от нечестности и зла тем, что последние всегда имеют причины, а первые – никогда. Разве какие-нибудь причины должны быть для того, чтобы быть честным? Разве существуют какие-нибудь причины для того, чтобы быть добрым? И разве мы их ищем, когда интуитивно констатируем добрый или честный поступок? У них нет причин. В случае со злом, с нечестностью мы ищем и находим причины. То есть сами эти понятия нуждаются в указаниях на причины, которые всегда есть. Но какая может быть причина у честности? Да никакой. И эмпирически ее найти нельзя. А вот для нечестности, для зла есть всегда причины, в психологическом и социологическом объяснении они всегда фигурируют, мы всегда объясняем, почему человек поступил зло или трусливо. Но никогда не пытаемся, я не говорю, что мы не можем объяснить, почему человек поступил добро, я говорю, что мы даже не пытаемся это объяснить.
Я фактически хочу сказать, что у нас есть в нашем языке, в нашей психологической развитости совокупность навыков узнавания того, что мы называем личностным действием. Личностное действие – это то, для чего не надо указывать никаких причин, что невыводимо из того, как принято в данном обществе, невыводимо и совершилось не потому, что в данной культуре такой навык и так уговорились считать, поступать, делать. Ведь что мы называем личностным деянием? Что выделяет личностно действующего человека или индивида? А вот то, что для его поведения нет никаких условных оснований. Оно безусловно. Я имею в виду условности, принятые в данной морали и праве, а как вы знаете, все системы морали по разбросу их географии, культур, времени и пространства весьма разнообразны, в данных правовых установлениях нет таких оснований. И мы интуитивно называем человека, который в каком-то смысле поступает не то чтобы вопреки всему, я не знаю, как эту мысль выразить, а «ни почему», «так».
Я затрудняюсь это высказать, потому что здесь всегда есть опасность отрицательных определений, скорее похожих на описание чего-то – вроде упрямого и глупого человека, который назло всем делает что-то, обратное тому, что делают они или что от него ожидают, я естественно не это имел в виду, и вы это понимаете, но тем не менее выразить то, что я имею в виду, довольно сложно. Сложно не только по причинам нашей личной ограниченности и глупости, но еще и по характеру самих этих инструментов и этих понятий. Как я сказал, это понятия символические. То есть такие понятия, где само наше личное существование формируется тем или иным образом в зависимости от нашей способности применять и расшифровывать эти понятия. Ну, скажем, такая вещь очень хорошо была известна в христианстве – личностное бытие рассматривалось как такое, которое складывается (удачно или неудачно, полно или неполно) в зависимости от того, как расшифрован символ жизни и тела Христова. Конечно, в смысле того, как в соотнесении с пониманием рассказанного складывается и реально сбывается (то есть событийствует) жизнь человека, а не желудочного змия, и толкование знаков (как вы видите, я вообще не знаю, как нейтрализовать в ваших головах и своей речи действие обыденного совмещения терминов «символ» и «знак»).
Вот это типичный пример той организации жизненных процессов, которые осуществляются понятиями, которые я назвал символическими. Так вот, личностным мы называем то, о чем я говорил, а потому, назвав это личностным, сразу обнаруживаем, что мы употребляем особое понятие, потому что то, что мы локализуем как личность, явно не есть, скажем, грузин, русский, индус и т. д. То есть мы употребляем понятие личности только для того, что составляет в человеке нечто субстанциальное, принадлежащее к человеческому роду, а не к возможностям воспитания, культур и нравов. Ну, скажем, я Будду или какого-нибудь индийского мудреца могу узнать только в той мере, в какой он сам выделился в качестве личности, то есть не индуса. И вот личностные структуры существуют только на этом уровне и в этом разрезе.
Личностные структуры не есть структуры нашей индивидуальности – это другое понятие, в том числе и в психологическом смысле. Как раз, может быть, в той мере, в какой мы поступаем личностно, мы не индивидуальны, совсем не индивидуальны. И способность поступать индивидуально, но и не стандартно (естественно, здесь другое противопоставление понятий) есть способность оказаться в сфере личностных структур. То есть личностные действия трансцендируют – я уже употреблял этот термин – любые конкретные порядки. И поэтому, собственно, и распознается среди них как особое. Так вот, этот тип действий и поддерживает дырявое бытие, то есть такое бытие, которое организовано так, чтобы воспроизводиться в качестве бытия, мира, космоса, если угодно, только при наличии со стороны человека усилия или, теперь уже по ходу разговора в обогащенном нами языке, при уровне трансцендирования как личностного деяния, или наличия личностной структуры. Человеческие установления вообще таковы: они не живут – умирают, без того, чтобы в каждый данный момент на достаточно большой человеческий материал не находилось людей, способных поступать личностно, то есть способных на уровне собственной неотъемлемой жизненно-смертной потребности, риска и ответственности, понимания и т. д. воспроизводить это установление, например, моральный закон, юридический закон и т. д. А если нет этих энного числа личностей или хотя бы одной личности, то эти установления не воспроизводятся, то есть космос умирает. В старых мифологиях эта вещь не то чтобы хорошо понята была, она была хорошо отработана в ритуалах. Ведь ритуальные действия считались не просто поклонением какому-то божку, и с этой точки зрения они глупы в глазах просвещенного человека, а они рассматривались как действия, участвующие в воспроизводстве космоса, упорядоченного тем образом, каким он упорядочен: и если этих действий не будет, то и космос распадется.
Я специально все это говорю, потому что моя задача в том, чтобы вызвать максимальное число ассоциаций и расшифровать наше интуитивное понимание, совершенно не претендуя, я повторяю, строить какую-нибудь теорию, с одной стороны, философии, скажем, а с другой – личности: я далек от этих претензий. В итоге моя мысль состоит в том, что есть особый режим, в котором наша сознательная жизнь вообще существует и осуществляется. Установившийся режим, воспроизводство которого есть условие и содержание воспроизводства человеческого феномена. Так вот, и философия, как деятельность, то есть как размышление, и личность как сложившаяся структура, имеют отношение к этому режиму, в каком сложилась наша сознательная жизнь и в каком она только и может воспроизводиться. То есть они обе вытекают из особенностей этого режима. И в этом смысле если я сказал, что личностное – это всегда трансцендируюшее, то я тем самым указал на то, что в личностном элементе, или в личностных структурах, содержится вообще тот резервуар развития, который есть в истории, который обеспечивает, в смысле человеческого материала, то, что человеческая эволюция не может зайти в какой-нибудь эволюционный тупик.
То есть когда я говорил трансцендирование, то, с одной стороны, имел в виду усилие. Но это – хрупкая вещь. А вот когда оно дано на личностных структурах – тогда уже есть какая-то гарантия, гарантия развития исторических и формообразующих сил в человеке, таких, которые способны участвовать в изменении всегда конкретных, частных и ограниченных, устоявшихся исторических, культурных, моральных, юридических порядков. Если бы не было резервуара выхождения за порядки, конкретные порядки человеческого бытия в каждый данный момент, то, очевидно, человеческое развитие давно бы прекратилось. Но наличие такого резервуара связано не только с нашим желанием жить и иметь историю, которая бы не кончилась, а оно связано вообще с характером тех структур, в рамках которых человек живет и свою сознательную жизнь осуществляет. Они с самого начала, как я говорил, основаны, я бы сказал, на искусственности человеческого феномена, то есть неданности человеческого в биологическом, лишь потенциально человеческом существе. С самого начала история пошла по пути создания этих сильно организованных структур, которые своей работой воспроизводят на биологическом материале человеческие возможности.
Так вот, философская деятельность имеет к этому очень серьезное отношение по одной простой причине: философия отличается от науки тем, что это интеллектуальная деятельность, направленная на то, чтобы в любой новой или сложной ситуации воссоздать способность человека понимать и находить себя и свое место через то знание и информацию, которые он имеет о мире. Фактически философия пытается дать человеку возможность найти себе место, понятное место в том мире, который описывается знанием. Представьте себе, что вполне возможен какой-то мир, который описывается знанием, и если человек не может найти себя, осмысленное для себя место в такой мере, как описано знанием, то это знание перестает для него быть человеческим богатством.
То есть философия – своего рода деятельность, направленная на то, чтобы составить правило интеллигибельности того мира, который описывается наукой и положительным знанием. Философия – деятельность, направленная на то, чтобы постоянно оживлять и фиксировать место человека в том мире, из которого приходит информация. Место не человека, наблюдающего мир и внешнего ему, а место некоего существа в том источнике, который и нам активно поставляет информацию, даваемую нам наукой. Если не удается этого делать, то мы на эмпирическом уровне или обыденным языком описываем эти ситуации часто как отчуждение, аномию и т. д. и т. п. В действительности философия в этом смысле может быть определена как некоторый бытийно-личностный эксперимент, продуктом которого является личность на одной стороне, а на другой – картина такого мира, в котором эта личность могла бы осмысленно жить, ориентироваться, понимать и воспроизводить себя в этом мире в качестве именно личности.
И понятно из того, что я говорю, какое фундаментальное отношение философия имеет к личности или ко всему тому, что в принципе могло бы сконструироваться или чему мы могли бы научиться в качестве личностного действия. То есть сама конструкция возможного личностного действия включает в себя элементы философской процедуры. Причем философская процедура необязательно должна быть профессиональной, специальной. Но она будет философской. Иногда даже бывают такие философские эпохи, внутри которых самые богатые построения философских систем начинаются, когда накоплен достаточно большой материал реального философствования не профессионалами, академическими философами, а учеными, художниками, философствующими внутри своих собственных знаний, реально философствующими.
Так вот, я хотел сказать в завершение еще несколько таких оговаривающих, предупредительных, что ли, вещей. Я ведь с самого начала сказал, что не развиваю никакой философской теории личности. И теперь снова возвращусь к этому предупреждению, уже несколько иными словами. Вообще, личность, как и человек, не есть предмет философии. Предметом философии является та задача, о которой я перед этим говорил. Философия выполняет эту задачу, строя определенного рода предельную ситуацию. Она вводит предельные объекты, в том числе Я, Бог и т. д., чтобы на этих объектах обсуждать определенные проблемы. Без введения предельных и экспериментальных (в том смысле, о котором я говорил) представлений не существует философской деятельности. Философия – это всегда мышление-на-пределах. Но оно не есть мышление о человеке или личности, хотя результатом философствования всегда является личность. Я не говорю, что личность является только результатом философствования, я говорю – в том числе. Но во всяком случае, результатом философствования всегда является личность, хотя и не в том смысле, что она предмет философствования. Я как-то однажды уже приводил этот пример: нельзя сказать, что предметом живописца является краска, хотя она составная часть предмета, изображенного на полотне. Точно так же и в философии. Я бы сказал, что это как бы материал движения и средства, а в целом философия есть часть той протоплазмы, которой питаются и в которой воссоздаются человеческие феномены. То есть я говорил вам о трансцендировании, о пространстве, которое наполняется символами, высокоорганизованными структурами, например предметами искусства, ритуалом, нормами и прочим, и это – протоплазма человеческих явлений. Или, если угодно, божественная среда человеческих явлений, в том смысле, что это не есть натуральная среда. Она не дана. Ее не существует. И вот философия участвует в создании такой протоплазмы, вводя в нее некоторые представления, которые являются специфическим ее продуктом.
Значит, с одной стороны, философия как работа на пределах, а с другой – личность, о которой, резюмируя то, что я говорил, личность, которую мы интуитивно узнаем через личностный поступок, не вытекающий из конкретного, частного: частной системы морали, частной юридической системы. Тогда это личность. Но личность, она – как участие, жизнь в этой протоплазме как среде, о которой я говорил и которая натурально не существует. И личностным вопросом является прежде всего тот, который адресует к себе человек и который я выражу следующим образом: общество и история могут нас наказывать, но с тем, как нас наказало общество – скажем, нам дали пять лет тюрьмы, – с этим можно прожить, с этим можно жить. А вот о чем-то, что человек адресует самому себе иногда, бывает невозможно прожить. То есть это серьезнее, чем любая оценка, вытекающая из конкретных моральных, юридических установлений.
Я хотел бы еще сказать, что мысль, которая вытекает из всего вышесказанного, резюмирует не проблему и философии и личности, а истоки этих проблем: то есть искусственность человеческого феномена, необходимость усилия и прочее могут позволить нам сделать вывод, что человечество в каком-то смысле можно определить как эксперимент или авантюру быть человечеством. И естественно, эта попытка может удаться, а может и не удаться. Вот и все. Философия – поддержание и сохранение определенных традиций личностного бытия. Поэтому это всегда – диалог с философами прошлого так же, как память об отцах.
Мамардашвили М. Философия и личность // Человек. – М., 1994. – Выпуск 5. – С. 5–19.
Раздел II
Античная философия
Платон (428–348 до н. э.)