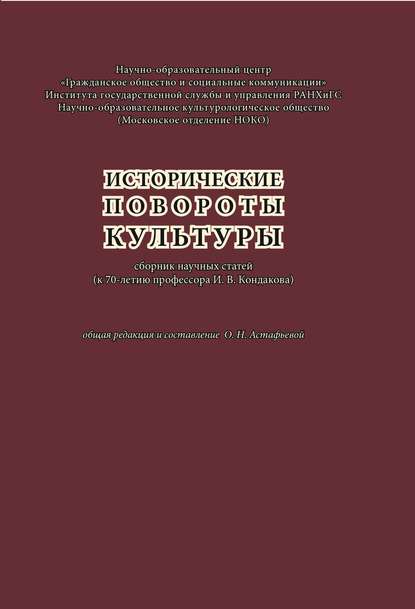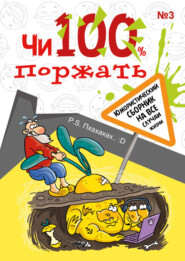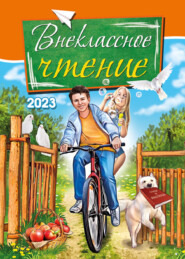По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Исторические повороты культуры: сборник научных статей (к 70-летию профессора И. В. Кондакова)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Понятие «литературоцентризм» означает тяготение культуры к словесно-художественным формам саморепрезентации. В науку оно было введено Игорем Вадимовичем уже давно. Об этом свидетельствует целый ряд его публикаций на эту тему[2 - См.: Кондаков И. В. Покушение на литературу (О борьбе литературной критики с литературой с русской культуре) // Вопросы литературы. 1992. Вып. 11; Кондаков И. В. Литература как феномен русской культуры // Филологические науки. 1994. № 4; Кондаков И. В. Русская литература как феномен культуры // Освобождение от догм. История русской литературы: состояние и пути изучения: В 2 т. Т. 2. – М., 1997.]. По мнению Игоря Вадимовича, для русской литературы характерен культурный синкретизм, а для всей русской культуры – литературоцентризм, оказывающий мощное воздействие на смежные формы культуры. Особенно сильным влияние литературы на другие формы культуры было в эпоху русской классики – в XIX веке, когда эти культурные формы получают свое развитие и распространение почти исключительно в литературной форме. Это касалось живописи передвижников, программной музыки, театра, в том числе, музыкального, философии, литературно-художественной критики и публицистики, журналистики в целом, науки, религиозно-мистических исканий, политической идеологии, морали и т. п. Значительна роль русской литературы и в отечественной культуре ХХ века, включая Серебряный век и советский период. Но, прослеживая эту универсальную закономерность, Игорь Вадимович, тем не менее, констатирует в этом процессе и подъемы, и спады. Как доказывает ученый, внимательный анализ этого феномена показывает, что при сохранении этой тенденции на протяжении длительного времени как магистральной, можно фиксировать существование определенной цикличности в проявлениях российской литературоцентричности.
В постановке вопроса о литературоцентризме, присущем русской культуре, проявляется, однако, не только один из признаков конкретного типа культуры в мировой истории. Такая постановка вопроса важна и для самоопределения культурологии как науки. С ней происходит то, что всегда сопровождало историю философии. Ведь философия постоянно пыталась осознать себя по отношению не только к религии, а, следовательно, к теологии. В ее истории выделяются две точки зрения на свой предмет. Об этом свидетельствует разделение философов в разные эпохи на две группы. Одни полагают, что философия ближе к науке и даже еще более определенно, философия есть наука, одна из наук. Другие же при держиваются иной точки зрения, будучи убежденными в том, что философия ни в коем случае наукой не является, что она ближе искусству.
Современным концептуалистам, вроде Д. Кошута, размышлявшего о судьбах философии в ХХ веке, последняя постановка вопроса соответствует больше. Если в лице, скажем, Канта и Гегеля, которого Д. Кошут называет последним философом, как мыслителей эпохи модерна (модерн здесь следует понимать в философском смысле) мы находим сторонников философии как науки, то в лице А. Шопенгауэра и Ф. Шеллинга мы обретаем мыслителей, убежденных в близости философии искусству. Эту вторую точку зрения подхватывает в России, например, Н. А. Бердяев. Причем, в этом вопросе он весьма категоричен. «Философия ни в коем смысле, – пишет он, – не есть наука и ни в каком смысле не должна быть научной»[3 - Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. – М.: Правда, 1989. С. 262.]. Но если философия – не наука, то что же она такое? Здесь у философа тоже полная ясность: «Философия есть искусство, а не наука»[4 - Там же. С. 264.].
Та же самая ситуация складывается в истории становления культурологии, которая развивается в тесном сотрудничестве с философией, откуда в ней и возникает эта отмечаемая нами дихотомия. Любопытно, конечно, как она соотносится со спецификой русской культуры. Конечно, Гегель имел огромное влияние и на отечественную философию и даже на историческую науку. Конечно, все это проявилось в активизации позитивизма и социологизма в России и позднее, а именно, с середины ХХ века. Культурология в своем становлении несет печать этой позитивистской вспышки, о чем мы уже сказали. Тем не менее, влияние Ф. Шеллинга, скажем, считавшего художественное, т. е. чувственное познание, в отличие от Гегеля и вообще философов Просвещения, выше логического, т. е. собственно научного, в России даже сильнее.
Ф. Шеллинг более созвучен русскому мыслителю, излагающему свои идеи не только с помощью логических построений, но и с помощью образов. Об этой особенности отечественного философствования писал А. Лосев. Он формулировал: «Русская литература есть вопль против созерцательности, отвлеченности, схематизма; и вся она есть художественная и моральная исповедь и проповедь, политический памфлет и разоблачение, религиозное и созерцательное пророчество и воззвание, сплошная тревога и набат, но ни в коем случае не отвлеченное рассуждение, не логическая система, не методическое построение»[5 - Лосев А. Ф. Основные особенности русской философии // Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. – М.: Политиздат, 1991. С. 511.]. Собственно, это характерно не только для русской литературы, но и для русской философии. Так повелось с А. Хомякова, писавшего стихи и высказывавшего свои идеи в поэтической форме, и дошло до Владимира Соловьева, также совмещавшего философию с поэзией. В. Соловьев критиковал Гегеля и почитал Ф. Шеллинга. Этот синтез философии и литературы можно усмотреть также в творчестве Льва Толстого и Федора Достоевского. Что касается Ф. Шеллинга, то его особенно почитали славянофилы, которые стоят вообще у истоков самостоятельной русской философской мысли. Поэтому даже тип философствования в России и история русской философии как форма самосознания русской культуры демонстрирует синтез логического, чувственного (эстетического), философского и художественного начала. Под художественным следует понимать не только поэтическое и литературное начало. Здесь также ярко выражено и то, что Е. Трубецкой назвал «умозрением в красках», которое, кстати, активизируется в эпохи кризиса литературоцентризма. Это произошло, например, в эпоху символизма. Так что это пристрастие к изложению философских концептов с помощью форм чувственного мышления как раз и свидетельствует о специфике и русской философии, и культурологии в ее отечественном варианте.
Культурология ведь начинается с эстетики. Этот вывод сделал еще Й. Хейзинга, призывающий осознать проблематику культуры через игру. Нидерландский философ, касаясь того смысла, что вкладывается в понятие «культура» Я. Буркхардтом, фиксирует прежде всего эстетический, а не социально-экономический или технологический смысл. Он пишет: «Тот факт, что Буркхардт в своем представлении о культуре на первое место ставит ее эстетическую сторону, не должен нас удивлять»[6 - Хейзинга Й. Тени завтрашнего дня. Человек и культура. Затемненный мир. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010. С. 214.]. В конце концов, Й. Хейзинга солидаризируется с Я. Буркхардтом. Выделяя эстетическую сферу в качестве для культуры основополагающей, Й. Хейзинга в то же время противопоставляет ее научному и техническому, т. е. цивилизационному аспекту. Следующее суждение философа еще больше проясняет его мысль о связи культурологии и эстетики. «Мы все слиш ком хорошо знаем, что высокая степень научного и технического совершенства не является гарантией культуры. Для этого необходимы: прочный правовой порядок, нравственный закон и человечность – основные устои общества, которое и является носителем культуры. Наряду с этим наше представление об определенной культуре будет связано в первую очередь с достижениями в эстетической сфере, с произведениями искусства и литературы»[7 - Там же. С. 214.].
Такая точка зрения, конечно, в еще большей степени обязывает оценить то направление в становлении культурологии, которое в России во второй половине ХХ века выдвинулось на первое место и в границах которого происходило становление идей И. В. Кондакова. Возможно, пройдет время и в контексте новой позитивистской вспышки культурология будет придерживаться других ориентиров и принципов, но пока приходится констатировать близость культурологии как науки в России именно к искусству.
Собственно, погружаясь в самосознание культурологии как науки в России, мы в то же время выяснили и определяющие научные ориентации Игоря Вадимовича. Совсем не случайно в России культурология возникает и развивается на плечах таких выдающихся филологов, как Ю. Лотман, М. Бахтин и С. Аверинцев, которые задали направление культурологической рефлексии, разделяемое нашим профессором. Культурология в России выходит из филологии, и это хотя и не является исключением в логике становления этой науки, но, тем не менее, позволяет говорить о специфических чертах отечественной науки. И еще точнее: о специфических особенностях отечественной науки рубежа ХХ – XXI веков.
И. В. Кондаков становится культурологом – профессионалом именно в этом контексте, именно в русле этой продолжающейся традиции. Возможно, сегодня лишь он один эту традицию продолжает демонстрировать как самую авторитетную и самую конструктивную. Да, можно сказать, что Игорь Вадимович – шеллингианец, продолжатель той традиции, что тянется от Ф. Шеллинга, от романтиков, от славянофилов к Владимиру Соловьеву и затем имеет продолжение в рефлексии Ю. Лотмана и С. Аверинцева. Наверное, эта традиция в отечественной культурологии не будет единственной. Но, что касается периода в становлении науки о культуре последних десятилетий ХХ века и первых десятилетий XXI века, когда появляются зрелые работы Игоря Вадимовича, то он будет отмечен именно этой традицией. Именно это обстоятельство способствует научному авторитету И. В. Кондакова. Именно это способствует периоду акмэ, как выражались древние философы, в его научной и творческой биографии.
Остается лишь пожелать дорогому нашему коллеге – Игорю Вадимовичу от всего Научно-образовательного общества, как и от редакционного совета и от редколлегии нашего альманаха не сбавлять мощного творческого накала и, разумеется, здоровья, без которого такое вызывающее глубокое почтение творческое напряжение невозможно. Долгих лет жизни и творческого накала, уважаемый коллега.
Т. С. Злотникова. Глобалитеты ученого: И. Кондаков
Две книги одного из крупнейших российских культурологов, И. В. Кондакова, изданы с разницей примерно в полтора десятилетия. Любимые идеи: про литературоцентричность русской культуры, про глобалитет культурных трансформаций – эти и многие другие, присутствуют там последовательно и прихотливо.
Между ними – другие книги, десятки научных статей, докладов. Диапазон показателен и впечатляющ: «книга-горизонт», при всем драматизме повествования, размашистый очерк «всей» русской культуры, и «книга-бонус», парадоксальный и полемичный дискурс русской культуры как постмодернистского проекта. В книгах, мыслях, фразах и поворотах – личность ученого – талантливого мыслителя и блестящего литератора.
Пульс русской культуры
Знать и любить – далеко не одно и то же. Студенты знают детали учебного предмета, но не любят ни его, ни того, кто им этот предмет должен был «одушевить». Или любят – людей, даже факты, вовсе не зная их в подлинном смысле. Знать и любить то, чему посвящено исследование, – счастье для исследователя; дополнительное счастье – возможность «заразить» любовью, поделившись знанием. Примерно так можно определить эмоциональный посыл книги И. Кондакова, которую автор посвятил необычному адресату: не родным, не учителям, а – ученикам. И этим сказано то, без чего жанр издания показался бы сухим, скучным и не требующим серьезного внимания к себе.
Однако перед нами далеко не просто «еще одно» учебное издание, каких сейчас появляется множество – едва ли не столько же, сколько вузов имеет свои типографии и мало-мальски активных в деле писания преподавателей. Если это и учебник – то особого рода – из которого можно узнать не только о конкретных фактах русской культуры, но и о том, чему и почему хочет научить коллег, в том числе и молодых, И. Кондаков[8 - Кондаков И. В. Культура России: учебное пособие. – М.: Книжный дом «Университет», 1999.].
И сегодня, и несколько десятков лет назад, в годы, вскользь упоминаемые как период тоталитаризма, написать научное исследование и издать его – два совершенно разных дела. Как заметил Б. Егоров в книге о Ю. Лотмане, научные исследования проще всего было издавать в виде учебника. Именно такой «учебник» издан И. Кондаковым.
В этом «учебном пособии» аналитический подход к материалу преобладает над дидактическим. Автор не просто облек в главы и сопроводил вопросами для повторения свои суждения; он откровенен в своих сомнениях и делает их таким же предметом рассмотрения, как и саму фактуру материала. И примерно в середине книги, как бы между делом, замечает: «Любая попытка представить русскую культуру в виде целостного, исторически непрерывно развивающегося явления, обладающего своей логикой и выраженным национальным своеобразием, наталкивается на большие внутренние сложности и противоречия»[9 - Там же. С. 167.].
Более того, по мере продвижения книги к концу, а истории русской культуры – к нашим дням, И. Кондаков не только усугубляет аналитический дискурс, но придает своим высказываниям открыто полемический характер.
Он позволяет себе «крамольное» высказывание о позитивном значении Николая I для русской культуры, по сути – о пользе административного «пресса», «под давлением которого русская культура обрела свои канонические, эталонные формы…»[10 - Там же. С. 195.]. При этом словно бы само собой разумеющимся, нигде в книге специально не обсуждаемым полагается столь значимое, роковое и сладостно-вдохновляющее противостояние русского творца и власти. Студентам, только недавно, на школьной скамье, усвоившим представление об А. Солженицыне как едва ли не единственном воплощении народной совести и живом классике литературы, полезно получить толчок к более объемному восприятию этого культурного феномена как последовательного и жесткого «идеологического мониста»[11 - Кондаков И. В. Культура России: учебное пособие. – М.: Книжный дом «Университет», 1999. С. 288.].
Автор позволяет себе далее высказывание о канонизированном, а затем тотально развенчанном М. Горьком, едва ли не сочувственно говоря о его «творческой гибкости и нравственно-политической бесприн ципности». Но Горький оказывается в восприятии внимательного читателя книги «уравновешен» упоминанием о нем в контексте Серебряного века, что, с одной стороны, поясняет его личностную «многослойность» и противоречивость, а с другой – дополняет столь дорогое для И. Кондакова представление о многовекторности движений в эпоху, названную Серебряным веком[12 - Там же. С. 233–234.].
Если смотреть на книгу И. Кондакова как на учебник, можно отметить ее жанрово необходимый элемент – тезаурус. Причем комментарии даются не только к фундаментальным и устоявшимся понятиям (именно комментарии, выражающие отношение автора к категориям культуры), формирующим культуру факторов или механизмов, действующих в ней, Золотого и Серебряного веков, но и к понятийному аппарату, вводимому самим автором. Так, осуществляя естественно-научный дискурс гуманитарной науки культурологии, И. Кондаков по традиции опирается на идеи Г. Вернадского, а также, в частности, на тему специфического «месторазвития» русской культуры, – или употребляет укоренившееся в системе использования искусственного интеллекта понятие «фрейм». А устоявшееся, казалось бы, понятие менталитета рассматривает как необходимую дефиницию, придавая ей впоследствии специфический оттенок и акцентируя проявление не личностного или этнического менталитета, но «менталитета национальной культуры» и указывая на наличие «протоменталитета русской культуры» в период язычества[13 - Там же. С. 95.]. В числе специально объясняемых – и, действительно, в версии автора требующих этих объяснений – с особенным вниманием осмысливаются Петровские (именно с заглавной буквы) реформы; вполне дискуссионно, но по-своему последовательно освещаются понятия классической культуры, которая рассматривается в рамках только XIX века (не потому ли Л. Толстой и В. Соловьев оставлены исключительно в XIX веке?), элитарной культуры как едва ли не синонима культуры дворянской и культуры массовой, возникшей в «низовой, народной среде».
Учебное пособие как жанр предполагает необходимость апелляции к общеизвестному – хотя бы для уравновешивания оригинальных и непривычных идей. Но и само общеизвестное не обязательно должно оставаться трюизмом. И. Кондаков озаглавил один из параграфов своей книги – «Смута» как образ мира в XVI–XVII веках», переведя обы денное понятие неустроенности и неорганизованности в ранг бытийного обобщения. И дал толчок к избавлению современных студентов от иждивенческого восприятия данностей сегодняшних, объяснив «вненаходимость» современного состояния русской культуры тем, что в конце XX века она переживает «Смутное время»[14 - Там же. С. 300.].
Для учебного пособия чрезвычайно важно – это мое убеждение выработано многолетними вузовскими штудиями – не только преподать необходимый материал, но соотнестись со стереотипами учебных программ. Невольная идеализация и схематизация Серебряного века как культурного пласта, возвращенного в актив национального самосознания, уже требуют критического осмысления. И автор книги предпринимает шаг именно такого рода, ориентируя неокрепшие студенческие (впрочем, может быть, и некоторые преподавательские) умы на восприятие конфликтных начал, заложенных в далеко не монолитной эпохе. Здесь и неожиданное на фоне общепринятого поклонения слово «беда» (запрограммированность на саморазрушение); здесь и беглое замечание о произрастании «босяков» и революционеров из широты и вседозволенности Серебряного века; здесь и продолжение многочисленных бинарных оппозиций (о которых чуть позже) – рассуждение о том, что Серебряный век был «по-возрожденчески безмерным и по-модернистски беспринципным»; здесь и мысль о противоречии между декларациями свободного индивидуального творчества и стремлением к созданию интегрального «большого стиля»[15 - Кондаков И. В. Культура России: учебное пособие. – М.: Книжный дом «Университет», 1999. С. 224–231.].
Если уж всерьез говорить об учебном издании, то книга И. Кондакова может научить независимо осмысливать авторитетно установленные факты и находить нетривиальный способ выражения своих идей. Не скажу – простой, но, надеюсь, доступный. Для этого, пусть изредка, автор позволяет себе сменять стиль научный на публицистический, говоря о том, как «старое» в русской социокультурной истории часто продолжало вялый «дрейф» параллельно с формированием нового[16 - Там же. С. 61.]; или описывая революционные настроения рубленым слогом: «Искусство (революции) требует жертв. Много. Больших. Безоглядных. Потому что ее цель велика и возвышенна»[17 - Там же. С. 274.]. Иногда – крайне редко – искушение публицистич ностью перевешивает содержательную строгость, и тогда, рассуждая о мнимом плюрализме русского постмодерна, И. Кондаков возмущается: «идет «базар» – кто кого перекричит и какой «ярлык» наклеит»[18 - Там же. С. 313.].
И еще немного об «учебном пособии». Задача «учебного» изложения колоссальных массивов – как с точки зрения движения идей, так и с точки зрения фактологии – породила, я бы сказала, органические, естественные противоречия и недоговоренности. Наверное, студентам не покажется странным то, что может удивить их преподавателя: «выпадение» из сферы анализа автора целостности периода, называемого в XX веке «послевоенным» – с 1940 до 1980 годов; то, что, по сути дела, синонимически подаются «советская» и «тоталитарная» культура (ибо культура тоталитарной эпохи вряд ли есть в полной, да и в значительной мере тоталитарная культура!). Есть для меня определенная противоречивость и в некоторых – поневоле – перечислительных пассажах книги, когда без комментариев К. Станиславский упоминается и в числе корифеев Серебряного века, и в числе поступивших «на службу советской власти», в то время как В. Мейерхольд не упоминается в числе последних, а фигурирует лишь как творец, не подчинившийся Системе.
И, разумеется, определенную опасность быть понятым однозначно таит в себе стремление увидеть в последних по времени явлениях итоговое в историческом смысле качество культуры. Наверное, сегодня нет более странного заявления, чем такое: «русская культура к концу XX в. обрела единство и цельность»[19 - Там же. С. 335.], – даже если дается комментарий к этому единству. Или единство есть не только слитность, но и простая совокупность?..
Но довольно об учебной – пусть важной и полезной – книге. Пора сказать о Книге. О сочинении, написанном «густым» текстом, лишенным эффектных графических решений и читаемым способом «медленного чтения», без желания пролистать «войну» и насладиться красотами «мира».
И. Кондаков убежден в том, что теория и история (в данном случае культуры) не являются вполне самостоятельными и отдельными научными областями. Он полагает и ходом своей книги доказывает, что и история не есть буквальная последовательность фактов и персон, и теория не есть хронотопически аморфная совокупность явлений.
Очень хочется согласиться с автором в том, что мы имеем дело с набором теорий (или, если угодно, теоретических моделей) русской культуры. И вот эти-то теории позволяют автору синтезировать в книге представления о таких важнейших, исторически сложившихся чертах русской культуры, как дискретность ее развития, самокритичность и способность к самоотрицанию, устремление к медитации, и о таких ее современных свойствах, как дефицит социокультурного плюрализма, значимость культуры повседневности, системообразующий характер маргинального.
Многие идеи в силу определенного объема издания выглядят тезисами-«коконами», которые при дальнейшем развертывании могли бы вырасти в самостоятельные величины. Не «развернуты» в своих эпизодах, но осмысливаются по ходу книги тезисы о цивилизованном единстве тысячелетней России как воплощении определенных ментальных предпосылок и о культуре последних трех столетий как потоке инноваций. «Посвященному достаточно», как говорили древние римляне, а непосвященному потребуется отдельный том для обсуждения того, что «Восток» и «Запад» были в России лишены обыденной конкретики, были «лишь условными знаками, символами “своего” и “чужого”… весьма далекими от самой реальности, – ее концептами, фреймами, теоретическими моделями»[20 - Кондаков И. В. Культура России: учебное пособие. – М.: Книжный дом «Университет», 1999. С. 200.]. И, уж конечно, глубокий опыт многолетних наблюдений должен сопровождать сопоставление российского постмодерна с западным, когда последний оценивается как «результат свободной интеллектуальной и стилевой игры» отдельных творцов, а первый – русский – как проявление кризисного состояния едва ли не коллективного бессознательного в специфической социокультурной ситуации.
Для самого И. Кондакова и для развития нашей научной сферы важно и своевременно его настойчивое внимание к самой концепции и к разного рода проявлениям бинарности русской культуры. Общие принципы и тенденции (которые носят метаисторический характер) и конкретные, подчас дискуссионно рассматриваемые артефакты – все это «работает» на последовательную реализацию научных идей И. Кондакова.
Отказываясь, по сути (и декларируя этот отказ), от попытки «представить российскую цивилизацию в виде целостного… явления, обладающего своей линейной логикой»[21 - Кондаков И. В. Вместо Пушкина. Этюды о русском постмодернизме – М.: Издательство МБА, 2011. С. 56.], И. Кондаков употребляет затем в соответствующем контексте такие понятия, как двоеверие, двоемыслие, двоевластие, раскол. Кажется удивительно логичным, но выглядит вполне оригинально соотнесение с бинарной структурой русской культуры принципа диалогичности, при этом и бинарность толкуется как раздвоенность. Из идеи бинарности выводится, в частности, не просто сам принцип двоеверия, но определяется генезис этого явления: незавершенность встречных процессов развития язычества и христианства. Бинарность как соотношение святости и нелепости, провалов и подвигов, религиозности и атеизма, рационального и иррационального (и их инварианта – европейского и азиатского), свободы и вседозволенности, созидания и разрушения, любви и ненависти, тоталитаризма и демократии, – все это И. Кондаков видит не как противостояние несовместимостей, но как действие специфического, российского механизма конвергенции.
В числе составляющих бинарной оппозиции в истории русской культуры есть структуры персонифицированные и универсальные. Среди персонифицированных, которыми наполнены многие эпизоды книги, привлекает внимание сочетание «Карамзин – Пушкин». Для И. Кондакова важна не последовательность их появления, а параллельность воздействия на культурные процессы в России; то, что старший собирает в себе свойства русского творца и понимание русской истории, а младший осуществляет движение вовне времени и пространства России. И. Кондаков видит именно в этих людях, в этой паре «эталонные формы русского национально-исторического самосознания в культуре»[22 - Там же. С. 191.]. Любопытно при этом, что Пушкин предстает не только как составляющая бинарной структуры, но и как своего рода самоценная бинарная структура, воплощение традиционного для России разлада Империи и Свободы[23 - Там же. С. 193.].
Среди универсальных структур, как кажется, особенно важной для автора является антиномия средневековой Руси и России Нового времени, что выражается и на политическом, и на художественно-эстетическом уровне. Грустное и справедливое наблюдение относительно взаимной нетерпимости двух русских культур, в особенности находившихся по разные стороны «железного занавеса» в XX веке, выражает (правда, в намеке, развиваемом фрагментарно позднее) характерную антиномию всего прошедшего столетия.
Однако при всей несомненности и «подстроенности» бинарных оппозиций в системе книги И. Кондакова могло бы возникнуть ощущение монотонности, плоскостности этой, чересчур последовательно воплощаемой идеи. От этой опасности книгу спасает вполне последовательное, в духе известных построений Ю. Лотмана, перерастание бинарности в тернарность. И. Кондаков сам находит тернарность в идеях Н. Данилевского и К. Леонтьева, обосновывает ее в связи с работой В. Соловьева «Три силы», вызывая вполне естественное предположение: нельзя ли определить всю логику развития русской культуры последних двух столетий как перерастание бинарности в более естественную для живой культурной практики тернарность?
Разумеется, стремление максимально полно развить идею бинарности русской культуры приводит к ее абсолютизации, которая не может не вызвать сомнений. Очень серьезных и детальных комментариев требует тезис о «сродстве тоталитарности и национального менталитета русской культуры»[24 - Кондаков И. В. Вместо Пушкина. Этюды о русском постмодернизме – М.: Издательство МБА, 2011. С. 35.]. Как быть в таком случае с резким ростом персоналистских тенденций в русской культуре последних трех столетий? И как быть с тоталитарными системами иных государств в XX веке? Увлекаясь «парами», в том числе и лексическими, в названиях произведений русской классики, И. Кондаков ставит в единый ряд «Войну и мир», «Преступление и наказание», где бинарность несомненна и системообразующа, – с «Мертвыми душами», где система имеет другие основания. Да и выражена ли – или являет собой вовсе другую целостность, как, скажем, в словосочетаниях «Бедная Лиза» или «Евгений Онегин»?
Дабы не создалось впечатления, что в насыщенной и многосторонне представляющей итоги осмысления особенностей русской культуры книге все «гладко», а потому (упаси Боже!) скучно, – нужно заметить, что у разных, но внимательных читателей могут возникнуть разные собственные ассоциации, продолжение авторских мыслей, и собственные – подчас по контрасту. Конечно, в этой книге есть «предрассудок любимой мысли», видны пристрастия и приоритеты автора. В силу чего те или иные ситуации у него заметно переакцентируются и по сравнению с общепринятыми представлениями (о чем было сказано выше), и даже по сравнению с конкретикой определенных фактов и ситуаций.
Мне показалось характерным, что И. Кондаков относит формулу недоумения М. Горького в отношении «неполучившейся» пьесы «На дне» к 1930 годам. Это в какой-то степени «спрямляет» и схематизирует воссоздаваемое им представление о Горьком как человеке текучем и противоречивом. Тем более что Горький на самом деле сожалел о недопонимании пьесы по линии Луки еще в момент ее премьеры в Художественном театре в 1902 году: «… ни публика, ни рецензята – пьесу не раскусили… Я теперь соображаю – кто виноват? Талант Москвина-Луки или же неуменье автора?» (письмо К. П. Пятницкому, 25 декабря 1902 года). А опровергать себя и «извиняться» в новую эпоху Горький стал сценарием «По пути на дно» тоже не в 1930, а в конце 1920 годов.
Объем и масштаб информации и аналитических пассажей таковы, что проскальзывающие неточности можно отнести не к числу ошибок, а к числу «проговорок», выдающих подлинное мнение автора. Конечно же, И. Кондаков помнит, что идея восприятия названия национальной принадлежности «русский» как прилагательного, требующего «себе» для полноты воплощения существительное, была высказана В. Соловьевым, но не только не отсылает к этому автору и его работе «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории», но и переакцентирует вывод. Если Соловьев, устами одного из участников беседы, утверждал, что существительное это не «человек», а вполне конкретно «европеец», то И. Кондаков полагает, что прилагательное «русский» без конкретного существительного является воплощением «причастности предмету высшему и самоценному по сравнению с людьми, составляющими народ»[25 - Там же. С. 43.].
Сам, очевидно, ярко выраженный «русский европеец», И. Кондаков, акцентируя значимость интуитивного начала в русской культуре, в определенной мере противоречит себе, когда говорит о характере западного влияния. Чтобы «пример для подражания… был вымышлен», рациональный импульс должен быть куда более мощным и реализоваться куда более последовательно. С другой стороны, прав – хотя бы отчасти – И. Кондаков, ядовито замечающий, что Россия (речь идет о XVIII веке, но это вполне применимо и к нашей современности) подражала Западу, «каким его себе представляли сами русские»[26 - Кондаков И. В. Вместо Пушкина. Этюды о русском постмодернизме – М.: Издательство МБА, 2011. С. 180.].
Вычленяемую в ходе формирования русской культуры творческую личность И. Кондаков считает (считает ли?) «компонентом, репликой в споре», а всю русскую классическую литературу определяет как «единый текст» (интертекст?), «принципиально незавершимое диалогическое целое»[27 - Там же. С. 114.]. Спорность реплики и (в случае, если это не просто реплика) позиции – очевидна, но автор – полемист, для которого многие высказывания – это не окончательные выводы, а побуждение к диалогу.
Оставим это принципиальное суждение для отдельной, самостоятельной дискуссии и заметим попутно, что книга И. Кондакова откровенно литературоцентрична. Литература, ее творцы, ее вершинные произведения – вот конкретный предмет, на фоне которого разворачивается книга. Вне слова, разумеется, немыслима русская культура. Но словом она не исчерпывается. Правда, перед нами – «очерк истории и теории». И если для истории все сферы культуры должны быть равны, то теория заведомо опирается на принцип избирательности, и тогда минимальная апелляция к живописи и архитектуре, музыке, театру и кинематографу – более или менее естественна.
Написанная И. Кондаковым книга – явно не для чтения «по диагонали». И – явно не для приятия ее в качестве источника истины в последней инстанции. На что, впрочем, ни по своим задачам, ни даже по тону и звучанию текста автор не претендует. У нее обязательно должны быть противники, но приятие ее содержания тоже не есть полное согласие с каждой фразой. Думаю, лучший из ожидаемых вариантов восприятия – это единомыслие, как определил когда-то в рабочей репетиционной ситуации С. Юрский; единомыслие не как наличие одинаковых мыслей, а как готовность размышлять в общем для собеседников направлении.
Личное, очень личное…
Игорь Кондаков – человек слова. Не только в том смысле, что выполняет данные обещания (это – так, но не об этом сейчас речь). Он – человек слова в том смысле, что культура, и его личная, и как предмет научных интересов, – это, прежде всего, культура вербальная. В отличие от многих современных авторов – историков русской культуры последнего столетия и критиков – И. Кондаков владеет текстами, о которых пишет, будь то тексты художественных произведений или тексты личностей. Его собственный текст, воспринимаемый и как полемический по духу, и как фактологически насыщенный, имеет явственные и определенные связи не только с традицией М. Бахтина (теоретический дискурс прихотливо, на первый взгляд, сформированного корпуса эмпирического материала), но и с традициями крупнейших русских филологов в той их ипостаси, которая позволила бы назвать их, как это часто делают с Бахтиным, культурологами; с моей точки зрения, автору книги о русском постмодернизме не чужд опыт В. Шкловского, Б. Эйхенбаума, Ю. Лотмана… И потому не будет странным назвать И. Кондакова одним из наиболее последовательных и убедительных в своей аргументации авторов и сторонников идеи литературоцентричности русской культуры.
Конечно, эта книга не просто и не только о Пушкине[28 - Там же.] – вовсе не о Пушкине, и даже не о том, что происходило в русской культуре после Пушкина или под влиянием Пушкина. Иначе автор как минимум высказался бы по поводу эссе «Пушкин и диплом рогоносца», написанного одним из «героев» книги, земляком и отчасти коллегой А. Королевым; или об эмигрантах (Г. Иванов, З. Шаховская, С. Черный, Дон Аминадо, наконец, М. Осоргин с его новеллой «Человек, похожий на Пушкина»), для которых Пушкин был несомненной и прекрасной частью России, утратившей в их глазах признаки любимой (достойной любви) родины, в силу чего они «нагрузили» личность ушедшего гения своими комплексами и настроениями, выстроив совершенно особый, поистине абсурдный логический ряд. Эта книга и не могла быть просто о Пушкине, ибо И. Кондаков формулирует то, в чем стыдливо не сознаются патриоты России и поклонники ее классической культуры: справедливо, трезво и точно он говорит о «всемирной непризнанности» Пушкина, хотя и называет этот феномен загадкой. Причем сам автор книги идет по стопам великих предшественников, к примеру, Н. Бердяева, который сравнивал Пушкина и Сергия Радонежского как двух гениев святости – святости дерзновения и святости послушания; Кондаков же определяет (можно спорить, но нельзя не восхититься соблазнительной точностью) Пушкина как формулу «созидания русской культуры», Ленина же как формулу «разрушения, русского бунта».
Конечно, это книга – о постмодернизме, но не о том, который всем известен, а о том, который (как сам Пушкин) у каждого критика или ученого свой. Вслед за М. Цветаевой, которая не стала героиней его книги, И. Кондаков мог бы назвать этот свой опус: «Мой…», но, разумеется, не «Пушкин», а «постмодернизм». И потому, совершенно в духе постмодернизма, композиция «этюдов» свободна, ее надо разгадывать, она не так уж просто укладывается в хронологию, ибо Розанов возникает прежде Гончарова (данного, правда, отраженным светом, в очерке о другом авторе, исследовавшем русского классика из американского далека), а А. Н. Толстой и Хармс то и дело появляются в разных главах не только в соответствии со временем своего присутствия в русской культуре, но и в соответствии с художественным либо политическим смыслом своего существования.
Автор книги, как и многие представители нашего поколения «шестидесятников» (если метафорически – наследников тех, реально существовавших 50 лет назад, если буквально – тех, чей возраст не так давно перешагнул за грань шестидесятилетия), не видит культуру вне политики, вне идеологии, вне проблем нравственного долга и эстетического совершенства. Ему претит черновик будущего курса ВКПб, каким он видит повесть А. Толстого «Хлеб»; он способен очаровываться наивными находками или гневаться по поводу беспрецедентных эстетических «падений» Д. Бедного или Н. Островского; способен с уважением и без принятого сегодня ерничества отнестись к сверхидеологическому А. Фадееву, который «был честен и искренен во всех своих заблуждениях – и как писатель, и как мыслитель, и как политический функционер». И, естественно, он не перестает восхищаться бесконечно противоречивым, а в чем-то едва ли не отталкивающим постоянным героем его опусов, В. Розановым, видя в нем «роковой перекресток ‹…›, грандиозное и безответное распутье» русской культуры.
Не в упрек, а в похвалу исследователю нужно признать: столь значимая бахтинская категория «вненаходимости», понимаемая просто и плоско, как физическое расстояние между людьми, эпохами, явлениями, – для него не осуществима как личная траектория. И. Кондакову интересен не только процесс трансформаций государства российского со всеми его давними и почти сегодняшними тиранами и преобразователями, но интересны люди, которых автор книги, думаю, именно благодаря такому искреннему интересу понимает со всеми их слабостями и индивидуальными особенностями.