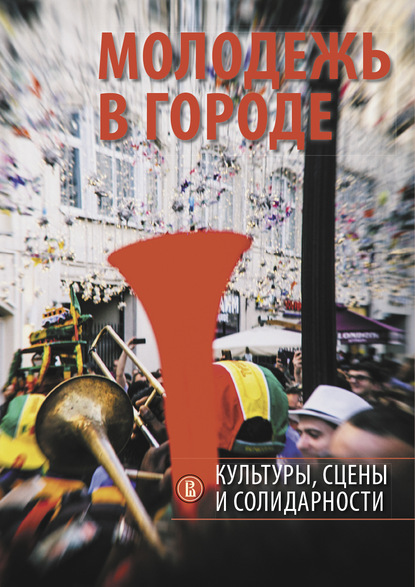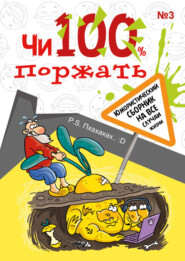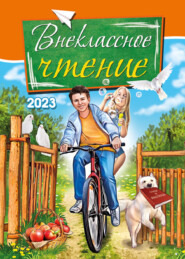По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Молодежь в городе: культуры, сцены и солидарности
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сбор данных осуществлялся коллективом Центра молодежных исследований (НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург), т. е. во все четыре города были организованы экспедиции. Кейсовые исследования проводились, как правило, одним лицом. Все собранные данные были анонимизированы. Это важное условие коллективного проекта. Анализ количественных данных проходил с помощью статистического пакета SPSS, для анализа качественных данных использовалась программа NVivo.
Завершая описание методологии проекта, еще раз отмечу, что его важным моментом стал особый набор используемых методов и техник. В каждом из выбранных городов мы начинали с количественного опроса в учебных заведениях (ссузах и университетах), затем переходили к интервьюированию молодежи, вовлеченной в разные формы культурной и гражданской активности, характерные для той или иной локации. Затем, анализируя полученный материал, выбирали в каждом городе два наиболее ярких и адекватных культурной атмосфере кейса – две культурные молодежные сцены, которые становились полем этнографического исследования – включенного наблюдения и глубинных биографических интервью. Ряд кейсов (в частности, в Махачкале и Казани) легли в основу исследовательских фильмов, которые стали завершением полного цикла анализа и репрезентации молодежных культурных и активистских практик разных российских городов.
Первый раздел книги – «Молодежные культурные сцены и межэтническое взаимодействие» – посвящен теоретико-методологическим разработкам ключевых понятий и концепций проекта и соответствующего анализа.
Вводная статья «Вместо введения. 25 лет молодежных исследований: глобальные имена – локальные тренды» (автор – Елена Омельченко) посвящена идее проекта и ключевым направлениям исследований молодежного пространства России в постсоветский период. В тексте рассматриваются наиболее яркие события этого времени сквозь призму разнообразия молодежных форм солидаризации и групповых идентичностей, изучению которых были посвящены проекты, реализованные НИЦ «Регион» и ЦМИ НИУ ВШЭ, проводится анализ старых и новых форм концептуализации молодежной социальности, предлагаются авторские интерпретации направлений и эффектов социальных и культурных трансформаций молодежного пространства России в новом тысячелетии.
Вопросам конструирования понятия «молодежная культурная сцена» посвящена следующая статья «Концепт культурной сцены как теоретическая перспектива и инструмент анализа городских молодежных сообществ». Авторы – Елена Омельченко и Святослав Поляков, – отталкиваясь от дискуссии вокруг субкультурного подхода, его критики, осмысления истории теоретизации в молодежных исследованиях, обосновывают эвристическую ценность сценового подхода. В статье приводится пример его использования для изучения уличного воркаута в Махачкале через анализ сетевой структуры, стиля и идентичности, места, театральности, аутентичности, легитимности и экономики молодежного сообщества. Преимущество сценового подхода заключается в том, что отдельное внимание здесь уделяется не только материальности места и перформативности, но и той особой контекстуальной чувствительности, которая объединяет участников сцены, а также внутрисценовым DIY-практикам.
Методологические вопросы изучения межэтнических контактов на молодежных культурных сценах рассматриваются в статье Гюзель Сабировой «Молодежные культуры как среда актуализации (меж)этнического». Автор анализирует актуальную академическую дискуссию вокруг целого ряда понятий и категорий, используемых как отечественными, так и западными исследователями для объяснения новой реальности взаимодействия и проникновений этнического, религиозного, (суб)культурного, гендерного начал. Г. Сабирова обращает внимание на сложность исследовательского поля, возникающего на пересечении двух тематических плоскостей – молодежных культур и межэтнического восприятия (коммуникации), которое оказывается многогранным и многоуровневым, охватывающим широкий спектр объектов и концепций. Молодежное культурное пространство, по мнению автора, является как средой, где обнаруживаются/cталкиваются/обсуждаются социальные различия (включая этнические), так и пространством, в котором этническое может быть капиталом, ресурсом, которое активно «воображается» и производится, становится «сырым» материалом для самовыражения или мотором для возникновения нового социального движения. В атмосфере политизации, эссенциализации и инструментализации этнического и религиозного, в условиях кризиса макро- и мезотеоретизирования, социальных технологий управления многообразием актуализируется вопрос: «А каким должно быть социально желаемое, какой должна быть норма гармоничных межэтнических и межрелигиозных отношений, в частности среди молодежи? Как в современных дифференцированных конфликтных обществах мы можем исследовать созидательные и позитивные пространства и практики и говорить о них?». Завершая анализ, автор пишет о том, что повседневные формы коммуникации различий, формирования дружеских, приятельских отношений, конвивиальных культур в пространствах молодежных культурных сцен вполне могут быть объектом исследования в рамках изучения созидательных полей межэтнического взаимодействия.
Работа Евгении Лукьяновой «Российская молодежь в пространстве исследований этничности и межнациональных отношений (критический обзор российской региональной научной практики)» посвящена критическому анализу различных подходов к пониманию межкультурного взаимодействия и, в отличие от предыдущей статьи, основана преимущественно на российском материале. Проанализировав значительное количество работ из разных дисциплинарных традиций, автор приходит к выводу, что непосредственно молодежным контекстам и молодежной поседневности в них, как правило, уделяется недостаточное внимание. В основном исследователи концентрируются на вопросах эффективности традиционных институтов социализации (семья, образование, религия) в трансмиссии духовных традиций и культурных образцов. Изучаются аффективные и когнитивные составляющие этничности, которые фиксируются тестами и анкетами. А повседневные практики, как правило, ограничиваются исследованиями языковой компетентности. Автор рекомендует включить в изучение этничности особые, характерные для молодежных исследований темы (например, потребительские практики молодежи), а также обратиться к субъективным молодежным смыслам производства или нивелирования этнических границ.
В статье Искэндэра Ясавеева «Лейтмотивы властной риторики в отношении российской молодежи» представлен анализ докладов и программ, в которых затрагивается молодежная проблематика. Автор опирается на конструкционистский подход к изучению публичных риторик и приходит к следующему выводу. Властная риторика в своем программном обращении к молодежи делает акцент на «традиционных ценностях», способствующих не изменениям, а конформизму и «стабильности», и, кроме того, на патриотизме, понимаемом как готовность защищать государство военными средствами от внешних и внутренних врагов (с. 177).
Второй раздел книги – «Солидарности, идентичности и культурные предпочтения российской молодежи» – преимуществено посвящен анализу количественной части проекта – опроса учащейся молодежи в четырех российских городах.
Статья Ольги Елкиной «Векторы солидаризации молодежи: ценностный аспект» сфокусирована на анализе одной из самых значимых частей опроса, посвященной ценностным профилям молодежных компаний. Для описания разнообразия молодежного культурного экспериментирования в рамках исследования использовался количественный инструментарий, который, с одной стороны, позволяет проанализировать распространенность тех или иных солидарных общностей, а с другой – подразумевает известного рода ограничения в рассмотрении возможной вариативности. Пожалуй, самым интересным выводом работы оказывается то, что у сравниваемых сообществ (аниме и футбольные фанаты) получились во многом разные значимые ряды векторов, однако в обоих случаях значимым для ценностного ядра осталась религия. В исследованиях, описывающих многообразие молодежного культурного пространства, часто не учитывается многообразие молодежных сообществ в исламоориентированных регионах, что, по мнению автора, упрощает существующую картину городских молодежных пространств в современной России.
Статья Маргариты Кулевой и Юлии Субботиной «Культурные предпочтения современной российской молодежи (на примере городов: Санкт-Петербург, Ульяновск, Казань, Махачкала)» посвящена анализу особенностей культурного потребления молодежи четырех российских городов. Авторы стремятся ответить на вопрос о потреблении субкультурно включенной молодежи, объединив таким образом две парадигмы – исследования культурного потребления и (пост)субкультурный подход. В частности, данное исследование сфокусировано на двух вопросах: особенностях культурного потребления молодежи как особой социальной группы; связи включения в (пост)субкультурные группы и потребления «высокой культуры».
Третий раздел книги – «От воркаутеров до витч-хауса: этнография культурного разнообразия» — состоит из статей, авторы которых проводили кейсовые исследования в рамках полевых экспедиций в разных городах, используя методы включенного наблюдения, интервью, съемок исследовательских фильмов.
Вопросам особенностей волонтерской среды и взаимодействию формального и неформального включения в добровольчество посвящена статья Евгении Лукьяновой и Ольги Елкиной «Волонтерство как пространство молодежного взаимодействия: в поисках и противоречиях развития». Авторы представляют анализ своего кейсового исследования студенческих волонтерских организаций одного ульяновского вуза. Волонтерство является средой адаптации первокурсников, включения в студенческие сети, а также обретения символического капитала.
Статья Юлии Андреевой «“Девочки” на мейнстримной культурной сцене нестоличного города: между “гетто” и “элитой”» написана по материалам этнографического исследования (включенного онлайн- и офлайн-наблюдения и интервью), сфокусированного на анализе новой девичьей Instagram-культуры. Особенность этого кейса состоит в том, что внимание здесь обращено к так называемой обычной молодежи, из числа тех, кто реализует «нормальную» стилевую стратегию. Это «молодежное большинство», молодежный мейнстрим, являющийся основным молодежным течением, где прослеживаются массовые тенденции. В этой среде придерживаются, скорее, традиционных ценностей, доминирующих на данный момент в обществе. Другой значимой особенностью кейса является то, что в фокусе внимания оказывается именно мейнстримная девичья сцена. По умолчанию молодежные исследования часто акцентируют внимание на традиционно мужских культурах и субкультурах. Даже если изучаются культуры, молодежные движения, «допускающие» альтернативные типы маскулиности, в любом случае актуальный нарратив молодежных культур изначально формируется их мужской частью. Женские голоса практически не слышны. Девичьи практики рассматриваются и описываются как малозначимые (девушки в культурах в роли подруг) и, как правило, бесконфликтные. С этой точки зрения важно не только обозначить присутствие женского опыта на молодежных сценах, но и понять особенности складывающихся на них девичьих практик межэтнического взаимодействия.
Статья Анастасии Саблиной «Музыкальная (электронная) dark- сцена Санкт-Петербурга: карнавализация “темноты”» посвящена результатам проведенного ею этнографического исследования dark-сцены Санкт-Петербурга как постготического пространства молодежных культурных активностей. Автор характеризует dark-сцену как крайне гетерогенную, куда входит электронная музыкальная сцена (андеграунд, за исключением витч-хауса), множество музыкальных жанров и их пересечений, начиная от EBM, техно, Aggrotech, дарк-эмбиента и заканчивая индастриал-металом, витч-хаусом и др. Помимо этого, dark-сцена оказывается пересекающейся с набором других сцен – косплеем (особенно вселенной Warhammer, готик-лоли и вселенной Гарри Поттера), настольными играми, готик-роком, киберпанком и др. Автор приходит к выводу, что исследуемую сцену характеризуют: гетерогенность, разный демографический состав, распространенные практики, «темная» эстетика, «карнавальность», декларируемая ориентация на гендерное равенство и толерантное отношение к ЛГБТ, практики (вос)производства сцены и телесных опытов в ней. В рамках данного кейса уровень ксенофобных и антимигрантских настроений значительно ниже среднего по Санкт-Петербургу.
В своей статье «Молодые горожане в креативных кластерах: вег-сообщество в Санкт-Петербурге» Эльвира Ариф представляет результаты этнографического исследования вег-кафе, расположенного на территории лофт-проекта в Санкт-Петербурге, вокруг которого формируется молодежное сообщество, состоящее из вегетарианцев, веганов, сыроедов. «Анализ показал, что “своих” на вег-сцене объединяют идея переосмысления потребления еды и опыт сопротивления дискурсу всеядности. Однако результаты переосмысления отличаются, образуя разные вег-репертуары» (с. 348).
Наталья Гончарова в статье «Социокультурные контексты поискового движения: анализ случая» представляет результаты этнографического кейса, который состоял из глубинных интервью и включенного наблюдения поискового отряда «Снежный десант» Казанского федерального университета (Республика Татарстан). Автор подчеркивает, что сцена поискового движения формирует специфические социокультурные контексты молодежного взаимодействия. Н. Гончарова обращает внимание на то, что ресурсом для конструирования и поддержания групповой идентичности, внутренней солидарности, производства межгрупповых различий является коллективная память. Но при этом делает вывод, что усиление военно-патриотической риторики, интереса к военизированному компоненту в молодежных движениях содержит опасность националистических настроений.
Кроме названных, в книге представлена статья Алины Майбороды «Быть неформалом в Дагестане: повседневная жизнь аниме-фанатов», в которой рассматриваются особенности позиционирования аниме-сообщества в Махачкале. На основании анализа данных глубинных интервью и включенных наблюдений автор раскрывает нюансы повседневной жизни участников аниме-сцены – родительско-детских взаимоотношений, а также взаимодействий участников сцены с «другими» сверстниками. «В отличие от некоторых других молодежных сцен (к примеру, рэп-сцены в Казани), участники сообщества практически не используют локальные, этнические или религиозные ресурсы. Напротив, молодые люди конструируют свою идентичность, ориентируясь на глобальные молодежные тренды. Они включаются в российские и зарубежные социальные сети, придерживаются либеральных ценностей, в частности, солидаризируются вокруг идей гендерного равенства, пацифизма, космополитизма. Уровень мигрантофобных и ксенофобных установок у аниме-фанатов значительно ниже, чем у других молодежных сообществ Махачкалы» (с. 398).
В статье Святослава Полякова «Молодежная сцена уличного ворк-аута, Махачкала» рассматриваются особенности повседневного существования сообщества молодых дагестанских мужчин. Уличный воркаут (street workout) – это любительский вид спорта, который относится к так называемым натуральным (природным), в данном случае городским, форматам и возник как своего рода альтернатива коммерциализированному фитнессу. Воркаут как практика включает выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках – на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах. Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитие силы и выносливости. Включенное наблюдение, интервью и беседы с участниками этой сцены, а также участие в общих тренировках помогли автору прийти к нетривиальным выводам, в частности, относительно поддержания и демонстрации «правильной» религиозности. Воркаут-площадка, пишет автор, становится для участников безопасным пространством, в котором они могут свободно обсуждать волнующие их проблемы, в том числе религиозной жизни, находить единомышленников, обмениваться информацией. Сами занятия спортом могут реинтепретироваться в религиозном ключе – как практика дисциплинирования тела, комплементарная к практикам дисциплинирования души. Тренировочное пространство также может становиться пространством намаза, индивидуального или коллективного.
Статья Дмитрия Омельченко «Документальное социологическое кино. Репрезентация поля и исследований» раскрывает тему визуальных репрезентаций в социологических исследованиях. Основываясь на личном опыте многочисленных съемок социологических фильмов, автор рефлексирует на сложные этические темы в такого рода работе: где начинается и заканчивается ответственность автора фильма, каковы бонусы и риски участия в подобном проекте для информантов и др.
Раздел 1
Молодежные культурные сцены и межэтническое взаимодействие
Вместо введения. 25 лет молодежных исследований: глобальные имена – локальные тренды
Елена Омельченко
doi:10.17323/978-5-7598-2128-1_29-91
По прошествии 25-летнего опыта исследования молодежных культурных практик постсоветской России возникла амбициозная идея – поместить полученные результаты в контекст всего этого периода, чтобы понять, как, в каких направлениях и под влиянием каких факторов происходили трансформации молодежных культурных практик. Шли ли эти изменения вслед глобальным трендам (Европа, Северная Америка, Австралия), получившим широкое документирование в ключевых работах исследователей молодежных культур и практик? Или российский случай является своего рода исключением, выпадающим из «классической» картины? Вместе с изменениями молодежной реальности менялись ее теоретические конструкты и интерпретативные схемы. На смену классическим работам по субкультурному подходу [Hall, Jefferson, 1976] в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века пришли идеи авторов, вдохновленных резкими изменениями культурных молодежных ландшафтов, став своего рода ответом на глубинные изменения в обществах потребления позднего модерна, приведших к возникновению «постмодерных субкультур». Корпус этой академической литературы чрезвычайно велик и красочен, однако сама дискуссия и темы, вокруг которых она разворачивалась, долгое время оставались закрытыми для российского контекста[5 - Эта закрытость была связана не столько с недоступностью литературы, сколько с отсутствием интереса, который можно объяснить особенностями отечественного опыта социологии молодежи как крайне политизированной и ангажированной дисциплины. Ситуация кардинально меняется начиная с 2005–2007 гг., когда очевидные изменения молодежного пространства России подталкивают исследователей к активному включению в глобальные академические дебаты.] [Bennett, 1999; Bennett, Kahn-Harris, 2004; Blackman, 2005; Hesmondhalgh, 2005; Hodkinson, 2004; Moore, 2010; Muggleton, 2000; Pilkington, Omel’chenko, Garifzianova, 2010; Polhemus, 1997; Redhead, 1995; Shildrick, MacDonald, 2006; Thornton, 1995]. Включенные в дискуссии ученые позиционируются как «защитники» либо субкультур и субкультурного подхода [Hodkinson, 2004; Moore, 2010; Dedman, 2011], либо альтернативных вариантов – «постсубкультур» [Muggleton, 2000], «неоплемен» или «сцен» [Bennett, 1999; Malbon, 1999; Riley, Grif?n, Morey, 2010][6 - Критика субкультурного подхода в первую очередь направлена на идею классового происхождения субкультурных идентичностей и субкультурного выбора как символического сопротивления юношей и девушек классовому происхождению, родительской культуре и в целом доминирующей культуре общества. Классические субкультурные образцы требовали верности стилю и идеологии, цементирующей единство и проявляющейся в телесных перфомансах и особом прикиде (одежда, прическа, внешний вид, татуировка и проч.). Ключевые идеи постсубкультурных теоретиков сводятся к отстаиванию текучести, временности культурных привязанностей молодежи конца тысячелетия как реакции на существенные трансформации постмодернистских обществ. По их мнению, включение в те или иные субкультурные группы – это случайные и досуговые практики, микс самых разных культурных идентичностей и маркеров, с одной стороны, впитавших в себя популярные поп-имиджи, с другой – их постоянно порождающие.]. Несмотря на достаточно широкое (зонтичное) имя, в рамках этой волны молодежных исследований были разработаны яркие идеи, давшие начало возрождению интереса к новым формам молодежной социальности.
Среди активно дискутируемых в западной академической литературе подходов к молодежной социальности особое место занимают исследования молодежной транзиции, обращенные к структурным условиям взросления [Hollands, 2002; Pilkington, Omelchenko et al., 2002; Nayak, 2003; MacDonald, Marsh, 2005]. Для понимания российского контекста не менее значимы исследования, обращенные к специфике пространственных локаций, к тому, как территории и режимы реального времени влияют на жизненные траектории и культурные практики молодежи [Shildrick, 2002; Roberts, Pollock, 2009]. Наиболее важно это для исследования маргинальных или периферийных мест, групп и практик [Pilkington, Johnson, 2003; Shildrick, Blackman, MacDonald, 2009]. Очевидная недостаточность как субкультурного, так и постсубкультурных подходов, и прежде всего затянувшаяся в западной и отечественной (в меньшей степени) академической среде дискуссия вокруг их адекватности современным условиям жизни молодежи, побудили искать новые подходы к анализу меняющейся молодежной социальности. Ученые начинают исследовать поколенческие различия, новые формы гражданского участия и включенности, солидарности, формирующиеся вокруг ценностно-стилевых противостояний на молодежных сценах [Pilkington, Omelchenko, 2013; Omelchenko, Sabirova, 2016].
Попытаемся в самом общем виде рассмотреть, как менялось молодежное пространство в России в течение этих 25 лет, какие теоретические конструкты и с какой целью использовались для концептуализации изменений, какие эмпирические находки оказали наибольшее влияние на кардинальный пересмотр наших подходов и исследовательских практик.
Время идей – время трансформаций[7 - Сокращенный вариант текста в виде статьи был опубликован в журнале «Мониторинг общественного мнения»: Омельченко Е.Л. Уникален ли российский случай трансформации молодежных культурных практик? // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2019. № 1. С. 3–27. URL: https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.1.01.]
Идея этой статьи заключается в попытке анализа 25-летнего периода существования (формирования, развития, угасания и расцвета) различных молодежных пространств и групповых идентичностей в России в постсоветское (постперестроечное) время [Омельченко, 2019]. Ключевой интерес связан с осмыслением уникальности российского случая включения молодежи в глобальные культурные тренды, которая определяется не только кардинальными геополитическими изменениями во всех посткоммунистических странах. Российский случай выделяется рядом значимых черт, о чем со всей очевидностью свидетельствует современная картина молодежного культурного опыта, его миксовый, конфликтный и многоликий характер. 25-летний период социальных трансформаций в той или иной степени зафиксирован в результатах наших проектов, обращенных к разным сторонам повседневной и субкультурной жизни российской молодежи[8 - Центр молодежных исследований НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург на протяжении девяти лет осуществляет широкомасштабные международные проекты по молодежной тематике (https://spb.hse.ru/soc/youth/), ежегодные проекты по Программе фундаментальных исследований НИУ ВШЭ, с 2015?2017 гг. реализует проект Российского научного фонда «Созидательные поля межэтнического взаимодействия и молодежные культурные сцены российских городов». По итогам конкурса 2018 г. Российский научный фонд продлил проект ЦМИ на два года. В 2018–2019 гг. перед нами было поставлено несколько задач: включение в географию проекта еще двух городов – Улан-Удэ и Элисты; вторичный анализ эмпирического материала с целью рассмотрения религиозного аспекта и межконфессионального взаимодействия в контексте изучения молодежных культурных сцен, а также проведение воркшопов и семинаров для распространения результатов проекта.]. Последовательный анализ эмпирических данных, непосредственная включенность в происходящие в российском обществе трансформации, отражающиеся в академических дебатах и медийном пространстве, дают право говорить о значительных, а подчас и кардинальных перегруппировках как внутри отдельных (особых, эксклюзивных) молодежных сообществ и субкультурных групп, так и между ними и мейнстримом, конвенциональной молодежью.
Молодежные активности «нового типа» (в той или иной степени соотносимые с глобальными молодежными формированиями) зарождались и развертывались в контексте непрекращающихся скачкообразных трансформаций, затрагивающих все стороны российской жизни: экономическую, политическую, социальную, культурную. Стремительные изменения в перестроечный период сменялись замедлением и стагнацией. Бум неформальной молодежной активности – новыми пятилетками «молодежного строительства» вместе с публичными манифестациями участников прокремлевских движений (от «Идущих вместе» до «Наших», «Молодой гвардии» и их последователей) и маршами новых русских национал-ориентированных формирований. Стремление равняться на Запад и Европу – просоветским дискурсом «загнивающего Запада как угрозы нравственности». Политики гласности, отказа от цензуры и демократизация СМИ – возвратом к запретам оппозиционных или нелояльных власти культурных инициатив и просоветским практикам идеологических чисток. Молодежные активности «нового типа» практически с самого начала, пусть и в разных пропорциях, совмещали в себе идеи и практики молодежного суб(контр)культурного бунта с остатками идей и лозунгов формальных молодежных объединений советского времени. Полного освобождения от родимых пятен советской социальности, несмотря на смену поколений, не произошло до сих пор. Особая роль в скачкообразных перегруппировках молодежных сцен принадлежит влиянию государственных и медийных дискурсов, с присущими им акцентами, прямыми и опосредованными воспитательными и пропагандистскими практиками продвижения государственной молодежной повестки.
Сложно выхватить траекторию развития молодежных культурных сообществ из общего потока социальных изменений, однако можно сфокусироваться на ключевых агентах, движущих силах и основных сюжетах трансформаций, определить периоды времени, значимые для нашего анализа.
Согласно исследованиям и наблюдениям можно выделить как минимум три этапа переформатирования молодежных культурных сцен за последние 25 лет. Для этого следует учитывать: ключевые события и общественную атмосферу; политическую повестку в отношении молодежи, дискурсы и государственные программы регулирования и контроля молодежной активности; отличительные формы молодежных групп и их имена; ключевые векторы ценностных напряжений; характеристику взаимоотношений продвинутой молодежи и мейнстрима. Отмечу, что любая периодизация будет условной, прежние и новые формы молодежной социальности скорее смешаны, чем реально различаются, география культурных молодежных сцен и солидарностей лишь условно может быть соотнесена с четкими временными периодами и помещена в четкие пространственные рамки. Однако есть в молодежном пространстве современной истории России и очевидные перемены; на самых ярких новых чертах я и постараюсь сконцентрировать свое внимание.
Итак, перейду к последовательному анализу выделенных временных периодов.
Первый – с середины 80-х годов прошлого века до начала 2000-х; второй – первое десятилетие XXI в., включая также 2011?2012 гг.; третий – с 2012 г. по настоящее время.
Время стремительных перемен и постоянства неопределенности: с середины 80-х годов прошлого века до начала 2000-х
Кардинальные сдвиги во всех сферах жизни российского общества того времени были связаны с резким поворотом от позднего социалистического режима в стадии затяжного застоя к масштабным преобразованиям выхода страны на путь рыночной экономики. Крайне тяжелая экономическая ситуация, меняющаяся на глазах политическая риторика, медленно отступающая и с трудом сдающая позиции советская повседневность, резкое снижение социального положения и качества жизни одних и повышение этих показателей у других на смену пусть и не абсолютному равенству возможностей – все это вместе формирует атмосферу социальной неопределенности, ценностно-нормативного вакуума и напряженности. Вместе с тем меняющаяся социальная жизнь, стремительные трансформации социальных отношений создают крайне противоречивую картину, когда «ничего нельзя и все можно». Вслед новой повестке М.С. Горбачева и вместе с политическими инновациями «выхода партийных руководителей в народ», а также агрессивным продвижением трезвого образа жизни[9 - Антиалкогольная кампания, инициированная Политбюро КПСС периода 1985–1987 гг., стала одной из самых противоречивых государственных программ периода перестройки. Она началась спустя два месяца после прихода к власти М.С. Горбачева, а потому получила название «горбачевской». В ходе реализации этой программы проходили массовые, административно продвигаемые рекрутинги в «Общество трезвости». Одним из самых трагических последствий кампании стали вырубки виноградных полей во всех южных регионах РФ и республик СССР.] в российском обществе начинается эра «перестройки, гласности и ускорения». Важной приметой этого периода было практическое отсутствие реальной молодежной политики и государственного регулирования молодежной активности, что приводило как к позитивным, так и к негативным социальным эффектам. Например, повсеместно закрывались кружки при домах культуры, сворачивалась широкая советская инфраструктура внешкольного образования и организации досуга, сходил на нет институт советского воспитательного патронажа в школах, институтах и университетах. Вместе с тем в это время возрастает общественно-политическая активность «неформальных» объединений молодежи на фоне резкого снижения как репутации, так и численности членов ВЛКСМ. Монополизм ВЛКСМ и полная зависимость от партийного диктата привели к полному отчуждению аппарата от самой молодежи, засилье формально-бюрократического стиля организации – к социальной апатии и исключительно формальной включенности молодежи в заорганизованные мероприятия. Численность ВЛКСМ резко сокращается: с 44 млн (максимальная) до 21,3 млн человек (июль 1991 г.) [Топалов, 1991]. После августовского кризиса в сентябре 1991 г. на чрезвычайном XXII съезде ВЛКСМ организация была распущена, а ее политическая роль была признана исчерпанной.
В связи с отсутствием или по крайней мере ослаблением государственного контроля за молодежью, отчасти и благодаря этому, образовывались низовые политические и культурные инициативы, общественные движения, объединения и союзы как, например, киноклубное и театральное движения, КСП[10 - Федерация киноклубов России (ФКК России) учреждена 30 ноября 1991 г. В рамках движения проводятся кинофестивали документального и авторского кино; по разным городам, включенным в сеть, по инициативе культурных центров посольств и консульств европейских стран проходят показы фильмов, созданных самыми знаменитыми режиссерами ХХ в., – призеров престижных международных и европейских кинофестивалей. Движение КСП (клуб самодеятельной песни) зародилось в конце 1950-х (первый песенный фестиваль, организованный студентами МЭИ в 1959 г., позже подвергался определенным контрольным и даже репрессивным мерам), в 1986 г. произошла легализация КСП, а Грушинский фестиваль (под Самарой) становится самым известным местом встречи не только бардовской молодежи и самых ярких ее звезд того времени, но и других неформалов.] и др. Зарубежные образовательные фонды «открыли» двери для разнообразных языковых стажировок в Европе и США, через которые прошли тысячи представителей не только столичной, но и провинциальной молодежи[11 - Часть из этих фондов была связана с новыми религиозными движениями, однако и эти каналы в большинстве своем использовались для свободных поездок и обучения/совершенствования английского языка.]. В столичных городах и мегаполисах России этого периода наблюдается настоящий субкультурный бум, что стимулировало как отечественных, так и западных ученых обратиться к исследованиям молодежных различий. Медленное и болезненное формирование рыночных отношений вместе с усложнением структуры неравенств, снижением доступности значимых, еще недавно «общих», ресурсов и благ (образование, рынок труда, здравоохранение, досуг) легитимировало тему социального и классового неравенства и происхождения. Говорить и писать о субкультурах стало не только можно, но и модно. Различия молодежной социальности постепенно начинают отвоевывать пространство в отечественных академических дискуссиях. Молодежный вопрос пусть и не сразу, но начинает деполитизироваться и деидеологизироваться, что открывает путь свежим подходам и новым темам вне разговора исключительно о «духовных ценностях, политической грамотности и моральной устойчивости».
С середины 1980-х годов понятие «субкультура» начинает осмысливаться отечественными учеными в отношении советского общества [Матвеева, 1987; Орлова, 1987], а первые эмпирические исследования советских молодежных субкультур относятся уже к концу эпохи перестройки. Распространившиеся на ее волне молодежные группы называли неформальными, их анализировали с помощью механического разделения на «позитивные», «нейтральные» и «негативные» (за перестройку или против нее). Это понятие использовали и сами участники молодежной сцены, хотя распад и радикальные реформы государственной сферы лишили неформальную идентичность первоначального смысла[12 - Термин «неформалы» перестал ассоциироваться с оппозицией формальным молодежным организациям, но был реанимирован в конце 1990-х молодежными тусовками: его использовали для характеристики всех альтернативщиков, продвинутых, субкультурщиков.].
Поиск свободных от политических коннотаций терминов привел ученых к понятию тусовки[13 - Тусовки стали заметным явлением в конце 1980-х годов в центральных частях российских городов. Первоначальный смысл – аутентичная культурная молодежная группа/компания, ядром групповой идентичности которой являлся стиль: субкультурная стилистика или более широкий стиль, альтернативный мейнстримному (в музыке, кино, литературе). Тусовки отличались локализацией и коллективной замкнутостью на «свой круг». Члены тусовки необязательно происходили из привилегированных социальных слоев, но их претензии на пространство в центре свидетельствовали об ориентации на восходящую мобильность и об открытости внешнему миру, а также о нежелании участвовать в «разборках» территориальных группировок городских окраин.] (понятие использовалось и самой молодежью), которая рассматривалась как молчаливое игнорирование государственной власти путем создания альтернативных социальных пространств, помогавших преодолеть отчуждение между молодежью и обществом, возникшее в результате социального перелома. В недрах тусовок развивается эстетика стеба, породившая «циничные провокации» и перформансы – изюминку разговора новых молодежных журналов середины – конца 1990-х со своими аудиториями [Omelchenko, 1999]. Отдельные виды субкультурных и неформальных активностей существовали и до перестройки (например, стиляги 1960-х годов, хиппи 1970-х, движение КСП), но именно конец 80-х и начало 90?х годов прошлого века отмечены настоящим бумом неформальной активности [Семенова, 1988; Топалов, 1988; Пилкингтон, 1992; Pilkington, 1994; Омельченко, 2004а]. Российская молодежь начала осваивать культурные молодежные сцены, используя разные стратегии включения, как классического типа – имиджи и практики «чистых», хотя и адаптированных к локальной специфике, субкультурных образцов, так и миксовые культурные формы. В конце 1990-х годов появились первые социологические публикации о российских молодежных «субкультурах» [Исламшина, 1997; Костюшев, 1999; Омельченко, 2000б; Pilkington, 1994; Щепанская, 1993], где субкультурная идентичность представлялась в терминах выбора жизненного стиля, а не классовой принадлежности/происхождения, что было характерно для западного дискурса.
Дальнейшее описание развития культурных молодежных практик этого периода будет в основном построено на результатах совместного проекта «Глядя на Запад: принятие и сопротивление образам Запада провинциальной российской молодежью»[14 - Исследование проводилось в 1997?2000 гг. в Ульяновске, Самаре и Москве. Руководители: Хилари Пилкингтон и Елена Омельченко (при поддержке фонда «Leverhulme Trust», Великобритания). По результатам проекта опубликована книга «Looking West? Cultural Globalization and Russian Youth Cultures» [Pilkington, Omelchenko et al., 2002] и ее русский перевод «Глядя на Запад: Культурная глобализация и российские молодежные культуры» [Пилкингтон, Омельченко и др., 2004].], в котором были зафиксированы самые яркие приметы того времени. Проведенный анализ российских субкультурных идентичностей показал, что их разнообразные презентации с трудом помещаются в рамки отдельных, замкнутых стилей. Самым важным маркером, с помощью которого сами молодые люди определяли свою культурную ориентацию, было отнесение себя к продвинутой (иногда – прогрессивной, альтернативной) или нормальной (обычной) молодежи. Эта самоидентификация начинает нами использоваться для характеристки двух основных культурных стратегий, типичных для молодежи конца 1990-х. В отличие от субкультуры в понятии «стратегия» подчеркивается подвижный характер культурной идентичности, позволяющей использовать разный культурный материал (музыку, стиль, пространство, практики) для конструирования индивидуальных и групповых различий и подтверждения значимого статуса. Здесь субкультурная стилистика становится одним из возможных ресурсов наравне с претензиями на территорию, ориентацией на будущее, мобильностью.
Продвинутые и нормальные на городских молодежных сценах: Москва, Самара, Ульяновск
В ходе реализации проекта «Глядя на Запад…» проводилась серия этнографических наблюдений в молодежных культурных и досуговых пространствах Ульяновска, Самары и Москвы. Во всех городах того периода открываются клубы, появляются свои аудитории с особыми музыкальными вкусами, формируются устойчивые группы клубников, посвященных в разделяемые участниками контексты. Такие места становятся частью городских культурных инфраструктур и туристических маршрутов.
В Ульяновске это была единая центральная тусовка с едва наметившимся стилевым разделением на хиппи, панков, фанатов хеви-метал и рок-музыкантов, сохранявших коллективную идентичность неформалов[15 - Напомню, что исследование проводилось в конце 90-х годов прошлого века; в настоящее время культурные сцены городов, в том числе и Ульяновска, изменились, но общие черты субкультурного «коктейля» бытуют до сих пор.]; традиционно основные места встреч – площадь Ленина, у памятника Карлу Марксу (тусовка «У Карла») и теннисные корты. Группы с идеологическими контекстами – скинхеды, панки и анархисты – были маргинальны и малочисленны. С неформалами пересекались романтики и игровая тусовка [Исламшина, 1997][16 - Термин «романтики» использовался исследователями для обозначения различных групп молодых людей, интересующихся историей, духовными и религиозными аспектами жизни, народными традициями, фольклором и природой: каэспэшники, поисковики и туристы. Игровики были представлены толкиенистами, индеанистами, а также движением «Рысь».]. Размытость субкультурных границ являлась не результатом осознанного выбора в пользу культурного разнообразия, а формой защиты от традиционного культурного врага – гопников[17 - Гопники – это коллективный образ; для их обозначения употреблялись собирательные имена (гопота), формы множественного числа (гопы, уличные, быки); подчеркивалась их некультурность, «деревенскость». Считалось, что они ходят на дискотеки в дешевых спортивных костюмах, что они агрессивны, невоспитанны и нетолерантны [Омельченко, 2004б].].
Самарские тусовки отличались друг от друга по музыкальным вкусам и предпочтениям. По отношению к року и электронной данс-музыке образовалось три полюса: неформалы, танцевальная или клубная сцена и антинеформалы. Организующим центром самарских романтиков был Грушинский клуб[18 - Благодаря Грушинскому фестивалю бардовская песня оказалась самой яркой приметой Самарской молодежной сцены 1990-х, в основном утраченной к середине первого десятилетия 2000-х. «Груша» стала туристической достопримечательностью, местом общей тусовки, где собирались уже не только каэспэшники. Фестиваль потерял свою аутентичность. Среди многотысячной аудитории были и кришнаиты, и «новые русские», а среди выступлений появилось много обычной «попсы», из-за чего иные туристы так и не успевали послушать бардов.].
В Москве самое большое влияние на формирование альтернативных идентичностей оказал клубный бум конца 1990-х. Московские клубы отвечали самым разнообразным музыкальным вкусам и весьма разнились по ценам. Музыка представляла собой микс прогрессивного звука с общедоступным, в зависимости от аудиторий. Были клубы, где играли «по-мейнстримовски» продвинутый хаус, смешанный с попом («Утопия», «Метелица»)[19 - Билеты в эти клубы были достаточно дорогими, публика состояла как из обеспеченной продвинутой молодежи, так и из новых русских, поэтому музыка сочетала в себе элементы попсы и «общедоступного» хауса.], были дизайнерские и трендовые клубы («Титаник», «Мастер») и менее известные, но с «настоящей» продвинутой музыкой («Плазма», «Луч», «Лес»). Московские клубы включали альтернативные сцены: тусовки геев, «бывших» российских/советских граждан и любимые туристические клубы для иностранцев[20 - Гей-сцена располагалась в клубах «Шанс», «Хамелеон», «Империя кино» и «Луч», а сцена «бывших» – в дорогом клубе «Манхэттен-экспресс»; иностранцев, в зависимости от контингента, знакомые водили либо в скандально известную «Голодную утку», либо в интеллигентный «Кризис жанра».].
В отличие от западных, российские клаберы говорили не о растворении и «слиянии с толпой», «интенсивности чувственных контактов» (что характерно для исследовательских текстов в постсубкультурном жанре), а о комфорте и домашнем уюте; клуб был для них «вторым домом», территорией, где люди и место сливаются в живой и непосредственной коммуникации, способствующей личностному прогрессу и развитию [Yurchak, 1999]. В этом явно выражалось празднование свободы, когда субкультурщики и их ключевые герои получили легитимное право на выбор «своих»: открытое общение со своими на своем языке, в своем пространстве, занятом своими.
Во всех трех городах продвинутые составляли на молодежных сценах меньшинство. Большинство молодежи «зависало» по квартирам, во дворе дома или школы, слушало музыку, участвовало в спортивных, музыкальных и других мероприятиях. Они называли себя нормальной, или обычной, молодежью, что не означало отсутствия у них активности в сфере культуры. Их главным отличием от продвинутых была неопределенность музыкальной и стилевой идентичности, они не были субкультурщиками, но и не все являлись гопниками. Антинеформалы-гопники считали себя выразителями «морального большинства», их агрессивность по отношению к неформалам была способом поддержания локального порядка. На момент проведения исследования гопники знали два вида культурной практики: они «били друг друга» и «наезжали на неформалов», последнее отмечалось преимущественно в Ульяновске. Некоторые из них включились в доступные формы популярной молодежной культуры (рейв[21 - Рейверами тусовочная молодежь называла неопределенную общность обычной молодежи, которая слушала и танцевала под электронную музыку и не входила в продвинутую клубную сцену.]), часть ушла в организованную преступность. Развитие рыночных отношений освободило пространство «черного рынка», и в этой полулегальной экономической нише гопники выросли в новые фигуры на молодежной культурной сцене: в братков и членов бригад[22 - Бригадами называла себя часть бывших группировок, чьи активности потеряли субкультурную аутентичность (защита своей территории): эти группировки переключились на контроль автозаправок, рынков, ресторанов и др.].
Среди нормальных выделялась и еще одна группа – новые русские, которые вызывали неприязнь у продвинутых не столько своим богатством, сколько демонстративным купечеством. Несмотря на взаимную неприязнь, реальных конфликтов между ними не было – их культурные пространства почти не пересекались.
Защита территории у антинеформалов-гопников была ключевым элементом групповой идентичности, однако существовали ритуальные битвы и внутри продвинутых (субкультурных) групп. Так, агрессия рэперов была направлена на скинхедов и рейверов. Движение скинов напрямую ассоциировалось у рэперов с фашизмом и расизмом, считалось антирусским, близость рэперов к афроамериканской культуре хип-хопа придавало конфликту особый смысл.