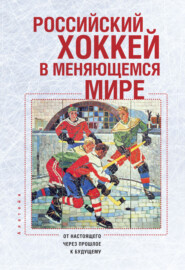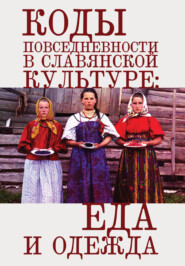По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Детство в европейских автобиографиях: от Античности до Нового времени. Антология
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Августин вполне определенно строит рассказ о себе, следуя широко распространенным в позднем Риме представлениям о делении человеческой жизни на семь возрастов. Не достигнув, однако, ко времени написания своей автобиографии последних двух, старости (seniores) и дряхлости (senectus), он говорит только о пяти из них: внутриутробном (primordia); младенческом (infantia) – от рождения до появления речи; детском (pueritia) – от появления речи до наступления половой зрелости; юношеском (adolescentia) и о возрасте полного расцвета сил (iuventus) – обычно примерно 20–45 лет, у Августина – с 29 лет до времени написания «Исповеди».
Первые три периода, очевидно, составляют для Августина некое важное в смысловом отношении целое, поскольку рассказу о них он посвящает почти всю первую книгу сочинения. Хотя, нужно добавить, что сами эти периоды для автора «Исповеди» далеко не равнозначны: primordia и infantia явно менее существенны, чем pueritia, так как о них у него не сохранилось своих собственных воспоминаний. Очевидно также, что его интерес к началу своей жизни имеет вполне определенную направленность, заданную жанром всего произведения: вспоминая свое детство, Августин горячо, порой мучительно стремится осмыслить его в категориях открывшихся перед ним истин христианства. Именно поэтому его припоминание обретает довольно своеобразный вид: всякое автобиографическое свидетельство, всякое устремление или поступок ребенка неизменно соотносятся с этими истинами и тем самым как бы освещаются высшим светом Божественной правды.
Свое появление на свет, вступление в этот мир Августин рассматривает как величайшее чудо, лишь в ничтожной степени доступное его собственному разумению. Что было с ним раньше, был ли он и прежде, до зачатия и рождения его матерью? Все, что он может, это лишь страстно испросить об этом Господа, смиренно преклонив голову пред Его безграничным могуществом и непостижимостью Его мудрости.
Детский возраст в представлении Августина – это, хотя и вобравшая в себя опыт младенчества, но, несомненно, новая, качественно отличная ступень его биографии, начало его собственной сознательной жизни, его Я. Главной внутренней особенностью этой ступени является способность ребенка выражать свои мысли, главной внешней – то, что он впервые по-настоящему вступил в противоречивую и бурную жизнь человеческого общества.
Вся история детства, рассказанная Августином, помимо прочего, насквозь пронизана идеей изначальной человеческой греховности. Хотя сам автор «Исповеди» и не помнит об этом, он все же твердо убежден, что еще в младенчестве совершал дурные поступки, – ведь, наблюдая за другими малышами, он может увидеть, каким сам был когда-то. Августин указывает на характерные для грудных детей грехи, самым серьезным из которых, по его мнению, является ревность, и, резюмируя свои наблюдения, заключает: «… младенцы невинны по своей телесной слабости, а не по душе своей».
Но все же несравнимо более тяжко Августину довелось грешить в детстве. Он признается в том, что обманывал воспитателя и учителей, и теперь отчетливо видит мотивы, которые заставляли его делать это («из любви к забавам, из желания посмотреть пустое зрелище, из веселого и беспокойного обезьянничанья»). Кроме того, он воровал еду из родительской кладовой и со стола («от обжорства или чтобы иметь чем заплатить мальчикам, продававшим мне свои игрушки») и был нечестен в игре («в игре я часто обманом ловил победу, сам побежденный пустой жаждой превосходства»). Но главным грехом мальчика было то, что он отвращал свои взоры от Господа, увлекаемый «внешним», мирской суетой – то ли «баснями древних» о деревянном коне, полном вооруженными воинами, и пожаре Трои, то ли поиском истины «не в Нем самом, а в созданиях Его: в себе и в других». Эти детские прегрешения кажутся не столь уж тяжкими, однако не следует забывать, что для Августина по своей сути они ничем не отличаются от тягчайших пороков взрослых.
Говоря о себе-ребенке, автор «Исповеди» рисует образ одаренного мальчика с открытой душой и добрым сердцем: «Движимый внутренним чувством, я оберегал в сохранности свои чувства: я радовался истине в своих ничтожных размышлениях и по поводу ничтожных предметов. Я не хотел попадать впросак, обладал прекрасной памятью, учился владеть речью, умилялся дружбе, избегал боли, презрения, невежества». Воистину, «что не заслуживает удивления и похвалы в таком существе?» Разумеется, все эти достоинства мальчика Августин относит не на свой счет и не на счет своих родителей, а воздает за них хвалу Господу: «И все это дары Бога моего; не сам я дал их себе…». Он явно не видит в них ничего, принадлежащего ему самому.
Но тогда насколько обозначенные в «Исповеди» качества ребенка характеризуют именно Августина? В какой мере автор «Исповеди» говорит о себе и в какой – о ребенке вообще? Идет ли у него речь о его собственном детстве или о детских годах любого человека, подобно тому как мы это встречали в его «отчете» о младенчестве? Расплывчатость очертаний фигуры Августина-ребенка усиливается еще и тем обстоятельством, что он абсолютно ничего не сообщает читателю о своем внешнем облике. Был ли он высоким, маленьким, упитанным, худым, какого цвета были его волосы, глаза – все это для него как будто несущественно, недостойно интереса, все это вытесняет христианская идея ребенка, впервые в истории формулируемая Августином на своем собственном жизненном материале.
В этом состоит главная задача автора. В общем контексте «Исповеди» его собственная жизнь как таковая не имеет и не может иметь самодовлеющего смысла. Ребенок Августин – это всегда и ребенок вообще, часть мира, чудесным образом сотворенного Господом. Поэтому конкретные биографические детали, то, что отличает его от других, не суть важны. Не из-за этого ли он даже не считает нужным назвать место своего рождения и имена своих родителей, остающихся в его описании собственного детства скорее Отцом и Матерью Человеческими, чем конкретными людьми во плоти?
Автобиография Гвиберта Ножанского демонстрирует иной тип отношения к детству. В отличие от Августина Гвиберта больше интересует не дитя вообще и не чудо Божьего творения, а его собственный детский опыт, его собственные печали и радости. Больше того, в «Монодиях» обнаруживаются следы глубоко личностного, порой даже пронзительно личностного восприятия детства – по-видимому, это вообще самый психологичный, самый индивидуализированный и самый детальный портрет ребенка во всей западноевропейской средневековой литературе.
О первых месяцах в этом мире, покрытых мраком беспамятства, Гвиберт говорит вскользь, упоминая лишь о ранней кончине «отца по плоти», своем успешном физическом развитии и присущей этому возрасту живости. Подробный же рассказ о детских годах начинается у него с того времени, когда он стал обучаться грамоте (примерно с шести лет), и оканчивается, когда после отъезда матери и домашнего учителя он оказывается предоставленным самому себе (примерно в 12 лет), совершает многочисленные прегрешения и вскоре после этого принимает монашеский сан.
Внезапное исчезновение контроля за поведением ребенка со стороны взрослых круто меняет жизнь Гвиберта. Испытывая дурное влияние старших мальчиков, он всем своим поведением бросает вызов нормам благочестия, надеясь, что его грехи в будущем будут прощены. В совершенных им в то время дурных деяниях Гвиберт исповедуется перед читателем обстоятельно и искренне и в заключение своего самоотчета подчеркивает, что это было время, разительно непохожее на годы, проведенные под строгим надзором наставника.
Приход мальчика вслед за этим в монастырь определенно обозначает окончательное вступление во второй, главный и самый продолжительный период его биографии. В монастырских стенах он не только возрождается к возвышенной духовной жизни, но и неожиданно чудесным образом легко разрешает свою давнюю проблему – отсутствие желания учиться и способностей к учению. Никаких принципиальных качественных изменений ни во «внешней», ни во «внутренней» его жизни больше не происходит до самого конца первой книги. С принятием монашеского сана он то ли становится взрослым раньше времени, то ли вступает во вторую стадию детства, растянувшуюся на всю его жизнь.
Подробное описание появления младенца на свет, совершенно очевидно, не является случайностью. По мнению Гвиберта (подобные представления были вообще широко распространены в Средние века), обстоятельства рождения ребенка – это указующий знак его будущности, который Господь дает миру, однако знак небезусловный и несамоочевидный, до конца разгадать который едва ли дано кому-либо из людей. Гвиберт был последним ребенком у матери и единственным, кто остался в живых, миновав младенческий возраст. Автор оставляет это свое замечание без комментариев, но из контекста можно предположить, что оно имело для него особый смысл, являясь одним из знаков избранничества. Более явным указанием на уготованную Гвиберту судьбу является день, в который младенец появился на свет, – Пасхальное воскресенье. Это уже, вне всякого сомнения, выражение Божественного волеизъявления, и автор трактует его как дарованную свыше надежду на благую будущность новорожденного.
Жизненный путь Гвиберта был предуготован, однако, и другими событиями, связанными с его рождением. Он рассказывает, что, когда приблизился долгожданный час, младенец неожиданно повернулся в утробе матери головой кверху, что, по мнению членов семьи, представляло для нее смертельную угрозу. Тогда они решили отправиться в церковь и на алтаре Девы Марии дать обет: в случае, если родится мальчик, он будет отдан в служение Господу и Божьей матери; если же девочка, то ей также быть монахиней. Вскоре роженица благополучно разрешилась от бремени мальчиком, но ребенок был настолько мал и тщедушен, что вид его, почти уродца, вызвал всеобщее замешательство. В тот же день он был крещен, и перед свершением таинства произошло еще одно примечательное событие, которое Гвиберту впоследствии не раз шутливо пересказывали: некая женщина взяла его на руки и стала перебрасывать с ладони на ладонь, выражая сомнения по поводу жизнеспособности маленького жалкого существа.
Когда Гвиберт принялся за написание своей автобиографии, ему было уже за пятьдесят, но его горькая память о ранних годах была по-прежнему жива. Даже больше, по его собственному заверению, она буквально кипела в его душе: «Исповедуюсь в пороках моего детства и юности, которые до сих пор в этом зрелом возрасте все еще полыхают во мне»[79 - Guibert de Nogent. Autobiographie / еd. E.-R. Labande. Paris, 1981. P. 3.]. И читатель быстро убеждается, что это заверение вовсе не дань риторике. Гвиберт действительно говорит о своем детстве необычайно живо, можно даже сказать, страстно, с неподдельной болью и горечью размышляя и над всплывающими в памяти жизненными обстоятельствами давно ушедших дней, и над своими недостойными поступками и помыслами. Причем по сравнению, например, с Августином, эти его воспоминания гораздо более индивидуализированы. Неудивительно, что автобиографизм такого рода делает текст «Монодий» весьма привлекательным как для биографов Гвиберта, так и вообще для ученых, чьи интересы связаны с проблемами средневековой личности. Какую роль сыграли детские впечатления и первый жизненный опыт в формировании характера и мировоззрения этого несомненно неординарного человека? Некоторые акценты рассказа Гвиберта, прежде всего о людях, оказавших влияние на становление его личности, позволяют существенно конкретизировать этот вопрос, сформулировав его в категориях психоанализа[80 - См. напр.: Kantor J. A psychohistorical source: the Memoirs of Abbot Guibert of Nogent // Journal of Medieval History. 1976. Vol. 2.].
Первое, что обычно обращает здесь на себя внимание, это особая роль матери, о которой в «Монодиях» говорится с необычайной любовью и нежностью. Гвиберт буквально боготворит ее, наделяя качествами, присущими скорее небесному, чем земному существу: невиданной красотой, сугубой чистотой нравов, исключительным благочестием и глубокой набожностью. Влияние матери на него было огромным. Вплоть до сорокалетнего возраста она находилась рядом с ним, исполняя роль духовного наставника и одновременно являясь воплощением идеала христианской жизни (не раз обращалось внимание на то, что ее образ весьма напоминает у автора «Монодий» образ Девы Марии и иногда сливается с ним). Другой важный момент – это ранняя потеря отца, место которого в жизни ребенка занял домашний учитель. Хотя сам Гвиберт и не помнит своего «отца по плоти», все же он достаточно определенно выражает негативное отношение к нему, особенно к несоблюдению им чистоты брачных уз и недостаточной набожности. И даже высказывает предположение, что, останься он в живых, он не позволил бы исполнить данный при рождении Гвиберта обет и сделал бы из него не монаха, а рыцаря. Но все же вторая по значимости фигура в детские годы героя «Монодий» не его отец, а домашний учитель, под строгой опекой которого прошли шесть лет жизни ребенка. Отношение Гвиберта к нему явно неоднозначное. Хотя он постоянно заверяет читателя в искренней взаимной любви наставника и его подопечного, воспоминания о его некомпетентности, излишней суровости и несправедливых жестоких наказаниях по-прежнему будоражат память монаха.
* * *
На примере Августина и Гвиберта мы особенно отчетливо видим два, хотя и схожих в каких-то самых общих чертах (христианские представления об изначальной греховности человека, исповедальный и покаянный тон, невозможность помыслить себя обособленно от Божественного Космоса), но все же очень разных восприятия средневековым человеком его собственного детства.
Для епископа Гиппонского детство – один из семи отчетливо различимых возрастов человеческой жизни. Это время, когда он, выйдя из младенческого состояния, приобрел новые биологические и социальные качества и был менее, чем в юном и зрелом возрасте, склонен к пороку. Но для Августина далекие годы, о которых он вспоминает, – это не столько его собственное детство, сколько универсальный этап развития, через который проходят все люди – как каждый в отдельности, так и весь человеческий род. В его представлении возрасты жизни человека в своей глубинной сути составляют нерасторжимое целое с этапами всемирно-исторического движения человечества, определенного Творцом: младенчеству соответствует время от сотворения Адама до Всемирного потопа, детству – от потопа до Авраама, отрочеству – от Авраама до Давида и так далее. Понятно, что в таком контексте ни его собственная жизнь, ни чья-то еще ничем принципиально не может отличаться от жизни других людей, и ни о своеобразии, ни о самодостаточности его первого жизненного опыта в «Исповеди» не может быть и речи. Это, впрочем, не противоречит тому, что отдельные яркие впечатления Августинова детства продолжают жить в его взрослом сознании. Но жить по-особому, являясь одновременно и исходным материалом для христианского истолкования природы ребенка, и иллюстрацией общеизвестных Божественных истин.
Отношение Гвиберта к своему детству гораздо более личностно – давние годы жизни буквально будоражат его сознание воспоминаниями и смутными переживаниями. Однако понять, каковы корни такого пристального внимания к себе-ребенку, совсем непросто. Нам трудно поверить, что его заставляют вспоминать о детстве те ничтожные прегрешения, о которых он рассказывает, – едва ли они могут заставить так горячо сокрушаться даже самую чистую христианскую душу. Да и вообще его детским «порокам» в структуре автобиографического рассказа уделено слишком незначительное место. По сравнению с Августином Гвиберт вспоминает о своем детстве, несомненно, с несравнимо большей непосредственностью. Он не столько стремится открыть читателю высшую истину, преподать ему моральный урок или воспеть вместе с ним хвалу Господу (хотя все эти мотивы в той или иной мере у него присутствуют), сколько «просто» рассказывает о том, что запечатлелось в его памяти о первых годах жизни, дополняя этот рассказ своими размышлениями: об образе матери, учителя, о трудностях в овладении знаниями, своих дурных поступках и помыслах, упорном желании стать монахом, внешних обстоятельствах, определявших его жизнь в этот период.
Но следует ли из всего этого, что детство было «по-настоящему» открыто Гвибертом и что по своему отношению к нему он такой же «почти современный человек», как и по своему рационалистическому складу ума? Заключение такого рода, по-видимому, было бы поспешным по многим причинам. Хотя бы уже потому, что у Гвиберта, несомненно проявляющего пристальный интерес к своим детским годам, нет и намека на понимание первостепенного значения детства для становления его личности, того кажущегося ныне бесспорным взгляда, который сформировался в Новое время и позднее нашел одно из наиболее ярких выражений в теории психоанализа. И блестяще формулирующая этот новый взгляд известная фраза Вордсворта «Дитя – отец человека» ему, так же как и другим средневековым авторам, скорее всего показалась бы загадкой.
Юрий Зарецкий
Публий Овидий Назон
(43 до н. э. – 17/18 н. э.)
Древнеримский поэт, сосланный Октавианом Августом на 10 лет в Западное Причерноморье. Овидий родился 20 марта 43 года до н. э. (711 год от основания Рима) в г. Сульмоне, в округе пелингов, небольшого народа сабелльского племени, обитавшего к востоку от Лациума, в гористой части Средней Италии. Место и время своего рождения Овидий с точностью определяет сам. Род его издавна принадлежал к всадническому сословию; отец поэта был человеком состоятельным и дал своим сыновьям хорошее образование. Посещая в Риме школы знаменитых учителей, Овидий с самых ранних лет обнаружил страсть к поэзии. В приведенной ниже элегии (Trist., IV, 10) он признается, что и тогда, когда нужно было писать прозой, из-под пера его невольно выходили стихи. Следуя воле отца, Овидий поступил на государственную службу, но, прошедши лишь несколько низших должностей, отказался от нее, предпочитая всему занятия поэзией. По желанию родителей рано женившись, он вскоре вынужден был развестись; второй брак также был недолог и неудачен; и только третий с женщиной, уже имевшей дочь от первого мужа, оказался прочным и, судя по всему, счастливым. Собственных детей Овидий не имел. Дополнив свое образование путешествием в Афины, Малую Азию и Сицилию и выступив на литературном поприще, Овидий сразу был замечен публикой и снискал дружбу выдающихся поэтов, например, Горация и Пропреция. Сам Овидий сожалел, что ранняя смерть Тибулла помешала развитию между ними близких отношений и что Вергилия (который не жил в Риме) ему удалось только видеть. В 8 году нашей эры Август по не вполне ясной причине (исследователями высказывается несколько версий) сослал Овидия в город Томы (совр. Констанца, Румыния), где на девятом году жизни тот и скончался.
«Скорби», или «Скорбные элегии», Овидий начал писать в дороге, направляясь к месту ссылки. Сборник из пяти книг элегий был написан за первые три года пребывания в Томах среди «диких гетов и сорматов». Резкая перемена обстановки и обстоятельств и обусловила, в частности, автобиографический характер поэзии Овидия, воспоминания о прошедшей жизни[81 - Пер. С. А. Ошерова. Печатается по изданию: Овидий. Элегии и малые поэмы / Сост. и пред. М. Л. Гаспарова. М., 1973. С. 425–426. Вступительные статья и комментарии составлены на основе сведений, приведенных в этом издании.].
Скорбные элегии
Книга четвертая
Элегия десятая
Тот я, кто некогда был любви певцом шаловливым.
Слушай, потомство, и знай, чьи ты читаешь стихи.
Город родной мой – Сульмон, водой студеной обильный,
Он в девяноста всего милях от Рима лежит[82 - Сульмон – город в области пелигнов в Апенинах (в 133 км от Рима); он до сих пор имеет в городском гербе первые буквы начальных слов этой строки Овидия.].
Здесь я увидел свет (да будет время известно)
В год, когда консулов двух гибель настигла в бою[83 - Консулы 43 г. до н. э. Гирций и Панса погибли от ран, полученных в битве 21 апреля при Мутине против Марка Антония.].
Важно это иль нет, но от дедов досталось мне званье,
Не от Фортуны щедрот всадником сделался я[84 - Потомственное всадническое звание пользовалось большим уважением, чем нажитое.].
Не был первенцем я в семье: всего на двенадцать
Месяцев раньше меня старший мой брат родился.
В день рождения сиял нам обоим один Светоносец[85 - «Люцифер» – Денница, утренняя Венера.],
День освещали один жертвенных два пирога[86 - День рождения у римлян олицетворялся как «гений рождения», которому человек приносил в этот день бескровные жертвы (ладан, пирог на меду и пр.)].
Первым в чреде пятидневных торжеств щитоносной Миневры
Этот день окроплен кровью сражений всегда[87 - Из пяти дней праздника Квинкватрий в честь Миневры (19–23 марта) со второго дня начинались гладиаторские игры; в этот день, 20 марта, и родились Овидий и его брат.].
Рано отдали нас в ученье; отцовской заботой
К лучшим в Риме ходить стали наставникам мы.
Брат, для словесных боев и для форума будто рожденный,
Был к красноречью всегда склонен с мальчишеских лет,
Мне же с детства милей была небожителям служба,
Муза к труду своему душу украдкой влекла.
Часто твердил мне отец: «Оставь никчемное дело!
Хоть Меонийца[88 - Имеется в виду Гомер, родиной которого считалась Меония (древнее название Лидии)] возьми – много ль он нажил богатств?»
Не был я глух к отцовским словам: Геликон[89 - Согласно греческой мифологии, на горе Геликон находились священные для муз родники. По легенде, источник под названием Гиппокрена возник от удара копыта Пегаса по камню. Также на Геликоне находился родник, в который смотрелся Нарцисс. Геликон был обителью муз; в своем произведении «Причины» («Aitiа») поэт Каллимах из Кирены рассказывает о сне, в котором он снова стал молодым и беседовал с музами на Геликоне. В честь муз на Геликоне был построен храм, в котором находятся статуи всех муз. Родник Гиппокрена служил источником вдохновения для поэтов. В конце VIII века до нашей эры поэт Гесиод писал о том, как в молодости он пас овец на склонах Геликона, а на вершине танцевали музы и Эрос. С тех пор Геликон стал символом поэтического вдохновения. Каллимах из Кирены поместил эпизод с ослеплением Тиресия на Геликоне. С упоминания о Геликоне также начинается «Теогония» Гесиода. В геометрическом гимне Посейдону бог назван «владыкой Геликона». Римские поэты также использовали в своих произведениях мифы о Геликоне.] покидая,
Превозмогая себя, прозой старался писать, —
Сами собою слова слагались в мерные строчки,
Что ни пытаюсь сказать – все получается стих.
Год за годом меж тем проходили шагом неслышным,
Следом за братом и я взрослую тогу надел[90 - Белую тогу вместо окаймленной детской тоги надевали при совершеннолетии, около 16 лет.].
Пурпур с широкой каймой[91 - Туника с широкой пурпурной каймой означала намерение молодого человека домогаться государственных должностей, ведущих в курию, в сенат; узкая полоса, наоборот, означала намерие оставаться во всадническом сословии.] тогда окутал нам плечи,
Но оставались верны оба пристрастьям своим.
Умер мой брат, не дожив второго десятилетья,
Я же лишился с тех пор части себя самого.
Должности стал занимать, открытые для молодежи,
Стал одним из троих тюрьмы блюдущих мужей[92 - Одним из триумвиров по уголовным делам.].
В курию мне оставалось войти – но был не по силам
Мне тот груз; предпочел узкую я полосу.
Не был вынослив я, и душа к труду не лежала,