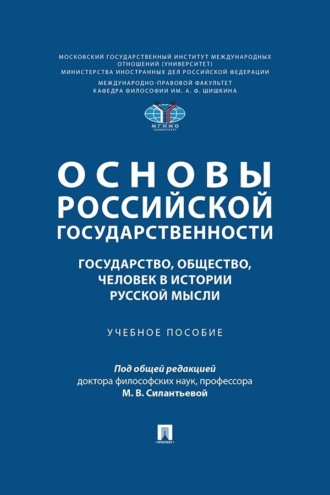
Основы российской государственности: государство, общество, человек в истории русской мысли
4. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология: учебник для студентов вузов. 5-е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2014. 352 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456936 (дата обращения: 05.10.2024).
Хрестоматии, издания трудов, справочные издания1. Из «Шестоднева» Иоанна экзарха болгарского / подготовка текста, перевод и комментарии Г. М. Прохорова // Библиотека литературы Древней Руси: в 20 т. Т. 2: XI–XII века / РАН. Ин-т рус. лит. (Пушк. дом); под. ред. Д. С. Лихачева [и др.]. СПб.: Наука, 1999. С. 126–135.
2. Легенда о граде Китеже / подготовка текста, перевод и комментарии Н. В. Понырко // Библиотека литературы Древней Руси: в 20 т. Т. 5: XIII век / РАН. Ин-т рус. лит. (Пушк. дом); под. ред. Д. С. Лихачева [и др.]. СПб.: Наука, 1997. С. 168–183.
3. Максим Грек. Беседа души с умом // Сочинения. Часть первая. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра собственная типография, 1910. С. 32–55. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53065 (дата обращения: 05.10.2024).
4. Послания старца Филофея / подготовка текста, перевод и комментарии В. В. Колесова // Библиотека литературы Древней Руси: в 20 т. Т. 9: Конец XV – первая половина XVI века / РАН. Ин-т рус. лит. (Пушк. дом); под. ред. Д. С. Лихачева [и др.]. СПб.: Наука, 2000. С. 290–395.
5. Поучение Владимира Мономаха / подготовка текста О. В. Творогова, перевод и комментарии Д. С. Лихачева // Библиотека литературы Древней Руси: в 20 т. Т. 1: XI–XII века / РАН. Ин-т рус. лит. (Пушк. дом); под. ред. Д. С. Лихачева [и др.]. СПб.: Наука, 1997. С. 456–475.
6. Слова и поучения Кирилла Туровского. Притча о человеческой душе и теле / подготовка текста, перевод и комментарии В. В. Колесова // Библиотека литературы Древней Руси: в 20 т. Т. 4: XII век / РАН. Ин-т рус. лит. (Пушк. дом); под. ред. Д. С. Лихачева [и др.]. СПб.: Наука, 1997. С. 142–157.
7. Слова и поучения Серапиона Владимирского / подготовка текста, перевод и комментарии В. В. Колесова // Библиотека литературы Древней Руси: в 20 т. Т. 5: XIII век / РАН. Ин-т рус. лит. (Пушк. дом); под. ред. Д. С. Лихачева [и др.]. СПб.: Наука, 1997. С. 370–387.
8. Слово Даниила Заточника / подготовка текста, перевод и комментарии Л. В. Соколовой // Библиотека литературы Древней Руси: в 20 т. Т. 4: XII век / РАН. Ин-т рус. лит. (Пушк. дом); под. ред. Д. С. Лихачева [и др.]. СПб.: Наука, 1997. С. 268–283.
9. Слово о законе и благодати митрополита Илариона / подготовка текста и комментарии А. М. Молдована, перевод диакона Андрея Юрченко // Библиотека литературы Древней Руси: в 20 т. Т. 1: XI–XII века / РАН. Ин-т рус. лит. (Пушк. дом); под. ред. Д. С. Лихачева и [и др.]. СПб.: Наука, 1997. С. 26–61.
Научная литература1. Хачаянц А. Г. Прочтение средневековой покаянной поэзии в хоровом цикле Альфреда Шнитке «Стихи покаянные» // Музыкальная академия. 2020. № 4 (772). С. 132–151. DOI: 10.34690/117.
Раздел 2
Русская философия XVII–XIX вв. Русское просвещение
Рационализм, свободомыслие, права человека и гражданина, образование для широких народных масс, закрепление науки современного стиля – все это Просвещение. Можно, конечно, задаться вопросом: насколько в действительности оправдано название этой эпохи, свершавшейся около двухсот лет назад, и насколько легитимны перечисленные ассоциации, но так или иначе, не первый план выходит человеческий разум, который становится главным актором эпистемологии, этики, политики и права. Эпоха Просвещения как часть культурно-философских оптик «долгого» XVIII в., зародившаяся в Западной Европе, не обошла стороной и те части европейской культуры, которые отличаются известной самобытностью, и, в частности, Россию.
Истоки Русского Просвещения стоит искать в конце XVII в. Связано это прежде всего с петровскими преобразованиями и началом новой социальности, смены философского фокуса, обозначенного поворотом к природе, деятельностью Славяно-греко-латинской академии и просвещенным правлением Екатерины II. Открытая в 1685 г. Славяно-греко-латинская академия подготовила появление базы для устроения Московского университета и Санкт-Петербургской академии наук. В рамках Славяно-греко-латинской академии были заложены основы преподавания философии как целостной области знания, что по большей части входит в общий тренд европейского Нового времени, которое предпочитает духовно-практической мысли теоретические исследования в области метафизики природы, научной эпистемологии, логики и социального устроения. Именно поэтому возникла потребность выделения философии в самостоятельную дисциплину. Все это, разумеется, не так категорично и однозначно, не стоит считать, что древнерусская философия, которая здесь подходит к своим сущностным рубежам, гнушалась разума. Логос, понимаемый в стиле славяно-греческого философствования (как мы уже знаем, на территории проживания восточных славян античные тексты появились вместе с распространением самой письменности), вовсе не экзальтированный религиозный догматизм, противящийся самой идее ratio. Например, назвать Кирика Новгородца «любомудром» (уничижительно, без привязки к знаменитому кружку) нам очевидно сложно, его мысль глубже и ближе к современному пониманию науки, чем тот неофолк-образ «лесного мудреца в рисе», который часто можно встретить в поверхностной беседе. Так или иначе, тренды всегда неоднородны, но мы склонны методологически прощать их описаниям излишнюю категоричность, в отношении к тем состояниям, которые они трансформируют, заключая в скобки истинную сложность вопроса. Детали постараемся прояснить в дальнейшем обзоре.
Тем не менее относительную легитимность такого определения тренда мы можем проиллюстрировать двумя заглавиями анонимных трудов консервативных отечественных мыслителей XVII в., касавшихся вектора философствования в рамках академии. Это: «Разсуждение – учитися ли нам полезнее грамматики, риторики, философии и стихотворному художеству и оттуду познавати божественные писания или и не учася сим хитростей в простоте богу угождати» и «Довод вкратце: яко учения и язык эллиногреческий наипаче нужно потребный, нежели латинский язык и учения, и чем ползует славенскому народу». Оппонентами консерваторов выступали Симеон Полоцкий (1629–1680), его ученик Сильвестр Медведев (1641–1691), Савва Долгий (середина XVII в.), Гавриил Домецкий (умер не позднее 1708) и др., которые видели в латинском языке и соответственно, спаянном с ним наследии стремящейся к рациональности схоластики, будущее философского знания[42].
Как же в итоге сложился стиль мысли? Историк С. К. Смирнов различает в деятельности Славяно-греко-латинской академии три периода[43]. В первом преобладает греческое влияние, связанное с преподаванием братьев Лихудов, выходцев из армяно-византийского княжеского рода. Их прибытие в Москву ознаменовало победу «грекофильской» партии над «латинской» в богословских спорах и политической борьбе. Продолжался этот период с 1685 до 1700 г. В следующем периоде все же усиливается латинское влияние, большинство преподавателей в этот период были из Киева, продолжался он с 1700 до 1775 г. Заключительный период, начавшийся уже после открытия Московского университета, характеризуется усилением влияния церкви на направленность преподавания в академии и окончательным превращением ее в 1814 г. в духовное учебное заведение. Этот период связан с деятельностью Платона Левшина (1737–1812).
Говоря о вольнодумстве, следует обратиться к антицерковной полемике, в которой традиционно для Европы созревала сама инстанция светского как такового. В России конца XVII в. частью дискуссии стали такие социальные группы, как крестьяне, переселившиеся в город и таким образом встроившиеся в товарно-денежные отношения, жители посадов – торговцы и ремесленники, будущая городская интеллигенция нового образца. Из среды последних вышел Дмитрий Тверитинов-Дерюжкин (1667 – ок. 1741), уроженец Твери, популярный вольнодумец конца XVII – начала XVIII в., имевший достаточное число единомышленников. В Москве он освоил аптекарское дело и лекарское ремесло, приобрел знания в области естествознания, что и убедило его в мысли, что все в мире совершается на основе закономерности и причинности и может быть объяснено посредством разума. Наблюдая современную ему русскую общественную жизнь и часто беседуя с жителями Немецкой слободы, где он учился лекарскому искусству, он начал сомневаться в истинности воззрений и убеждений защитников старины.
К числу вопросов, занимавших Тверитинова, относились не только вопросы веры; однако видя в церковных институтах социальную опору старых порядков, именно на них он обрушивал свою основную критику. Несмотря на знакомство с протестантскими катехизисами, он не разделял их идеи до степени, в которой мы бы могли назвать Тверитинова протестантом. Тем не менее некоторая схожесть с реформаторами имеется. Не отрицая веры в Бога, но считая ее единственным источником Библию, вольнодумец в то же время не признавал церковного предания, – ни трудов Отцов церкви, ни решений Вселенских соборов. С точки зрения Тверитинова и кружка его единомышленников, к господствующим в церкви мнениям необходимо применять критерии разума, здравого смысла, доказательности, и каждый человек в силу своего разумения должен иметь право на свободное изучение и истолкование Писания. Подобные демократизирующие ходы мысли возможны только в условиях с одной стороны осознания человека и его личной духовной жизни как самоценности, с другой стороны – признания рациональности как единственной инстанции авторитета, воплощенной в данном случае как раз в человеке[44].
Самым известным выпускником Славяно-греко-латинской академии мы без сомнений можем назвать Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765). Позднее, в 1736–1740 гг., он обучался в Марбургском университете под руководством философа Христиана Вольфа, одного из отцов современного немецкого языка философии и науки в целом. Позднее Ломоносов будет ярым противником засилья немцев в отечественной академической среде. В области социальной мысли Ломоносов придерживался позиций просвещенного самодержавия. Историософские исследования Ломоносова привели к зарождению т. н. славянской школы – российского направления историографии, представители которого стремились доказать глубокую древность, культурную самобытность, исконную высокую цивилизованность славян и русских, не уступавших народам Западной Европы и имевших право на равное с ними место в мировой истории и международном сообществе. Главный труд Ломоносова по истории – «Древняя Российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого, или до 1054 года», где история восточных славян прослеживается от Римской империи, а также обосновываются общие корни языческого пантеона восточных славян, что позволило строить убедительные теории касательно единства культурно-цивилизационной общности, на которой основывается российская государственность. В вопросах этногенеза славян он был приверженцем скифо-сарматской гипотезы, утверждающей родство русских с роксоланами и сарматами. Позднее это станет частью государственной философии: в 1787 г. в «Записках касательно российской истории» императрица Екатерина II указывала, что скифы говорили на общем со славянами языке, и описывала их быт с проекцией на выстраиваемую ею концепцию русского национального характера[45]. Сегодня мы, конечно, понимаем, что несмотря на географическую близость, происхождение славянской речи не связано с вымершими к X в. скифо-сарматскими языками, которые (вместе со славянскими языками) относятся к разным ветвям индоевропейской языковой семьи. Но несмотря на некоторые ошибки, которые стало возможно распознать значительно позже, исторический метод Ломоносова был верным, его идеи предвосхитили принцип историзма ХIХ в., согласно которому истоки идентичности нации, народа, социального института следует искать в их прошлом; а некоторые отдельные тезисы ученого о происхождении России как государства (например возможность приглашения варягов-князей из народа русь с берегов Немана) нашли поддержку и среди сторонников норманизма, которому Ломоносов оппонировал. Антропологические воззрения находят свое отражение в педагогических подходах Ломоносова, где он выступает за объемлющую бессословную систему образования (включая университетское), считает обучение и воспитание неразрывным единым процессом, в котором должны учитываться как личные черты ученика, так и его наследственность[46]. Отдельное внимание уделяется обучению основам родной речи и риторики, в рамках которой энциклопедист подготовил объемный труд «Риторика» (1748), которая стала первой русской хрестоматией мировой литературы, призванной познакомить читателя с лучшими образчиками красноречия. Он разработал стилистическую систему русского языка эпохи классицизма – теорию «трех штилей» (стилей). Наряду с Николаем Карамзиным и Александром Пушкиным, Михаил Васильевич Ломоносов является одним из созидателей современного русского языка. С его подачи в научный и бытовой обиход вошли латинские термины: атмосфера, микроскоп, минус, полюс, формула, периферия, горизонт, диаметр, радиус, материя, эфир и многие другие.
В работе «О слоях земных» (1763) Ломоносов выдвинул догадку об эволюции растительного и животного мира и указал на необходимость изучения причин изменения природы. Философская работа Ломоносова в области метафизики природы нашла свое отражение в корпускулярно-кинетической теории. В ее основе представление о материи, состоящей из мельчайших частиц – «элементов» (атомов), объединенных в «корпускулы» (молекулы): «элемент есть часть тела, не состоящая из каких-либо других меньших и отличающихся от него тел… Корпускула есть собрание элементов, образующее одну малую массу»[47]. Базовыми свойствами материи признаются: протяженность, сила инерции, форма, непроницаемость и механическое движение, в рамках этой теории появляется закон сохранения вещества и движения[48]. Сочетаясь в разных комбинациях и количествах, корпускулы порождают все многообразие видимого в природе. Естественнонаучный материализм в философии Ломоносова сочетается с деизмом, и таким образом корпускулярно-кинетическая теория не отрицает существования Бога.
Важнейшей фигурой отечественной философии XVIII в. можно без сомнений назвать Александра Николаевича Радищева (1749–1802), ниже мы постараемся дать краткий обзор его философии. Наиболее известны две его работы – «Путешествие из Петербурга в Москву» и «О человеке, о его смертности и бессмертии». В первой работе, написанной в стиле дорожных философских заметок на социальные темы, критикуется довлеющий над людьми социально-экономический «левиафан» (в тексте «чудище»), инструментализирующий церковь и государство для сковывания разума и воли[49]. В книге с определенной наивной художественной остротой в сентиментальном ключе критикуется крепостное право. Впрочем, именно за излишнюю сентиментальность стиля и «варварский» слог позднее критиковал «Путешествие» Александр Пушкин. За эту работу Радищев будет сослан в Илимский острог. В ссылке он напишет следующую работу: «О человеке, о его смертности и бессмертии». Трактат достаточно сложен, уточнение некоторых важнейших аспектов этой работы до сих пор требует прояснения. К примеру, до конца не ясно, верил ли Радищев в бессмертие человеческой души, потому как работа содержит как доводы «за», так и «против»; рационально таким образом может быть обоснован разве что скептицизм (возможно, замечает Радищев, вопрос о бессмертии будет разрешен в момент окончания земной жизни). Однако есть и другое мнение. Учитывая стилистические особенности философского письма рассматриваемой эпохи, в которой авторам часто было характерно приводить доводы в пользу двух противоречащих позиций, оставляя читателю самому право выбрать, какая из них останется более сильной, можно заключить, что Радищев не только не отвечал положительно на вопрос о бессмертии души, но и скептиком не являлся. Доводы против бессмертия души приводятся Радищевым оригинально, здесь и производилась его философская работа, в то время как доводы «за» изложены в стиле базовых положений духовного воспитания эпохи. Без этих банальных дополнений трактат нельзя было бы опубликовать в то время, а Радищев, по всей видимости, желал публикации. Если так, мы можем считать его ответ на вопрос о бессмертии души негативным. В пользу такого предположения говорит тот факт, что Радищев использует материалистическую оптику, для него объекты существует независимо от наших о них представлений, мир, человек и сущее в целом – объективно. Человек занимает особое положение в мире, как единственное выражение этической материи. Именно в этике Радищев находит отличительную черту человека, в то время как во всем остальном он весьма схож с другими живыми существами. Натуралистический гуманизм Радищева в вопросах о дуализме человеческой природы диктует неразрывную связь души и тела. Так что вопрос о самостоятельной природе одного или другого становится бессмысленным. С этой трактовкой, впрочем, не согласны историки философии и религиозные мыслители Н. О. Лосский и В. В. Зеньковский, которые находят в трактате Радищева линию мысли, подтверждающую идею о бессмертии души человека через аргумент о простоте и неделимости души.
Заметным всеевропейским стереотипом просвещения является фигура просвещенного правителя, которая в России прежде всего может быть ассоциирована с Екатериной II (2 мая 1729 – 17 ноября 1796, годы правления 1762–1796). Императрица вела переписку с Вольтером, Дидро и д’Аламбером, при ней открывались издательства и музеи, включая Эрмитаж, учреждались научные объединения и учебные заведения. Тем не менее выше мы видели, что именно по ее решению был арестован Александр Радищев. Так она отозвалась о «Путешествии»: «Екатерина сильно была поражена. Несколько дней сряду читала она эти горькие, возмутительные сатиры. “Он мартинист, – говорила она Храповицкому (см. его записки), – он хуже Пугачева; он хвалит Франклина”. – Слово глубоко замечательное: монархиня, стремившаяся к соединению воедино всех разнородных частей государства, не могла равнодушно видеть отторжение колоний от владычества Англии»[50]. Стоит понимать, что в расхождении во взглядах императрицы и философа имеет место и во многом теоретическая подоплека, хоть оно и кажется конфликтом теории и практики, при котором даже светлые идеи могут быть «слишком хороши» для существующего порядка вещей. Там, где вольнодумствующий Радищев хочет революционными методами воздвигнуть в России республику, считающая себя просвещенным сувереном Екатерина II должна учитывать интересы той силы, что удерживает систему в рабочем состоянии – интересы дворянства. Косвенно это можно проиллюстрировать фрагментом из переписки с Дидро, к которому она обращается с упреком: «Вы пишете на бумаге, которая все стерпит, я же, бедная императрица, – на коже человеческой, столь чувствительной и болезненной»[51]. В конце концов, стереотипная фигура просвещенного правителя символизирует собой прежде всего союз власть имущих и философов, а не первых и широких народных масс.
Екатерина II мечтала видеть наследником престола не Павла I, но внука, Великого князя Александра Павловича, которому в 1781 г. она адресовала авторскую «Сказку о царевиче Хлоре». Стилистически это достаточно интересное произведение, легкое, наполненное понятными аллегориями, удерживающее базовые тропы устной народной сказки в шутливо-галантной эзотерической поэтике сказки рококо. Сейчас бы мы назвали это постмодерном. Идейно здесь важна смена тона: просвещенный абсолютный монарх работает в более секуляризированном дискурсе (которому он сам сознательно позволяет звучать) и назидательная доктрина здесь уже не требует сакральной подпитки: так мать учит детей, непринужденно и ласково. И для нас здесь не столь важна эта деталь в контексте отношений императрицы со своим внуком, но она становится выражением изменений отношений суверена и двора в России. На это со всей ясностью указывает Гавриил Романович Державин (1743–1816) в известной «Оде к премудрой киргизкайсацкой царевне Фелице, писанной некоторым татарским мурзою, издавна поселившимся в Москве, а живущим по делам своим в Санктпетербурге. Переведена с арабского языка 1782»). И в этом контексте не столь справедлив Гегель, когда он на излете эпохи просвещенного абсолютизма едко описывает оду как жанр, характеризующийся «героизмом лести». По крайней мере в данном случае оду можно воспринимать не как рутину придворного гимнописца, слогом подчеркивающим дистанцию, воспевающего абстрактный символ, дарующий монарху сверхъестественную власть. И не как похвалу гению государственного строительства. Но – как похвалу конкретному живому характеру человека, отказывающемуся от деспотии и открытому для разговора на равных[52]. Без учета этой светлой стороны эпохи (как и без разговора об ограничениях, запретах и преследовании) мы не можем взвешенно подойти к оценке интеллектуальной атмосферы Русского Просвещения.
Социальная философия Державина согласовывается с духом просвещенного абсолютизма. Она вбирает в себя эпикурейский этический компонент и элитаристские черты. Так, в стихотворении «Колесница», написанном по следам революционных событий во Франции, мы видим образы «венчанного возницы» и коней, стремящихся к «дикой свободе», – но упорядоченных возницей, чтобы за собой вести «царств славных колесницы», что вполне согласуется с современной ему государственной философией[53].
Примечателен и смысл знаменитой оды «Бог» (1784). Первые строки оды были написаны значительно раньше всей остальной части, после пасхального богослужения. Сам Державин позднее дал некоторые пояснения к своим произведениям, включая частные образы, которые открывают новые философские смыслы:
О Ты, пространством бесконечный,Живый в движеньи вещества,Теченьем времени предвечный,Без лиц, в Трех Лицах Божества![54]«Автор, кроме богословского православной нашей веры понятия, разумел тут Три Лица метафизические; то есть: бесконечное пространство, беспрерывную жизнь в движении вещества и нескончаемое течение времени, которое Бог в себе и совмещает»[55]. Здесь отчасти проступает сочетание традиционного православного религиозного мотива с просвещенческим деизмом, на что часто обращают внимание иностранные комментаторы. Достаточно богата традиция толкований оды, в том числе и зарубежной, ведь текст не раз переводился и издавался за пределами России. Литературовед Йоахим Клейн (Калифорнийский университет в Беркли) пишет: «…в своем стихотворении Державин предпринял попытку согласовать традиционную русскую веру в Бога с духом западноевропейского Нового времени, чтобы, при всем уважении к традиции, понять отношение человека к Богу и его положение во вселенной в соответствии с современным знанием. Успех державинской оды показывает, что ему удалось выразить это новое понимание языком, убедительным для современников и потомков»[56].
Я связь миров, повсюду сущих,Я крайня степень вещества;Я средоточие живущих,Черта начальна Божества;Я телом в прахе истлеваю,Умом громам повелеваю,Я царь – я раб – я червь – я бог!Но, будучи я столь чудесен,Отколе происшел? – безвестен;А сам собой я быть не мог[57].Однако интересна альтернативная интерпретация российского филолога Ивана Андреевича Есаулова (р. 1960), который ставит во главу угла проблемы отношений между человеческим «я» и «Ты» Бога. Эта оригинальная внимательная к тексту интерпретация заслуживает большой цитаты, чтобы смысл оказался для читателя более понятным:
«Оказывается, что ни риторически, ни логически, ни даже богословски – живущий на земле смертный человек не может вполне успокоиться (успокоить себя), размышляя над соотношением “Ты” и “я”. Выходит, без умиления, невозможного – в данном случае – без особого слезного дара невозможна все-таки не только истинная жизнь человеческая, но невозможно и подлинное завершение оды “Богъ”… В заключительных строках оды наблюдается и знаменательный возврат к человеческому (соборному) “мы” первой строфы (“Кого мы называемъ – Богъ”. Уникальное для этой оды в силу своей единичности словоупотребление мы хотя и не присутствует непосредственно в последней строфе, но финальное обращение к “слабымъ смертнымъ” его подразумевает. Соборное (слезное) приобщение к этому человеческому “мы”, выход за пределы только лишь собственной единичности происходит как раз в финале оды: ведь “благодарны слезы лить” может не только герой (“я”), но и любой читатель державинского произведения, обладающий слезным даром»[58].
Забегая вперед, завершителем процесса самосознания русского Просвещения можно назвать философа Ивана Васильевича Киреевского (1806–1856), жившего уже в XIX в. Один из основоположников славянофильства, Киреевский проблематизировал точки расхождения российского и общеевропейского миропонимания, через которые он выводил философское, социальное и духовное самоопределение русской культуры. В письме «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» он пишет: «здесь [в России] здоровая цельность разумных сил; там внутренняя тревожность духа, при рассудочной уверенности в своем нравственном совершенстве, – у Русского – глубокая тишина и спокойствие внутреннего самосознания, при постоянной недоверчивости к себе и при неограниченной требовательности нравственного усовершения; одним словом, там раздвоение духа, раздвоение мыслей, раздвоение наук, раздвоение государства, раздвоение сословий, раздвоение общества, раздвоение семейных прав и обязанностей, раздвоение нравственного и сердечного состояния, раздвоение всей совокупности и всех отдельных видов бытия человеческого, общественного и частного; – в России, напротив того, преимущественное стремление к цельности бытия внутреннего и внешнего, общественного и частного, умозрительного и житейского, искусственного и нравственного. Потому, если справедливо сказанное нами прежде, то раздвоение и цельность, рассудочность и разумность, будут последним выражением [различий] Западно-Европейской и Древне-Русской образованности»[59]. Мы видим как Киреевский выдвигает идеал органичного отечественной культуре «целостного разума» как единства интеллектуальной, моральной и эстетической способности человека. Достигается эта целостность в духовной и телесной аскезе. Проект Киреевского не был направлен на уничтожение условного западного рационализма, но указывая на его невозможность дать цельное представление о мире, предлагал способ его преодоления, качественного перехода на новый уровень.

