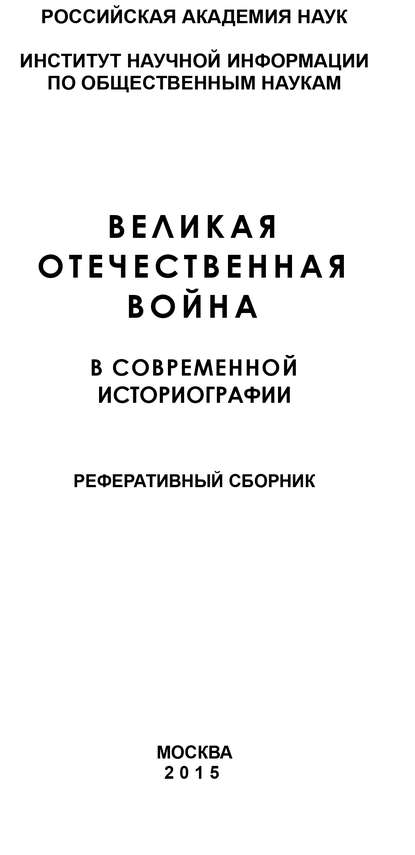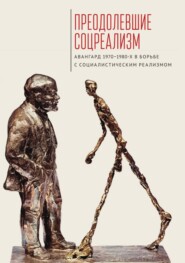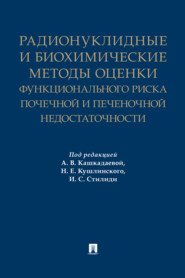По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Великая Отечественная война в современной историографии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ю.В. Дунаева
Блокада Ленинграда
(Сводный реферат)
1. Жизнь и смерть в осажденном Ленинграде, 1941–1944.
Life and death in besieged Leningrad, 1941–1944 / Ed. by J. Barber, A. Dzeniskevich. – Basingstoke (Hampshire); N. Y.: Palgrave Macmillan, 2005. – XXVIII, 243 p.: ill.
2. Мэддокс С. Эти памятники должны быть сохранены! Сталинский поворот к прошлому и охрана памятников во время блокады Ленинграда.
Maddox S. These monuments must be protected! The Stalinist turn to the past and historic preservation during the blockade of Leningrad // The Russian review. – Syracuse (N. Y.), 2011. – Vol. 70, N 4. – P. 608–626.
3. Киршенбаум Л.А. Наследие осады Ленинграда, 1941– 1995: Миф, мемуары и монументы.
Kirschenbaum L.A. The legacy of the siege of Leningrad, 1941– 1995: Myth, memoirs, and monuments. – Cambridge etc.: Cambridge univ. press, 2006. – XV, 309 p.: ill.
Блокаде Ленинграда посвящено значительное количество исследований, отечественных и зарубежных. Здесь представлены некоторые наиболее интересные из них.
В сборнике «Жизнь и смерть в осажденном Ленинграде» (1) под редакцией Джона Барбера (Кембридж) и А.Р. Дзенискевича (Санкт-Петербургский институт истории РАН) собраны статьи ряда российских авторов, посвященные медицинской истории блокады. Как отмечают составители в предисловии, тема эта до сих пор относится к числу малоизученных, несмотря на то что голод и лишения, перенесенные ленинградцами, особенно зимой 1941–1942 гг., уже в послевоенные годы привели к многочисленным проблемам со здоровьем у многих из них, а по некоторым данным, отразились и на здоровье их детей. Медицинские последствия голода активно изучались ленинградскими врачами в годы войны и некоторое время после ее окончания, но в дальнейшем эти исследования были свернуты.
Изучение истории голода в блокадном Ленинграде, подчеркивают Барбер и Дзенискевич, важно не только для исторической науки, но и с чисто практической точки зрения, поскольку массовый голод имел место и во второй половине XX в., еще в начале 1990-х годов число голодающих в мире оценивалось в полмиллиарда. Между тем из известных случаев массового голода именно история ленинградской блокады относится к числу наиболее подробно документированных. В постсоветский период исследователи получили доступ к ранее засекреченным архивам; кроме того, в их распоряжении имеется огромный массив воспоминаний о блокаде, сохраняется и возможность личного общения с последними представителями уходящего блокадного поколения. Авторы сборника «сознают, что предмет данной книги слишком обширный и сложный для того, чтобы адекватно отразить его в одном томе, но всё же надеются, по крайней мере, что в нем получит освещение одна из темных областей истории осады Ленинграда, что, в свою очередь, послужит стимулом для других к ее дальнейшему исследованию» (1, с. XI).
Развивая эти мысли во введении, Барбер отмечает, что история голода, как правило, довольно плохо поддается изучению, поскольку голод обычно случается в бедных местностях, с недостаточно развитой администрацией; этим и обусловливается дефицит источников. Так, до тех пор, пока не были рассекречены советские документы, посвященные положению в блокированной Северной столице, наиболее тщательно исследованным считался голод в Голландии в 1944–1945 гг., масштабы которого были, к счастью, несравнимы с ленинградскими. Уровень смертности в блокадном Ленинграде, особенно в первую зиму, был одним из самых высоких в истории, он сопоставим с другими крупнейшими катастрофами такого рода, включая голод в СССР в 1932–1933 и 1946– 1947 гг. Широкая источниковая база по ленинградской блокаде, таким образом, дает историкам редкую возможность детально проанализировать обстоятельства массового голода, реакцию на него властей и населения, стратегии выживания, последствия для здоровья и т.д.
Попытки классифицировать случаи голода в зависимости от их причин предпринимались неоднократно, однако исследовательская практика показывает, что чаще всего природный и человеческий факторы действовали одновременно, усиливая друг друга. Явное исключение составляет голод во время войны, единственной причиной которого являются целенаправленные действия одной из противоборствующих сторон. Страшный парадокс войны состоит в том, что голод как оружие применяется с целью принудить противника к капитуляции, однако поражает в первую очередь не солдат неприятельской армии, которые обычно снабжаются в приоритетном порядке, а гражданское население как наиболее уязвимое. Поскольку случай с Ленинградом относится именно к этой категории, Барбер склоняется к выводу, что в сложившихся обстоятельствах голод был неизбежен. Грамотные и своевременные действия властей по накоплению запасов продовольствия, своевременный переход на нормированное питание и эвакуация большего числа детей и больных до того, как замкнулось кольцо блокады, могли бы уменьшить масштабы катастрофы, но вряд ли этого хватило бы, чтобы полностью предотвратить ее. Зная намерения гитлеровского руководства, пишет он, можно предположить, что и сдача Ленинграда противнику скорее всего не спасла бы его жителей от голода.
Сборник открывает статья Н. Черепениной (Центральный государственный архив Санкт-Петербурга), посвященная демографической ситуации и состоянию здравоохранения в Ленинграде перед войной. Население города на 1 января 1941 г. насчитывало примерно 2 млн 992 тыс. человек. Доля мужчин была несколько снижена, поскольку большое количество мужчин уже были призваны в армию. Крайне высокой (45,8%) была доля лиц, находившихся на иждивении других членов семьи, в том числе детей; с началом блокады это дополнительно усложнит положение в городе. В 1939–1940 гг. уже наблюдалось снижение рождаемости и повышение смертности, включая детскую, – из-за призыва мужчин в армию, холодной зимы, перебоев с поставками топлива и т.д. К 1941 г. положение выправилось, но оставалось весьма неустойчивым. Планы эвакуации, разработанные в начале 1930-х годов, устарели. Система здравоохранения, по оценке автора, «была хорошо подготовлена к войне – но никто не ожидал, что Ленинград на долгое время окажется в осаде, и к этому город подготовлен не был» (1, с. 26).
В следующей своей статье Черепенина рассматривает вопрос о количестве жертв блокады. Источниковая база по данному вопросу по-прежнему остается неполной, эту проблему, вопреки ожиданиям многих ученых, не решило даже рассекречивание архивов. Источниковедческое исследование документов времен войны также еще не проводилось, что дополнительно осложняет ситуацию. По данным автора, смертность в Ленинграде начала расти уже в июле 1941 г., превысив в одном этом месяце показатели за всё первое полугодие, но голод стал ее главной причиной лишь в ноябре, когда в городе умерло свыше 11 тыс. человек. В декабре было зарегистрировано уже почти 54 тыс. смертей. Пик голода пришелся на январь – начало февраля 1942 г.: в январе погибло примерно 127 тыс. человек, в феврале – 123 тыс.; большинство погибших составляли взрослые мужчины. С конца февраля смертность пошла на спад, но оставалась тем не менее довольно высокой вплоть до окончания блокады. Всего в 1942 г. умерло около 520 тыс. человек. Мужчин и женщин в числе погибших было примерно поровну, но доля мужчин в населении города была существенно меньше половины; это означает, что смертность среди них была гораздо выше, чем среди женщин. В том же году еще 800 тыс. человек были эвакуированы; вместе с ранеными красноармейцами и беженцами из других городов, оказавшимися в Ленинграде, число эвакуированных перевалило за 1 млн. На 1 января 1944 г. в городе проживало всего 557 760 человек. В 1944 г. население снова стало расти (в том числе за счет вернувшихся из эвакуации), превысив 1 млн жителей к 1 июля 1945 г.; в этот же период смертность вернулась к довоенному уровню.
Наибольшее число ленинградцев были эвакуированы в Вологодскую и Ярославскую области; их положение описывает в своей статье М.И. Фролов (Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина). Согласно его оценкам, местные власти в целом довольно успешно справились с размещением эвакуированных и обеспечением их необходимой медицинской помощью, несмотря на крайне ограниченные ресурсы обоих регионов. Тем не менее смертность среди эвакуированных была довольно высокой, как в пути, так и по прибытии к новому месту проживания, поскольку многие из них к моменту отъезда из Ленинграда находились уже в крайней степени истощения. Меры, принятые вологодскими и ярославскими властями и медицинским персоналом, позволили лишь уменьшить количество жертв.
Статья А.Р. Дзенискевича посвящена деятельности ленинградских медицинских институтов во время войны. Несмотря на экстремальные условия блокады, ученые-медики проделали огромную работу по организации необходимой помощи раненым солдатам и гражданскому населению Ленинграда, а также по изучению влияния голода на здоровье. Эта работа продолжалась и после снятия блокады, но довольно быстро была свернута – отчасти по политическим причинам, отчасти из-за того, что восстановление нормальной жизни в городе поставило перед учеными новые задачи. Как результат, долгосрочные последствия блокады для здоровья ленинградцев остались по большей части неизученными.
Биологические и психосоматические аспекты жизнедеятельности и выживания в условиях голода рассматриваются в статье С.В. Магаевой (НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН, Москва). Автор сама пережила блокаду, в 1941 г. ей было 10 лет. Она отмечает, что к числу основных причин истощения помимо голода относились также холод и перманентный стресс, связанный с постоянной опасностью для жизни. При этом сохранившиеся материалы, оставленные врачами во время блокады, показывают, что одинаково тяжелые условия переживались разными людьми по-разному и приводили к различным результатам. Сопротивляемость организма определялась несколькими факторами, включая генетически предопределенную устойчивость или уязвимость к недоеданию, психологическую устойчивость и волю к жизни, а также физиологические резервные механизмы, природа которых остается неясной.
В. Чирский (Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург) в своей статье описывает деятельность ленинградских патологоанатомов в период блокады. На первый взгляд, отмечает автор, их работа в условиях осажденного города, умирающего от истощения, может показаться излишней, но в действительности патологоанатомы внесли довольно существенный вклад в изучение особенностей дистрофии и сопутствующих заболеваний. Результаты их наблюдений позволили также скорректировать методы лечения и в конечном счете снизить уровень смертности.
В статье И. Козлова и А. Самсоновой (Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) сравниваются показатели физического развития детей, переживших блокаду Ленинграда, и московских детей, обследовавшихся в 1930-е годы. Тему продолжает статья Л. Хорошининой (Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования) об отложенных последствиях длительного голода для ленинградцев, переживших блокаду в детстве. Статья написана по материалам патологоанатомической экспертизы тел пациентов, умерших в Санкт-Петербургском госпитале для ветеранов войн в 1989–2000 гг.
Завершает сборник статья Б. Белозерова (Санкт-Петербургский университет МВД России), посвященная преступности в блокадном Ленинграде. К наиболее частым видам преступлений относились хищения продовольствия и продовольственных карточек, использование карточек умерших родственников и т.п., но наибольшую опасность представляли вооруженные банды, промышлявшие грабежами, а также убийствами с целью завладеть карточками жертв. Борьба с бандитизмом осложнялась тем, что сотрудники милиции сами находились на грани истощения. Зимой 1941–1942 гг. отмечались случаи людоедства; пик пришелся на февраль 1942 г., когда по обвинению в каннибализме только за первую половину месяца были арестованы 494 человека – больше, чем за весь январь. Всего же с 1 июля 1941 по 1 июля 1943 г. военные суды рассмотрели дела 15 193 человек по обвинению в различных преступлениях, 2093 человека были приговорены к расстрелу. Подавляющее большинство ленинградцев, таким образом, удержались от противоправных действий даже в экстремальных условиях блокады.
* * *
Стивен Мэддокс (Канизийский колледж, Буффало, США) в статье «Эти памятники должны быть сохранены!» (2) описывает усилия ленинградских деятелей культуры по защите городских памятников от разрушения в блокадные месяцы в общем контексте исторической политики сталинского руководства 1930–1940-х годов. Движение в защиту памятников истории и культуры зародилось в России задолго до Второй мировой войны; в Петербурге – Петрограде – Ленинграде его позиции были особенно сильными. С начала 1930-х годов ценность памятников, причем не только связанных с революционными событиями, но и памятников царской эпохи, была признана сталинским руководством, что обеспечило их защитникам необходимую правовую и идеологическую базу. В условиях начавшейся войны с Германией усилия по сохранению исторических ценностей принимались по всей стране, включая как эвакуацию музеев на восток, так и защиту монументов и исторических зданий от повреждения в ходе боевых действий. Ленинград на общем фоне выделяется, с одной стороны, особенно большим количеством памятников, нуждавшихся в защите, с другой стороны – тем, что он не был оккупирован, но при этом на протяжении двух с половиной лет находился в зоне боевых действий. Это дало возможность ленинградским архитекторам, художникам, музейным работникам и др. обеспечить защиту городских памятников в максимальном объеме, но одновременно предопределило беспрецедентный масштаб стоявших перед ними задач, выполнять которые к тому же приходилось в нечеловеческих условиях блокады.
Смена ориентиров в политике памяти преследовала главным образом прагматические цели. Не отказываясь полностью от коммунистической идеологии, сталинское руководство тем не менее попыталось построить своеобразный вариант советского патриотизма, поскольку «пролетарский интернационализм» 1920-х годов в чистом виде представлялся недостаточно надежной основой для массовой мобилизации в случае новой войны, опасность которой резко возросла после захвата Маньчжурии Японией и прихода нацистов к власти в Германии. В рамках этой новой политики произошла «реабилитация» дореволюционного прошлого, его наследие вновь стало рассматриваться как предмет национальной гордости и источник примеров для подражания. Была создана система центральных и местных органов по охране памятников.
Нарастание международной напряженности беспокоило и культурную общественность, помнившую опыт Первой мировой войны. В 1936 г. были разработаны планы эвакуации музейных экспонатов и других «транспортабельных» культурных ценностей из Ленинграда, активно изучалось воздействие современной войны на культурное наследие и меры по его защите, принимавшиеся в Западной Европе (на примере Гражданской войны в Испании и начавшейся Второй мировой). Этот опыт был в дальнейшем использован в годы Отечественной войны.
Первые мероприятия по защите памятников Ленинграда были организованы буквально в первые же дни после германского нападения, в соответствии с решениями Ленсовета от 25 июня. Началась маскировка золотых куполов и шпилей, которые могли послужить ориентирами для немецких летчиков; мраморные и небольшие бронзовые статуи были сняты с пьедесталов, крупные памятники (такие как Медный всадник) обложены мешками с песком и накрыты деревянными коробами. Лица, участвовавшие в этой работе, освобождались от призыва в армию и от мобилизации на строительство укреплений на подступах к городу. Известны случаи, когда к работам по укрытию памятников привлекались солдаты и даже школьники.
С началом блокады эти работы были ускорены, тем более что на Восточном фронте немцы, как уже выяснилось к тому моменту, нередко разрушали исторические памятники сознательно. Принятие необходимых мер, однако, затруднялось погодными условиями, немецкими авианалетами и артобстрелами, нехваткой ресурсов, а начиная с ноября – также физическим истощением людей из-за недоедания. Архитекторы и скульпторы, занимавшиеся охраной памятников, в этих условиях вынуждены были сосредоточить свои усилия почти исключительно на документировании ущерба, минимальном, самом необходимом ремонте, а также на описании и обмерах памятников на случай, если они будут разрушены. Некоторые объекты из-за нехватки сил и средств пришлось оставить вовсе без защиты. Городские власти, в частности, решили не укрывать памятники Суворову, Кутузову и Барклаю де Толли, чтобы использовать их как элемент монументальной пропаганды.
В начале 1942 г., когда заработала Дорога жизни, работы по сохранению памятников были возобновлены. Их цель по-прежнему оставалась двоякой: с точки зрения не только городской администрации, но и самих архитекторов, занимавшихся защитой культурного наследия, сохраняемые памятники представляли ценность не только сами по себе, но и являлись важным инструментом патриотического воспитания. Об этом свидетельствуют такие меры, как сооружение фанерных макетов на месте разрушенных построек, восстановить которые до окончания войны не представлялось возможным. Считалось, что руины исторических зданий будут своим видом подрывать моральный дух горожан.
После прорыва блокады в 1943 г. архитекторы Ленинграда постепенно стали задумываться над перспективами его будущего восстановления. Наиболее активная подготовка к этой работе развернулась осенью, когда были организованы лекции для городских чиновников по архитектуре Северной столицы, а главное – курсы для подготовки профессиональных реставраторов. Восстановлению памятников придавалось настолько большое значение, что обучать студентов было решено непосредственно в Ленинграде, хотя именно осенью 1943 г. он подвергался особенно интенсивным обстрелам и несколько студентов были убиты разрывом снаряда буквально сразу после приезда в город с Большой земли. «Долг перед Ленинградом, – писал уже после войны тогдашний главный архитектор города Н.Ф. Баранов, – убедил нас в справедливости наших действий» (цит. по: 2, с. 625).
* * *
Книга Лизы А. Киршенбаум (Вест-Честерский университет Пенсильвании) посвящена исторической памяти о блокаде Ленинграда (3). Героическое сопротивление города привлекло широкое внимание общественности как в СССР, так и за рубежом еще во время войны, пропагандистский «эпический» образ блокадного Ленинграда тоже начал создаваться еще во время войны; после ее окончания эта работа была продолжена. Параллельно формировался огромный массив источников личного происхождения. Многие блокадники вели дневники, а в послевоенный период, особенно начиная с 1960-х годов, начали издаваться мемуары выживших ленинградцев. В этих материалах фиксировалась альтернативная, неофициальная память о блокаде. Автор отмечает, однако, что взаимодействие между памятью официальной и неофициальной было довольно сложным, официоз также мог опираться на воспоминания блокадников, тогда как официальные концепции проникали и в мемуары, в том числе оставленные авторами, критически относившимися к советскому режиму.
Причины такого взаимовлияния Киршенбаум видит в том, что ссылки на воспоминания блокадников обеспечивали пропаганде бо?льшую убедительность и тем самым являлись одним из средств легитимации правящего режима, тогда как героические образы, создаваемые пропагандой, позволяли самим ленинградцам придать некий смысл пережитым ими испытаниям, вписать свой личный опыт в более широкий исторический контекст. С этой точки зрения противопоставление воспоминаний и пропаганды, по ее мнению, не вполне корректно, поскольку вторая отнюдь не сводилась к полностью искусственным, лживым конструкциям, так же как и первые содержат отнюдь не только «сырую», не искаженную информацию из первых рук. Исходя из этих соображений, а также чтобы избежать терминологической путаницы, автор обозначает термином память собственные воспоминания конкретных людей, а к сюжетам более общего характера, признаваемым частью исторического прошлого на коллективном уровне, применяет слово миф в значении «общий, совместно используемый (shared) нарратив, придающий форму и значение воспоминанию прошлого опыта» (3, с. 7). Термин «миф», по ее мнению, в данном случае предпочтительнее, чем альтернативные ему «идеология» и «коллективная память», поскольку миф, в отличие от идеологии, представляет собой некое повествование с конкретным сюжетом, а понятие коллективной памяти подразумевает способность коллектива что-то помнить, что не вполне корректно, поскольку памятью как таковой обладают лишь индивиды.
Мифы и воспоминания о блокаде, сформировавшиеся не без влияния официальной пропаганды, стали важной частью идентичности ленинградцев. По мнению Киршенбаум, это ставит под сомнение как тоталитарную, так и ревизионистскую модели советского общества. Сама она предпочитает точку зрения С. Коткина, согласно которой идентичность является одним из «механизмов, посредством которых индивиды запутывались в сетях, образованных… более широкой повесткой и языком режима» (цит. по: 3, с. 11). Дальнейшее разочарование в советской идеологии также было скорее последствием этих же мифов, нежели результатом распространения альтернативных, диссидентских идей. «Центральная тема истории блокады, излагаемой в данной книге, – пишет автор, – это роль мифа в конструировании и конечной делигитимизации советской идентичности» (3, с. 11).
Миф о блокаде наложился на довоенный миф о Петербурге – Ленинграде, уходящий своими корнями в интеллектуальную жизнь XIX в. К началу Второй мировой город уже был довольно густо населен «призраками», если использовать метафору, предложенную Б. Лэддом применительно к Берлину, т.е. хорошо известными большинству его жителей историческими и мифологическими ассоциациями, связанными с различными местами и объектами на его территории. Автор использует также свой собственный термин «город памяти», имея в виду воображаемую реальность, которая для жителей города нередко оказывается едва ли не более «настоящей», чем сам город. Драма блокады привела к тому, что вместе с новыми воспоминаниями появились и новые «призраки». Их взаимодействие с более старой питерской мифологией составляет еще одну тему книги.
Традиция увековечивания памяти о крупных исторических событиях, причем не только на уровне памятников, но и на уровне персональных дневников и воспоминаний, к началу войны также успела уже довольно прочно укорениться в советском обществе. Масштабные проекты по сбору таких воспоминаний осуществлялись, в частности, вскоре после революции и в период индустриализации. Поэтому третью тему книги составляют «монументы», которые автор понимает в расширительном смысле, включая в это понятие не только собственно памятники, но и «фильмы, фотоальбомы, юбилейные торжества, архивы, музеи, поэтические сборники и устную историю. Это широкое определение имеет то преимущество, что позволяет поставить вместе простой фотоальбом, сделанный школьниками, пережившими блокаду, и Монумент героическим защитникам Ленинграда с его 48-метровым обелиском. В обоих, разными путями и в разной степени, совмещаются и взаимодействуют личные истории и публичные мифы» (3, с. 17).
Исследование охватывает период с 1941 по 1995 г., т.е. с начала войны до первых лет после распада СССР. Структура книги выстроена по проблемно-хронологическому принципу и включает восемь тематических глав, объединенных в три части. В первой части (три главы) рассматриваются довоенные традиции и первые попытки увековечить память о блокаде, предпринятые непосредственно во время войны. Вторая часть посвящена послевоенной реконструкции Ленинграда, попыткам сталинского руководства предать забвению память о блокаде и возвращению этой памяти в публичную сферу в виде новых монументов и вновь изданных мемуаров в 1960–1970-е годы. Третья часть (две главы) охватывает позднесоветский период вплоть до переименования Ленинграда в Санкт-Петербург. В завершающем книгу эпилоге описывается бытование воспоминаний о блокаде в постсоветской культуре и политической практике. Киршенбаум отмечает, что описанный ею образ блокады Ленинграда, с его сложным взаимодействием государственного и частного, продолжил свое существование и после того, как Советский Союз ушел в небытие. Цель ее исследования заключается, таким образом, в том, чтобы «объяснить, как история героического Ленинграда легитимировала, пережила и в конце концов развенчала советское государство» (3, с. 17).
Миф о Петербурге формировался еще в имперский период. Среди прочего он включал в себя идеи об угрозе тяжелых испытаний (разливы Невы, суровые зимы и т.д.; наводнение 1924 г. частью питерцев воспринималось как своеобразное «наказание» за переименование города в Ленинград) и даже апокалиптические предчувствия (легендарное проклятие-пророчество царицы Евдокии, первой жены Петра I, о том, что «Петербургу пусту быти»), но главное – убежденность в историческом значении этого города, и как следствие – интерес к истории и готовность использовать опыт прошлого. Уже во время войны современники отмечали распространившееся среди ленинградцев увлечение литературой исторического характера (наибольшей популярностью пользовался роман «Война и мир») как попытку найти в прошлом хоть какие-то параллели происходящим событиям. Исторический опыт имел и чисто практическое значение: известны случаи, когда люди в первые месяцы войны пытались целенаправленно запасаться сухарями и другими нескоропортящимися продуктами, а также вещами, пригодными для обмена, памятуя о суровой и голодной зиме 1918– 1919 гг. и опасаясь, что нечто подобное может повториться снова.
Выступление Молотова по радио 22 июня 1941 г. многими ленинградцами, как и их согражданами в других частях СССР, воспринималось как водораздел, поворотный пункт в жизни не только страны в целом, но и их собственной. В то же время масштаб угрозы, нависшей над городом, долгое время не был известен его жителям, несмотря на быстрое продвижение германских войск на северо-восток. О непосредственной угрозе городу газеты сообщили лишь 21 августа. 29 августа прекратилось железнодорожное сообщение с остальной частью Союза, в ночь на 6 сентября город пережил первый массированный авианалет, а 8 сентября немцы вышли к Ладожскому озеру, окончательно замкнув кольцо блокады.
Именно в этот период в официальной пропаганде начал формироваться образ Ленинграда как города-крепости, героически отражающего атаки врага. Автор отмечает, что целью этой пропаганды было не только мобилизовать население для продолжения борьбы, но и скрыть упущения властей, которые не сумели ни организовать своевременную эвакуацию мирных граждан, ни обеспечить город необходимыми запасами продовольствия для длительной осады. Тем не менее уже на данном этапе пропаганда находила своеобразный отклик среди значительной части питерцев, поскольку позволяла вписать судьбу города и свою собственную в более широкий контекст, доказывая тем самым, что жертвы, понесенные Ленинградом и его жителями, не напрасны. Этому способствовало и то, что для патриотической пропаганды времен войны был характерен особенно сильный акцент на широком толковании понятия родины, в которое включалась не только страна в целом, но и родной город, дом, семья.
В конце осени, когда массированные бомбежки и артиллерийские обстрелы прекратились и главной причиной жертв стал голод, тон пропаганды изменился. Прямых разговоров о голоде и связанных с ним преступлениях цензура не допускала, вместо этого основной упор был сделан на необходимости сохранить человеческое достоинство в условиях даже самых тяжелых испытаний. Город теперь изображался как оплот цивилизации в борьбе против нацистских варваров, защищающий не только Советский Союз, но и человечество в целом (аналогичный мотив присутствовал и в западной пропаганде). Этот посыл также оказался востребованным простыми ленинградцами, несмотря даже на то, что их собственный опыт во многом резко контрастировал с тем, как блокада описывалась на радио и в газетах.
Весной 1942 г. доминирующим мотивом в пропаганде стал образ весны как начала новой жизни, освобождения от зимы вообще и от ужасов голодной зимы 1941–1942 гг. в частности. Такое описание ситуации в городе снова оказалось довольно упрощенным; полностью игнорировалось, к примеру, то обстоятельство, что увеличение норм выдачи продовольствия хотя объективно и улучшило положение горожан, но на субъективном уровне переживалось часто довольно тяжело, поскольку даже новые увеличенные нормы оставались недостаточными. Тем не менее наступление весны действительно вселяло надежду, и это также было важно для измученных голодом и морозами ленинградцев.
Подобное осмысление места и роли Ленинграда в войне порождало острое ощущение собственной сопричастности происходящему в мире, личного участия в истории. Это чувство усиливалось и непосредственным опытом жизни в осажденном городе: автор приводит примеры того, как вид полуразрушенных снарядами и бомбами жилых домов с открытыми для постороннего наблюдателя остатками внутренней обстановки создавал впечатление о стирании границы между публичным и частным, а значит, и между личным и историческим. Как следствие, первые попытки увековечить блокадный опыт были предприняты еще во время самой блокады – в дневниках, рисунках, стихах, «Ленинградской симфонии» Шостаковича, наконец, в первых выставках, посвященных героизму защитников Северной столицы. Последние, будучи публичными мероприятиями, тем не менее воплощали не только официальный образ сражающегося города, но и опыт простых граждан: на выставках экспонировались дневники, личные вещи, предметы быта, даже ноябрьский паек 1941 г. для неработающих (125 г хлеба в день). Взаимодействие мифа и памяти, таким образом, снова приняло форму синтеза.
Блокада Ленинграда
(Сводный реферат)
1. Жизнь и смерть в осажденном Ленинграде, 1941–1944.
Life and death in besieged Leningrad, 1941–1944 / Ed. by J. Barber, A. Dzeniskevich. – Basingstoke (Hampshire); N. Y.: Palgrave Macmillan, 2005. – XXVIII, 243 p.: ill.
2. Мэддокс С. Эти памятники должны быть сохранены! Сталинский поворот к прошлому и охрана памятников во время блокады Ленинграда.
Maddox S. These monuments must be protected! The Stalinist turn to the past and historic preservation during the blockade of Leningrad // The Russian review. – Syracuse (N. Y.), 2011. – Vol. 70, N 4. – P. 608–626.
3. Киршенбаум Л.А. Наследие осады Ленинграда, 1941– 1995: Миф, мемуары и монументы.
Kirschenbaum L.A. The legacy of the siege of Leningrad, 1941– 1995: Myth, memoirs, and monuments. – Cambridge etc.: Cambridge univ. press, 2006. – XV, 309 p.: ill.
Блокаде Ленинграда посвящено значительное количество исследований, отечественных и зарубежных. Здесь представлены некоторые наиболее интересные из них.
В сборнике «Жизнь и смерть в осажденном Ленинграде» (1) под редакцией Джона Барбера (Кембридж) и А.Р. Дзенискевича (Санкт-Петербургский институт истории РАН) собраны статьи ряда российских авторов, посвященные медицинской истории блокады. Как отмечают составители в предисловии, тема эта до сих пор относится к числу малоизученных, несмотря на то что голод и лишения, перенесенные ленинградцами, особенно зимой 1941–1942 гг., уже в послевоенные годы привели к многочисленным проблемам со здоровьем у многих из них, а по некоторым данным, отразились и на здоровье их детей. Медицинские последствия голода активно изучались ленинградскими врачами в годы войны и некоторое время после ее окончания, но в дальнейшем эти исследования были свернуты.
Изучение истории голода в блокадном Ленинграде, подчеркивают Барбер и Дзенискевич, важно не только для исторической науки, но и с чисто практической точки зрения, поскольку массовый голод имел место и во второй половине XX в., еще в начале 1990-х годов число голодающих в мире оценивалось в полмиллиарда. Между тем из известных случаев массового голода именно история ленинградской блокады относится к числу наиболее подробно документированных. В постсоветский период исследователи получили доступ к ранее засекреченным архивам; кроме того, в их распоряжении имеется огромный массив воспоминаний о блокаде, сохраняется и возможность личного общения с последними представителями уходящего блокадного поколения. Авторы сборника «сознают, что предмет данной книги слишком обширный и сложный для того, чтобы адекватно отразить его в одном томе, но всё же надеются, по крайней мере, что в нем получит освещение одна из темных областей истории осады Ленинграда, что, в свою очередь, послужит стимулом для других к ее дальнейшему исследованию» (1, с. XI).
Развивая эти мысли во введении, Барбер отмечает, что история голода, как правило, довольно плохо поддается изучению, поскольку голод обычно случается в бедных местностях, с недостаточно развитой администрацией; этим и обусловливается дефицит источников. Так, до тех пор, пока не были рассекречены советские документы, посвященные положению в блокированной Северной столице, наиболее тщательно исследованным считался голод в Голландии в 1944–1945 гг., масштабы которого были, к счастью, несравнимы с ленинградскими. Уровень смертности в блокадном Ленинграде, особенно в первую зиму, был одним из самых высоких в истории, он сопоставим с другими крупнейшими катастрофами такого рода, включая голод в СССР в 1932–1933 и 1946– 1947 гг. Широкая источниковая база по ленинградской блокаде, таким образом, дает историкам редкую возможность детально проанализировать обстоятельства массового голода, реакцию на него властей и населения, стратегии выживания, последствия для здоровья и т.д.
Попытки классифицировать случаи голода в зависимости от их причин предпринимались неоднократно, однако исследовательская практика показывает, что чаще всего природный и человеческий факторы действовали одновременно, усиливая друг друга. Явное исключение составляет голод во время войны, единственной причиной которого являются целенаправленные действия одной из противоборствующих сторон. Страшный парадокс войны состоит в том, что голод как оружие применяется с целью принудить противника к капитуляции, однако поражает в первую очередь не солдат неприятельской армии, которые обычно снабжаются в приоритетном порядке, а гражданское население как наиболее уязвимое. Поскольку случай с Ленинградом относится именно к этой категории, Барбер склоняется к выводу, что в сложившихся обстоятельствах голод был неизбежен. Грамотные и своевременные действия властей по накоплению запасов продовольствия, своевременный переход на нормированное питание и эвакуация большего числа детей и больных до того, как замкнулось кольцо блокады, могли бы уменьшить масштабы катастрофы, но вряд ли этого хватило бы, чтобы полностью предотвратить ее. Зная намерения гитлеровского руководства, пишет он, можно предположить, что и сдача Ленинграда противнику скорее всего не спасла бы его жителей от голода.
Сборник открывает статья Н. Черепениной (Центральный государственный архив Санкт-Петербурга), посвященная демографической ситуации и состоянию здравоохранения в Ленинграде перед войной. Население города на 1 января 1941 г. насчитывало примерно 2 млн 992 тыс. человек. Доля мужчин была несколько снижена, поскольку большое количество мужчин уже были призваны в армию. Крайне высокой (45,8%) была доля лиц, находившихся на иждивении других членов семьи, в том числе детей; с началом блокады это дополнительно усложнит положение в городе. В 1939–1940 гг. уже наблюдалось снижение рождаемости и повышение смертности, включая детскую, – из-за призыва мужчин в армию, холодной зимы, перебоев с поставками топлива и т.д. К 1941 г. положение выправилось, но оставалось весьма неустойчивым. Планы эвакуации, разработанные в начале 1930-х годов, устарели. Система здравоохранения, по оценке автора, «была хорошо подготовлена к войне – но никто не ожидал, что Ленинград на долгое время окажется в осаде, и к этому город подготовлен не был» (1, с. 26).
В следующей своей статье Черепенина рассматривает вопрос о количестве жертв блокады. Источниковая база по данному вопросу по-прежнему остается неполной, эту проблему, вопреки ожиданиям многих ученых, не решило даже рассекречивание архивов. Источниковедческое исследование документов времен войны также еще не проводилось, что дополнительно осложняет ситуацию. По данным автора, смертность в Ленинграде начала расти уже в июле 1941 г., превысив в одном этом месяце показатели за всё первое полугодие, но голод стал ее главной причиной лишь в ноябре, когда в городе умерло свыше 11 тыс. человек. В декабре было зарегистрировано уже почти 54 тыс. смертей. Пик голода пришелся на январь – начало февраля 1942 г.: в январе погибло примерно 127 тыс. человек, в феврале – 123 тыс.; большинство погибших составляли взрослые мужчины. С конца февраля смертность пошла на спад, но оставалась тем не менее довольно высокой вплоть до окончания блокады. Всего в 1942 г. умерло около 520 тыс. человек. Мужчин и женщин в числе погибших было примерно поровну, но доля мужчин в населении города была существенно меньше половины; это означает, что смертность среди них была гораздо выше, чем среди женщин. В том же году еще 800 тыс. человек были эвакуированы; вместе с ранеными красноармейцами и беженцами из других городов, оказавшимися в Ленинграде, число эвакуированных перевалило за 1 млн. На 1 января 1944 г. в городе проживало всего 557 760 человек. В 1944 г. население снова стало расти (в том числе за счет вернувшихся из эвакуации), превысив 1 млн жителей к 1 июля 1945 г.; в этот же период смертность вернулась к довоенному уровню.
Наибольшее число ленинградцев были эвакуированы в Вологодскую и Ярославскую области; их положение описывает в своей статье М.И. Фролов (Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина). Согласно его оценкам, местные власти в целом довольно успешно справились с размещением эвакуированных и обеспечением их необходимой медицинской помощью, несмотря на крайне ограниченные ресурсы обоих регионов. Тем не менее смертность среди эвакуированных была довольно высокой, как в пути, так и по прибытии к новому месту проживания, поскольку многие из них к моменту отъезда из Ленинграда находились уже в крайней степени истощения. Меры, принятые вологодскими и ярославскими властями и медицинским персоналом, позволили лишь уменьшить количество жертв.
Статья А.Р. Дзенискевича посвящена деятельности ленинградских медицинских институтов во время войны. Несмотря на экстремальные условия блокады, ученые-медики проделали огромную работу по организации необходимой помощи раненым солдатам и гражданскому населению Ленинграда, а также по изучению влияния голода на здоровье. Эта работа продолжалась и после снятия блокады, но довольно быстро была свернута – отчасти по политическим причинам, отчасти из-за того, что восстановление нормальной жизни в городе поставило перед учеными новые задачи. Как результат, долгосрочные последствия блокады для здоровья ленинградцев остались по большей части неизученными.
Биологические и психосоматические аспекты жизнедеятельности и выживания в условиях голода рассматриваются в статье С.В. Магаевой (НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН, Москва). Автор сама пережила блокаду, в 1941 г. ей было 10 лет. Она отмечает, что к числу основных причин истощения помимо голода относились также холод и перманентный стресс, связанный с постоянной опасностью для жизни. При этом сохранившиеся материалы, оставленные врачами во время блокады, показывают, что одинаково тяжелые условия переживались разными людьми по-разному и приводили к различным результатам. Сопротивляемость организма определялась несколькими факторами, включая генетически предопределенную устойчивость или уязвимость к недоеданию, психологическую устойчивость и волю к жизни, а также физиологические резервные механизмы, природа которых остается неясной.
В. Чирский (Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург) в своей статье описывает деятельность ленинградских патологоанатомов в период блокады. На первый взгляд, отмечает автор, их работа в условиях осажденного города, умирающего от истощения, может показаться излишней, но в действительности патологоанатомы внесли довольно существенный вклад в изучение особенностей дистрофии и сопутствующих заболеваний. Результаты их наблюдений позволили также скорректировать методы лечения и в конечном счете снизить уровень смертности.
В статье И. Козлова и А. Самсоновой (Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) сравниваются показатели физического развития детей, переживших блокаду Ленинграда, и московских детей, обследовавшихся в 1930-е годы. Тему продолжает статья Л. Хорошининой (Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования) об отложенных последствиях длительного голода для ленинградцев, переживших блокаду в детстве. Статья написана по материалам патологоанатомической экспертизы тел пациентов, умерших в Санкт-Петербургском госпитале для ветеранов войн в 1989–2000 гг.
Завершает сборник статья Б. Белозерова (Санкт-Петербургский университет МВД России), посвященная преступности в блокадном Ленинграде. К наиболее частым видам преступлений относились хищения продовольствия и продовольственных карточек, использование карточек умерших родственников и т.п., но наибольшую опасность представляли вооруженные банды, промышлявшие грабежами, а также убийствами с целью завладеть карточками жертв. Борьба с бандитизмом осложнялась тем, что сотрудники милиции сами находились на грани истощения. Зимой 1941–1942 гг. отмечались случаи людоедства; пик пришелся на февраль 1942 г., когда по обвинению в каннибализме только за первую половину месяца были арестованы 494 человека – больше, чем за весь январь. Всего же с 1 июля 1941 по 1 июля 1943 г. военные суды рассмотрели дела 15 193 человек по обвинению в различных преступлениях, 2093 человека были приговорены к расстрелу. Подавляющее большинство ленинградцев, таким образом, удержались от противоправных действий даже в экстремальных условиях блокады.
* * *
Стивен Мэддокс (Канизийский колледж, Буффало, США) в статье «Эти памятники должны быть сохранены!» (2) описывает усилия ленинградских деятелей культуры по защите городских памятников от разрушения в блокадные месяцы в общем контексте исторической политики сталинского руководства 1930–1940-х годов. Движение в защиту памятников истории и культуры зародилось в России задолго до Второй мировой войны; в Петербурге – Петрограде – Ленинграде его позиции были особенно сильными. С начала 1930-х годов ценность памятников, причем не только связанных с революционными событиями, но и памятников царской эпохи, была признана сталинским руководством, что обеспечило их защитникам необходимую правовую и идеологическую базу. В условиях начавшейся войны с Германией усилия по сохранению исторических ценностей принимались по всей стране, включая как эвакуацию музеев на восток, так и защиту монументов и исторических зданий от повреждения в ходе боевых действий. Ленинград на общем фоне выделяется, с одной стороны, особенно большим количеством памятников, нуждавшихся в защите, с другой стороны – тем, что он не был оккупирован, но при этом на протяжении двух с половиной лет находился в зоне боевых действий. Это дало возможность ленинградским архитекторам, художникам, музейным работникам и др. обеспечить защиту городских памятников в максимальном объеме, но одновременно предопределило беспрецедентный масштаб стоявших перед ними задач, выполнять которые к тому же приходилось в нечеловеческих условиях блокады.
Смена ориентиров в политике памяти преследовала главным образом прагматические цели. Не отказываясь полностью от коммунистической идеологии, сталинское руководство тем не менее попыталось построить своеобразный вариант советского патриотизма, поскольку «пролетарский интернационализм» 1920-х годов в чистом виде представлялся недостаточно надежной основой для массовой мобилизации в случае новой войны, опасность которой резко возросла после захвата Маньчжурии Японией и прихода нацистов к власти в Германии. В рамках этой новой политики произошла «реабилитация» дореволюционного прошлого, его наследие вновь стало рассматриваться как предмет национальной гордости и источник примеров для подражания. Была создана система центральных и местных органов по охране памятников.
Нарастание международной напряженности беспокоило и культурную общественность, помнившую опыт Первой мировой войны. В 1936 г. были разработаны планы эвакуации музейных экспонатов и других «транспортабельных» культурных ценностей из Ленинграда, активно изучалось воздействие современной войны на культурное наследие и меры по его защите, принимавшиеся в Западной Европе (на примере Гражданской войны в Испании и начавшейся Второй мировой). Этот опыт был в дальнейшем использован в годы Отечественной войны.
Первые мероприятия по защите памятников Ленинграда были организованы буквально в первые же дни после германского нападения, в соответствии с решениями Ленсовета от 25 июня. Началась маскировка золотых куполов и шпилей, которые могли послужить ориентирами для немецких летчиков; мраморные и небольшие бронзовые статуи были сняты с пьедесталов, крупные памятники (такие как Медный всадник) обложены мешками с песком и накрыты деревянными коробами. Лица, участвовавшие в этой работе, освобождались от призыва в армию и от мобилизации на строительство укреплений на подступах к городу. Известны случаи, когда к работам по укрытию памятников привлекались солдаты и даже школьники.
С началом блокады эти работы были ускорены, тем более что на Восточном фронте немцы, как уже выяснилось к тому моменту, нередко разрушали исторические памятники сознательно. Принятие необходимых мер, однако, затруднялось погодными условиями, немецкими авианалетами и артобстрелами, нехваткой ресурсов, а начиная с ноября – также физическим истощением людей из-за недоедания. Архитекторы и скульпторы, занимавшиеся охраной памятников, в этих условиях вынуждены были сосредоточить свои усилия почти исключительно на документировании ущерба, минимальном, самом необходимом ремонте, а также на описании и обмерах памятников на случай, если они будут разрушены. Некоторые объекты из-за нехватки сил и средств пришлось оставить вовсе без защиты. Городские власти, в частности, решили не укрывать памятники Суворову, Кутузову и Барклаю де Толли, чтобы использовать их как элемент монументальной пропаганды.
В начале 1942 г., когда заработала Дорога жизни, работы по сохранению памятников были возобновлены. Их цель по-прежнему оставалась двоякой: с точки зрения не только городской администрации, но и самих архитекторов, занимавшихся защитой культурного наследия, сохраняемые памятники представляли ценность не только сами по себе, но и являлись важным инструментом патриотического воспитания. Об этом свидетельствуют такие меры, как сооружение фанерных макетов на месте разрушенных построек, восстановить которые до окончания войны не представлялось возможным. Считалось, что руины исторических зданий будут своим видом подрывать моральный дух горожан.
После прорыва блокады в 1943 г. архитекторы Ленинграда постепенно стали задумываться над перспективами его будущего восстановления. Наиболее активная подготовка к этой работе развернулась осенью, когда были организованы лекции для городских чиновников по архитектуре Северной столицы, а главное – курсы для подготовки профессиональных реставраторов. Восстановлению памятников придавалось настолько большое значение, что обучать студентов было решено непосредственно в Ленинграде, хотя именно осенью 1943 г. он подвергался особенно интенсивным обстрелам и несколько студентов были убиты разрывом снаряда буквально сразу после приезда в город с Большой земли. «Долг перед Ленинградом, – писал уже после войны тогдашний главный архитектор города Н.Ф. Баранов, – убедил нас в справедливости наших действий» (цит. по: 2, с. 625).
* * *
Книга Лизы А. Киршенбаум (Вест-Честерский университет Пенсильвании) посвящена исторической памяти о блокаде Ленинграда (3). Героическое сопротивление города привлекло широкое внимание общественности как в СССР, так и за рубежом еще во время войны, пропагандистский «эпический» образ блокадного Ленинграда тоже начал создаваться еще во время войны; после ее окончания эта работа была продолжена. Параллельно формировался огромный массив источников личного происхождения. Многие блокадники вели дневники, а в послевоенный период, особенно начиная с 1960-х годов, начали издаваться мемуары выживших ленинградцев. В этих материалах фиксировалась альтернативная, неофициальная память о блокаде. Автор отмечает, однако, что взаимодействие между памятью официальной и неофициальной было довольно сложным, официоз также мог опираться на воспоминания блокадников, тогда как официальные концепции проникали и в мемуары, в том числе оставленные авторами, критически относившимися к советскому режиму.
Причины такого взаимовлияния Киршенбаум видит в том, что ссылки на воспоминания блокадников обеспечивали пропаганде бо?льшую убедительность и тем самым являлись одним из средств легитимации правящего режима, тогда как героические образы, создаваемые пропагандой, позволяли самим ленинградцам придать некий смысл пережитым ими испытаниям, вписать свой личный опыт в более широкий исторический контекст. С этой точки зрения противопоставление воспоминаний и пропаганды, по ее мнению, не вполне корректно, поскольку вторая отнюдь не сводилась к полностью искусственным, лживым конструкциям, так же как и первые содержат отнюдь не только «сырую», не искаженную информацию из первых рук. Исходя из этих соображений, а также чтобы избежать терминологической путаницы, автор обозначает термином память собственные воспоминания конкретных людей, а к сюжетам более общего характера, признаваемым частью исторического прошлого на коллективном уровне, применяет слово миф в значении «общий, совместно используемый (shared) нарратив, придающий форму и значение воспоминанию прошлого опыта» (3, с. 7). Термин «миф», по ее мнению, в данном случае предпочтительнее, чем альтернативные ему «идеология» и «коллективная память», поскольку миф, в отличие от идеологии, представляет собой некое повествование с конкретным сюжетом, а понятие коллективной памяти подразумевает способность коллектива что-то помнить, что не вполне корректно, поскольку памятью как таковой обладают лишь индивиды.
Мифы и воспоминания о блокаде, сформировавшиеся не без влияния официальной пропаганды, стали важной частью идентичности ленинградцев. По мнению Киршенбаум, это ставит под сомнение как тоталитарную, так и ревизионистскую модели советского общества. Сама она предпочитает точку зрения С. Коткина, согласно которой идентичность является одним из «механизмов, посредством которых индивиды запутывались в сетях, образованных… более широкой повесткой и языком режима» (цит. по: 3, с. 11). Дальнейшее разочарование в советской идеологии также было скорее последствием этих же мифов, нежели результатом распространения альтернативных, диссидентских идей. «Центральная тема истории блокады, излагаемой в данной книге, – пишет автор, – это роль мифа в конструировании и конечной делигитимизации советской идентичности» (3, с. 11).
Миф о блокаде наложился на довоенный миф о Петербурге – Ленинграде, уходящий своими корнями в интеллектуальную жизнь XIX в. К началу Второй мировой город уже был довольно густо населен «призраками», если использовать метафору, предложенную Б. Лэддом применительно к Берлину, т.е. хорошо известными большинству его жителей историческими и мифологическими ассоциациями, связанными с различными местами и объектами на его территории. Автор использует также свой собственный термин «город памяти», имея в виду воображаемую реальность, которая для жителей города нередко оказывается едва ли не более «настоящей», чем сам город. Драма блокады привела к тому, что вместе с новыми воспоминаниями появились и новые «призраки». Их взаимодействие с более старой питерской мифологией составляет еще одну тему книги.
Традиция увековечивания памяти о крупных исторических событиях, причем не только на уровне памятников, но и на уровне персональных дневников и воспоминаний, к началу войны также успела уже довольно прочно укорениться в советском обществе. Масштабные проекты по сбору таких воспоминаний осуществлялись, в частности, вскоре после революции и в период индустриализации. Поэтому третью тему книги составляют «монументы», которые автор понимает в расширительном смысле, включая в это понятие не только собственно памятники, но и «фильмы, фотоальбомы, юбилейные торжества, архивы, музеи, поэтические сборники и устную историю. Это широкое определение имеет то преимущество, что позволяет поставить вместе простой фотоальбом, сделанный школьниками, пережившими блокаду, и Монумент героическим защитникам Ленинграда с его 48-метровым обелиском. В обоих, разными путями и в разной степени, совмещаются и взаимодействуют личные истории и публичные мифы» (3, с. 17).
Исследование охватывает период с 1941 по 1995 г., т.е. с начала войны до первых лет после распада СССР. Структура книги выстроена по проблемно-хронологическому принципу и включает восемь тематических глав, объединенных в три части. В первой части (три главы) рассматриваются довоенные традиции и первые попытки увековечить память о блокаде, предпринятые непосредственно во время войны. Вторая часть посвящена послевоенной реконструкции Ленинграда, попыткам сталинского руководства предать забвению память о блокаде и возвращению этой памяти в публичную сферу в виде новых монументов и вновь изданных мемуаров в 1960–1970-е годы. Третья часть (две главы) охватывает позднесоветский период вплоть до переименования Ленинграда в Санкт-Петербург. В завершающем книгу эпилоге описывается бытование воспоминаний о блокаде в постсоветской культуре и политической практике. Киршенбаум отмечает, что описанный ею образ блокады Ленинграда, с его сложным взаимодействием государственного и частного, продолжил свое существование и после того, как Советский Союз ушел в небытие. Цель ее исследования заключается, таким образом, в том, чтобы «объяснить, как история героического Ленинграда легитимировала, пережила и в конце концов развенчала советское государство» (3, с. 17).
Миф о Петербурге формировался еще в имперский период. Среди прочего он включал в себя идеи об угрозе тяжелых испытаний (разливы Невы, суровые зимы и т.д.; наводнение 1924 г. частью питерцев воспринималось как своеобразное «наказание» за переименование города в Ленинград) и даже апокалиптические предчувствия (легендарное проклятие-пророчество царицы Евдокии, первой жены Петра I, о том, что «Петербургу пусту быти»), но главное – убежденность в историческом значении этого города, и как следствие – интерес к истории и готовность использовать опыт прошлого. Уже во время войны современники отмечали распространившееся среди ленинградцев увлечение литературой исторического характера (наибольшей популярностью пользовался роман «Война и мир») как попытку найти в прошлом хоть какие-то параллели происходящим событиям. Исторический опыт имел и чисто практическое значение: известны случаи, когда люди в первые месяцы войны пытались целенаправленно запасаться сухарями и другими нескоропортящимися продуктами, а также вещами, пригодными для обмена, памятуя о суровой и голодной зиме 1918– 1919 гг. и опасаясь, что нечто подобное может повториться снова.
Выступление Молотова по радио 22 июня 1941 г. многими ленинградцами, как и их согражданами в других частях СССР, воспринималось как водораздел, поворотный пункт в жизни не только страны в целом, но и их собственной. В то же время масштаб угрозы, нависшей над городом, долгое время не был известен его жителям, несмотря на быстрое продвижение германских войск на северо-восток. О непосредственной угрозе городу газеты сообщили лишь 21 августа. 29 августа прекратилось железнодорожное сообщение с остальной частью Союза, в ночь на 6 сентября город пережил первый массированный авианалет, а 8 сентября немцы вышли к Ладожскому озеру, окончательно замкнув кольцо блокады.
Именно в этот период в официальной пропаганде начал формироваться образ Ленинграда как города-крепости, героически отражающего атаки врага. Автор отмечает, что целью этой пропаганды было не только мобилизовать население для продолжения борьбы, но и скрыть упущения властей, которые не сумели ни организовать своевременную эвакуацию мирных граждан, ни обеспечить город необходимыми запасами продовольствия для длительной осады. Тем не менее уже на данном этапе пропаганда находила своеобразный отклик среди значительной части питерцев, поскольку позволяла вписать судьбу города и свою собственную в более широкий контекст, доказывая тем самым, что жертвы, понесенные Ленинградом и его жителями, не напрасны. Этому способствовало и то, что для патриотической пропаганды времен войны был характерен особенно сильный акцент на широком толковании понятия родины, в которое включалась не только страна в целом, но и родной город, дом, семья.
В конце осени, когда массированные бомбежки и артиллерийские обстрелы прекратились и главной причиной жертв стал голод, тон пропаганды изменился. Прямых разговоров о голоде и связанных с ним преступлениях цензура не допускала, вместо этого основной упор был сделан на необходимости сохранить человеческое достоинство в условиях даже самых тяжелых испытаний. Город теперь изображался как оплот цивилизации в борьбе против нацистских варваров, защищающий не только Советский Союз, но и человечество в целом (аналогичный мотив присутствовал и в западной пропаганде). Этот посыл также оказался востребованным простыми ленинградцами, несмотря даже на то, что их собственный опыт во многом резко контрастировал с тем, как блокада описывалась на радио и в газетах.
Весной 1942 г. доминирующим мотивом в пропаганде стал образ весны как начала новой жизни, освобождения от зимы вообще и от ужасов голодной зимы 1941–1942 гг. в частности. Такое описание ситуации в городе снова оказалось довольно упрощенным; полностью игнорировалось, к примеру, то обстоятельство, что увеличение норм выдачи продовольствия хотя объективно и улучшило положение горожан, но на субъективном уровне переживалось часто довольно тяжело, поскольку даже новые увеличенные нормы оставались недостаточными. Тем не менее наступление весны действительно вселяло надежду, и это также было важно для измученных голодом и морозами ленинградцев.
Подобное осмысление места и роли Ленинграда в войне порождало острое ощущение собственной сопричастности происходящему в мире, личного участия в истории. Это чувство усиливалось и непосредственным опытом жизни в осажденном городе: автор приводит примеры того, как вид полуразрушенных снарядами и бомбами жилых домов с открытыми для постороннего наблюдателя остатками внутренней обстановки создавал впечатление о стирании границы между публичным и частным, а значит, и между личным и историческим. Как следствие, первые попытки увековечить блокадный опыт были предприняты еще во время самой блокады – в дневниках, рисунках, стихах, «Ленинградской симфонии» Шостаковича, наконец, в первых выставках, посвященных героизму защитников Северной столицы. Последние, будучи публичными мероприятиями, тем не менее воплощали не только официальный образ сражающегося города, но и опыт простых граждан: на выставках экспонировались дневники, личные вещи, предметы быта, даже ноябрьский паек 1941 г. для неработающих (125 г хлеба в день). Взаимодействие мифа и памяти, таким образом, снова приняло форму синтеза.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: