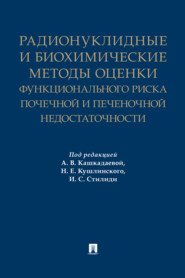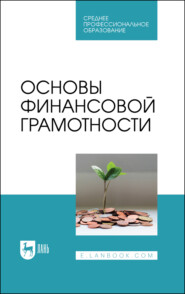По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Миры внутри нас. Сборник участников конвента «РосКон» (Международная литературная премия имени Александра Грина). Часть 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И, схватив клювом шишку, бросила в ненавистного злодея.
Ой, что тут началось! Звери словно сошли с ума. Белки швыряли в мальчика шишками, ёжики – яблоками, птицы – землёй и ветками, кошки злобно мяукали, собаки лаяли и рычали, змеи шипели, а сорока носилась вертолётом и довольно выкрикивала:
– Так ему, так ему, пусть получает.
– З-з-з, что тут происходит? – раздалось звонкое жужжание, и разом наступила тишина. Над животными застыл пчелиный рой во главе с красавицей пчелой. Это была их королева. Её подданные легко и быстро помахивали прозрачными крылышками.
– Что вы делаете? – строго спросила пчелиная королева.
– Это злой мальчишка, он упал в яму, и мы его наказываем за все его мерзкие дела, поделом ему, – выпалила скороговоркой сорока, – пусть почувствует, как нам было больно.
Царица пчёл посмотрела в яму, где, сжавшись в клубок, плакал мальчик.
– Как вам не стыдно? – прожужжала пчела.
– А почему нам должно быть стыдно? – наперебой закричали звери. – Этот гадкий злодей вытворял с нами ужасные вещи, пусть на своей шкуре почувствует боль.
– А вы решили стать такими же, как он, злодеями? – полюбопытствовала королева.
– Нет, мы не хотим быть злодеями.
– Тогда почему вы поступаете так же, как и он?
Ответом была тишина.
– Помогите ему выбраться, – приказала пчела.
Звери позвали бобров. Конечно, кого ещё звать на помощь в таких случаях? У бобров такие острые, крепкие зубы, что они легко перегрызают деревья, какими бы толстыми те ни были, и строят на реках надёжные плотины. Бобры-строители мигом свалили дерево и опустили один край в яму. Пострадавший выбрался на поверхность.
– Спасибо, – поклонился мальчик всем животным, – и простите меня, пожалуйста, за то, что я причинил вам столько зла. С этого дня даю слово, что никогда-никогда не стану прежним. Никто не будет мной обижен.
Звери и птицы не верили своим ушам.
– Мне очень стыдно за прошлые поступки, – продолжал говорить их злейший враг, – ведь я даже не понимал, какую боль и какой страх вы чувствовали. Я это понял лишь тогда, когда со мной обошлись так же. Я признаю, что заслужил то, что со мной случилось. А ещё я пришёл просить вас о помощи.
И мальчик рассказал всем о том, что случилось, – о нашествии крыс.
Звери наперебой загалдели, птицы зачирикали, а больше всех шумела сорока.
– Крыс-с-сы, какой уж-ж-жас-с-с. Спасайтесь кто мож-ж-жет, – и первая собралась улетать.
– Тихо всем! – гавкнул огромный бездомный пёс. – Мы должны вернуться. Не позволим крысам хозяйничать в нашем доме.
– Да-да, – зашипели ужи, – не позволим.
– Не позволим, – подхватили все звери и птицы.
И они вернулись домой. Крысы, увидев кошек, собак, ужей, в страхе разбежались, и вскоре их никто не видел. Добрый мальчик сдержал слово. Никогда в жизни он больше не обидел ни одно живое существо и не позволял другим делать это. На деревьях возле дома доброго мальчика висели кормушки для птиц. У дверей стояла миска, полная еды, для кошек и собак. В саду лежали яблоки и орехи для белок и ёжиков.
Рогатки были сломаны, а сердце – исправлено.
Алиса Гарбич
Признаётся, что, до того как ИСП заметил его, он зарабатывал публикациями в Интернете. Писать начал, попав под влияние Кэрролла и его «Алисы…». Не говорит о себе много, так как считает себя недостаточно примечательной личностью. Упоминает лишь о клинической нелюбви к спорту, предрасположенности к вредным привычкам и полном осознании собственной никчёмности, и, несмотря на всё вышеперечисленное, всегда старается оставаться самим собой и никому не пытается угождать. Любимый поэт – Заболоцкий, любимая книга – «Алиса в Стране чудес», любимая группа – Alice in Chains.
Я и она
Пульсирующие светом маршмеллоу снова видны мне через шёлковую щель, источающую фиолетово-грозовое сияние. Они предстают предо мной плывущей горстью бесформенных сердец. Шов, рассёкший стену надвое, – единственный источник, передающий признаки жизни с внешней стороны этого… Дома? Ящика? Шкафа? Из всех кубов, в которые способен поместиться человек, моё пристанище похоже на сейф или холодильник: беззеркальный, обесточенный участок материи, пропитавшийся кислотной ржавчиной и прокисшим кефиром.
Я живу во мраке отзвуков сознания. Серые, лишённые штрихов и деталей образы убеждают в зыбком правдоподобии собственной реальности, которую не развидеть. Я не сформировал представления о своём теле, иногда бездумно ощупываю себя, пытаясь запомнить любую деталь, преобразовать ощущение в подобие воспоминания. Скреплённое бурлящими наростами, воняющее старым ковром, истощённое и немощное. Оно липкое, пористое: пальцы пухлые, как свечи, вязнут в нём. Я лишён права следить за временем, но у меня есть возможность ждать, что однажды, неощутимо для меня, кто-то извне оборвёт мою жизнь. А если это уже произошло, то на что мне надеяться?
Спустившись в подвал, ноги ступили на дощатый пол, покрытый ошмётками лиловой серы. Щели между хлипкими досками заполнены сплющенными тараканами и иссохшими мушиными стёклышками, что стёрлись в перхоть. Два равноудалённых друг от друга тубуса из алого стекла подпирали собой вздувшийся жабьим брюхом потолок. Из их изломов туго тёк раскалённый синий пластик. Драпируя собой пол – слой за слоем, образуя поверхность настолько скользкую и горячую, что она казалась расползающимся фундаментом. Вверх, по спирали холодных ступеней. Затем – коридор с его упирающимися в бока стенами из окоченевшего камня и льющегося стеной обжигающего воска, капающего с тающих сталагмитов. В конце узкой и сырой тьмы была нора под аркой из двух злобно ухмыляющихся жёлтых горгулий с красными рубинами в глазницах – от них веяло слякотью и влажной почвой. Из самой норы слышался запах жжёного сахара вперемешку с вонью сточной рыбы. Её отделанная матовым бархатом утроба источала колючий холод. Через пятьсот футов свободного падения я с хрустом расквасил нос, шлёпнувшись о мертвенно-белый мрамор. Мне с трудом удалось встать, слегка покачиваясь, я пытался разглядеть в асимметричной бронзово-серой кляксе очертания лица, но отражалось месиво, не имеющее формы, – симбиоз табачного дыма и вагинальных выделений.
То, что я увидел, повернув голову, заставило ноги закостенеть, а руки, согнутые в локтях, съёжиться от судороги. Глаза разъедал жар, они скукожились, как фольга в костре. Лицо пронзил зуд. Багровые дорожки, оставленные на щеках, никогда не потускнеют.
Окружавшая её земля топорщилась болезненно – зелёными комьями. Четыре перекошенные ножки обвиты скользкой сияющей гадостью. В этой хлорированной белой комнате без запаха теперь стоял болотный смрад. Она выглядела как сгнивший пень в сердцевине ледяного куба. Мною было утрачено ощущение воздуха, бьющего в затылок из отверстия, через которое я попал сюда. Всё заполонили духота и нарастающий аромат погостного гноя.
Сток
– Стало гораздо хуже… – Фёдор поднял глаза к бледно-жёлтой лампе, царапая ногтем поверхность кушетки.
– Они стали агрессивнее? – Эдгар сместился на край табурета.
– Нет, но… – дыхание участилось, запястья упёрлись в стальные балки, – они стали громче.
– Покажи мне их ещё раз, – он уткнул наконечник ручки в угол пожелтевшего листа.
Фёдор забормотал:
– Я окружён ими, нет ничего, только они… садятся мне на голову… чёрные изогнутые, покрытые мехом крылья, хлопают по ушам. Твари залезают мне в рот, пьют кровь из языка. Проглатываю их одну за другой, жёсткие волоски шерсти липнут к стенкам гортани… Писк… этот писк как скрежет когтя по стеклу.
Эдгар кивнул и начал запись:
Пометка 132. Фёдор Стасовски, попавший в лечебницу год назад, по-прежнему одержим кошмарами о монструозных сущностях. Он описывает их как нечто схожее с летучими мышами. Однако Стасовски неспособен идентифицировать существ из видений. У пациента наблюдаются периодические скачки артериального давления, в промежутках между тремя и пятью часами утра. Два дня назад у Фёдора была выявлена аритмия (19 сентября 2009 года).
Менгеле окинул глазами запись и перевёл взгляд на Фёдора: он, успокоившись, ровно дышал, красный покров сошёл с лица, пот, стекающий по щеке, отражал свет прерывисто жужжащей лампы. Казалось, парень задремал.
«Он не должен был родиться человеком, кем угодно, но не человеком», – подумал Эдгар, разглядывая налитые гноем прыщи на лице девятнадцатилетнего Фёдора Стасовски. Электронные часы на подоконнике показывали четыре нуля. Эдгар достал блокнот из кармана, провёл пальцем по стальной спирали и принялся выводить буквы:
Пометка 133. Уже три часа я наблюдаю за ним. Тело Фёдора будто потеряло способность принимать импульсы, исходящие от мозга. Подобное уже случалось раньше, но обычно продолжительность «анабиоза» составляла от 5 до 20 минут. Я вынужден использовать термин «анабиоз» за неимением более точного описания данного состояния (20 сентября 2009 года).
Эдгар просунул ручку в кольца и спрятал блокнот, который он иногда называл «пэкпот», в карман вельветовых брюк. Встал, подошёл к выключателю около двери, щелчок – и в центре комнаты образовалось пятно света. Он несколько секунд стоял, не убирая руки от стены, повернув голову в сторону окна. Эдгар Менгеле всем нутром ощущал, что покрытый бельмом Божий глаз наблюдает за ним. Врач «оттаял» и вернулся на табурет. Он вновь погрузился в ту часть сознания, куда не пускал никого, кроме себя.
«Что, если он просто умер? – представилось ему вдруг. – Единственный пациент в практике, благодаря которому мои статьи о деперсонализации стали издаваться в твёрдом переплёте. Тысяча и одна причина ухаживать за мозгом – кажется, так он называется? Человек, привлёкший к этому гадюшнику, именующему себя «Сток», внимание всей Челябинской и столичной прессы, просто умер после очередного приступа. Наедине с недоучкой, которого тут же уволят, если о смерти Стасовски узнают газетчики». В какой-то момент Эдгар поймал себя на мысли, что слишком углубился в анализ жизни после смерти Фёдора и не заметил, как второй из четырёх нулей стал тройкой, а челюсть всё ещё обездвиженного юноши отвисла.
– Зеркало, – доктор второй раз за шесть часов встал с табуретки, шагнул в сторону комода. Достал круглое зеркальце из второго ящика, обошёл кушетку. Поднёс его ко рту Фёдора и замер. Об этом способе он узнал десять лет назад. Вечером, после изматывающей работы в огороде, его бабушка часто смотрела передачи о народной медицине, высказывая своё мнение о современных методах лечения: «Они только и тратят деньги, что на жужжалки да плацебо», – бурчала она. К двенадцати годам Эдгар смирился с бабушкиной паранойей. Мать часто отправляла его в деревню, говоря из раза в раз: «У меня выезд, и я не могу оставить тебя одного на три дня, солнышко». Она была репортёром. Но каждый раз, возвращаясь домой, Эдгар обнаруживал свежую сперму на своей простыне или съёжившиеся презервативы на дне ванны. Он никогда не спрашивал её об этом – знал, что соврёт.
Помутнение в центре зеркальца говорило, что Фёдор жив. Эдгар глянул на часы: 3:05 – и открыл дверь. Цементно-серая луна, подобно уличному прожектору, развеяла тьму в коридоре. Менгеле стоял в дверном проёме, всматриваясь вглубь прохода, куда не мог добраться «фонарь». Огромная перекошенная тень, которую он откидывал на стену, напомнила ему Человека в чёрном костюме из рассказа Кинга. Быть может, это Фёдор чувствует – тьму, в конце которой ждёт что-то бесформенное, что-то ощущаемое, но не осязаемое. Глубинный страх, самое чистое из всех его воплощений.