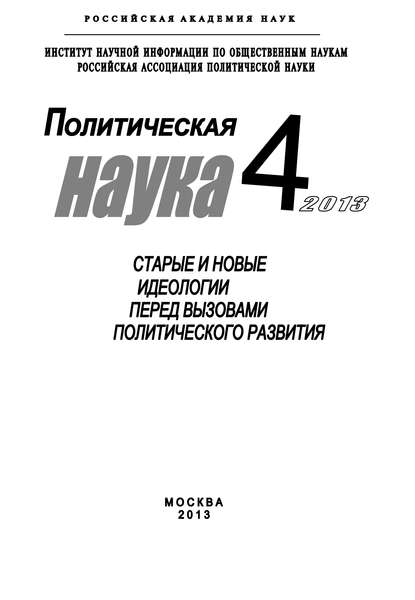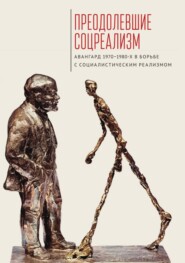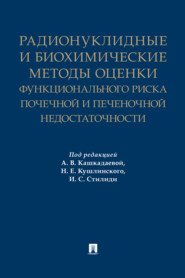По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Политическая наука №4 / 2013. Старые и новые идеологии перед вызовами политического развития
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
При этом следует учитывать, что смысл, о котором идет речь в хабермасовской критике, гетерономен (в отличие от автономии смысла в герменевтике Х. Арендт и Х.-Г. Гадамера), так как он заключен не в явном содержании той или иной политической идеи, и даже не в исходной интенциональной целостности, а скорее в трансформации этой интенциональности в явное содержание. Критика и есть внутренняя способность, поиск деформаций коммуникации в политическом пространстве. Идеологии как коллективные иллюзии коренятся в глубинных желаниях, которые не могут зафиксировать свой объект в реальности. Они обладают общественной значимостью и используют свой «публичный» язык. Они занимают особое место в ряду символических продуктов, являя собой резервуар архивированного смысла для всего общества.
Для Хабермаса критика идеологии – это наука в самом широком смысле, хотя и не претендующая на чистоту знания. Специфика этой науки в том, что она сочетает практический смысл своей деятельности (освобождение от иллюзий) с работой рефлексии. Это позволяет ему выделить критику в качестве самостоятельной модели развития научного знания наряду со знанием эмпирико-аналитическим (точные эмпирические науки) и знанием историко-герменевтическим, основанным на понимании смысла [Хабермас, 2007]. Каждая из этих моделей знания определенным образом связана с политикой и политическим, в рамках каждой из них политическая наука имеет особый смысл. В первом случае она будет идентифицироваться с политологией, как мы ее обычно понимаем, которая наблюдает и измеряет, использует статистические методы, работает с конкретными фактами, скажем, электорального поведения или развития политико-административных практик, и т.д. В этом отношении политическая наука «сциентична» в самом широком смысле, и этот аспект ее существования вполне оправдан. Во втором случае наряду с наблюдением за фактами мы имеем дело с пониманием их смысла, выраженного в «идеях». Здесь политическая наука предстает также и как герменевтика, ищущая связи с традицией, историей, духом эпохи или с культурой, направленная на изучение институтов в самом широком смысле этого слова (религия, право, и т.д.). Мир смысла раскрывается в данном случае интерпретатору лишь в той мере, в какой одновременно проясняется и его собственный внутренний мир. Политическая наука в таком понимании герменевтична, но она все равно остается наукой, сохраняющей типичные для науки формы отношения познания к реальности. Она имеет дело с «практическим познавательным интересом» в отличие от чисто технического интереса в случае первой модели. Наконец, науки о деятельности, или праксеологические науки, являются критическими в той мере, в какой не удовлетворяются открытием инвариантов и стремятся выяснить, действительно ли эти инварианты «естественны» или они скрывают застывшие отношения господства.
С точки зрения критики господство – это, прежде всего, объективная видимость, отчуждение, «ложное сознание» и иллюзия. Символизм политического института понимается здесь как язык, подразумевающий нечто иное, нежели то, о чем говорится. Установление факта такого несоответствия – первый шаг критики, которая видит свою задачу в реконструкции «оригинального текста» и выявлении его символического содержания. В ходе анализа следует выяснить, почему произошло то или иное смещение в языке и как можно объяснить разрыв между явным содержанием и изначальным замыслом, лежащим в основании того или иного явления. Для решения этой задачи Хабермас использует психоанализ и фрейдовскую модель компромисса между желанием и цензурой (т.е. подавлением желания). На уровне общества, полагает он, этой модели соответствует идеология, представляющая на символическом уровне компромисс между изначальными намерениями и стремлениями и понуждающим «принципом реальности». Идеологии – это политические иллюзии, облегчающие легитимацию господства. Они коренятся в глубинных чаяниях людей, которые не могут зафиксировать свой объект в реальности. На индивидуальном уровне ту же функцию выполняют сновидения. Публичный язык идеологий – это своего рода резервуар архивированных смыслов, который служит материалом для создания социальных и политических институтов. Тот или иной институт должен предстать как внешняя власть, в самой себе содержащая свою ценность и истинность. Это и есть отчуждение. Тем не менее идеологические иллюзии могут приносить пользу – они заставляют нас забыть о происхождении того или иного института и представить его существование в независимой и автономной форме.
Однако этот факт влечет за собой проблему политического свойства: коль скоро иллюзия в обществе функциональна, можно ли разоблачить ее и уничтожить с помощью критики без риска катастрофических последствий? Чрезвычайно важно, чтобы критика сознавала свою политическую ответственность.
Однако раскрытием смысла идеологических представлений задача критики не исчерпывается: глубина анализа должна уступить место строгости обоснования. Ведь до тех пор, пока критика относится к политическому как критика идеологии, она остается всего лишь анализом господства. Здесь рефлексия о природе политической связи остается еще по эту сторону от своего предмета, и анализ господства сфокусирован лишь на деформации интерсубъективных связей. И хотя в «герменевтике традиций» Гадамера (а также в феноменологической концепции Х. Арендт [см.: Arendt, 1993], в левых воззрениях К. Лефора [см.: Лефор, 2000], К. Касториадиса [см.: Касториадис, 2003]) политическое не смешивается с господством, его понимание (совершенно разное у разных авторов: политическая связь как консенсус у Арендт или как разделение у Лефора) не способно возвыситься от исследования оснований и истоков дискурса до обоснования претензий этого дискурса на истину. Ибо каким образом можно подвергать критике искаженные коммуникации, если у нас нет понимания того, каковы должны быть истинные и правильные коммуникативные отношения? Реконструкция такой идеальной модели коммуникативной деятельности – дело «трансцендентальной герменевтики» (К.-О. Апель) [cм., в частности: Apel, 1973; Apel, 1991, p. 37–55] или же «универсальной прагматики» (Ю. Хабермас). Для Хабермаса герменевтические рассуждения Гадамера о традиции и истории остаются на уровне фактичности: авторитет традиции, по его мнению, не является легитимным, он – всего лишь результат «незаконного гипостазирования», преувеличения роли традиции у Гадамера. Для того чтобы признать абсолютный авторитет традиции, полагает Хабермас, мы уже должны быть убеждены в легитимности самого этого признания. А для этого – допустить, что предрассудки, без которых признание невозможно, свободны от принуждения и насилия. «Догматическое признание традиции, т.е. принятие претензий этой традиции на истину, по правде говоря, может совпадать с самим признанием, только если в традиции обеспечено отсутствие принуждения… Аргументы Гадамера предполагают, что легитимирующее признание и авторитет, лежащие в основе согласия, осуществляются ненасильственным способом» [Habermas, 1971, S. 156]. Иными словами, для Хабермаса признание за неким институтом долгой истории его существования еще не означает его легитимации. Признание его легитимности есть рационализация, т.е. объяснение, стремление сделать прозрачными те «предрассудки», на которых этот институт основан и которые принадлежат истории. Невозможно признать власть на уровне истины без создания утопии ситуации свободной коммуникации, и, конечно же, эта идеальная ситуация может быть создана как противопоставление ситуации реальной. В этом философ усматривает недостаточность герменевтической позиции, порождающей разрыв между сущим и должным, фактом и правом за счет преувеличенного внимания к фактичности, позитивности и в ущерб обоснованности.
В ранней работе «Познание и интерес» (1968) [Habermas, 1968] Хабермаса интересует не то, принадлежит ли этому миру истина и справедливость. Ему важно понять, что любое из наших обычных ежедневных суждений невозможно без связи – пусть неявной – с универсальной нормой истины рационального дискурса. Эта идея истины связана с самим значением нашей практики и ее (практики) обоснованием. Таким образом, эта универсальная прагматика стремится обосновать условия возможности взаимопонимания в социальном и политическом пространстве с учетом различных форм обоснованности суждений (пропозициональные истины, нормативная правда, экспрессивное правдоподобие, согласованность символических структур и т.д.). В контексте современного демократического общества эти различные формы смысла и разные формальные критерии рациональности языковых и ментальных действий соответствуют не только различным автономным областям «разума», но и их воплощению в том, что Вебер называл социально институированными ценностями. Для Хабермаса право, т.е. то, что имеет безусловную претензию на значимость, есть обоснованное признание. И эта обоснованность возможна только через рациональную дискуссию и аргументацию. При этом он полагает, что должны быть заданы не определения истины (адекватность, связность и т.п.), но только общие условия рационального согласования вообще, в которых всякая истина может быть конституирована в принципе. Апель, а вслед за ним и Хабермас в «Герменевтике и идеологической критике» утверждают, что наша практическая цель – «жить в соответствии с истиной» – неотделима от интерсубъективной структуры диалога, это структура свободной жизни сообща в рамках свободной коммуникации [Habermas, 1971].
Очевидно, что обе версии анализа идей в публичном пространстве совершенно непримиримы, ибо исходят из разных политических онтологий. Для герменевтики, вырастающей из хайдеггеровской онтологии с ее неприятием онтологических и эпистемологических схем Модерна, неприемлемы принципы критики как саморефлексии, поскольку «понятие самопонимания здесь предполагает, что от всех догматических предубеждений можно освободиться благодаря внутреннему самопродуцированию разума, а итогом такого самоконструирования трансцендентального субъекта становится его тотальная прозрачность для себя самого» [Гадамер, 2007, с. 47]. И это не столько протест против Модерна как такового – это протест против превращения разума в единственный легитимный источник истины, но одновременно и против превращения традиции в совокупность верований, которые в их обманчивой «спонтанности» должны быть подвергнуты критике, равно как и сциентистский подход к традиции как к «объекту». В контексте герменевтики отношения между субъектом и объектом всегда опосредованы цепочкой предшествующих интерпретаций, вследствие чего объект, конституируемый сквозь призму этих интерпретаций, является символическим. Но именно эти моменты и считаются критической философией главным препятствием для познания: онтологизация герменевтики, т.е. утверждение понимания, консенсуса, который нам предшествует в качестве некоего конституирующего явления, данного в бытии. Хабермас усматривает в этом онтологическое гипостазирование редкого опыта – опыта предпонимания в диалоге в публичном пространстве. Такого рода опыт действительно представляет огромную ценность, но его нельзя превращать в модель, в парадигму коммуникативного действия. И запрещает подобную операцию как раз феномен идеологии. Идеология – не просто не-понимание или препятствие к пониманию (в этом случае она бы с легкостью подлежала процессам критики и реинтеграции в общий политический дискурс). Мишенью критики является как раз то, что герменевтика традиций считает источником понимания, – консенсус. Саморефлексия же, определяемая «эмансипаторским познавательным интересом», не может быть основана на предшествующем ей консенсусе; ведь «до» (до критики, до саморефлексии, до идеологии) существует как раз не консенсус, а разрывы в коммуникации, порождающие идеологию. Прошлое несет в себе не только и не столько конвергенцию традиций, сколько ложное сознание, которое преодолевается с помощью критики.
* * *
Таким образом, суть расхождений между двумя направлениями исследования идеологий сводится к возможностям и границам герменевтики. Для герменевтической традиции, берущей начало от философии Гадамера, понимание и интерпретация представляют собой особый метод познания политической реальности и, в особенности, ее духовных продуктов, который может претендовать на значимость, т.е. объективность и истину, столь же сильную, как и истина, и объективность естественных наук. Просто природа этой истины иная, нежели в естествознании, и опирается она на иные основания. Соответственно степень компетентности исследователя политического духовного пространства определяется не столько и не только степенью овладения им общим рационалистическим методологическим аппаратом, сколько его практической, коммуникативной компетентностью. Хабермас же, восприняв идею методологического плюрализма, плюрализма форм объективности и истины (и, следовательно, типов рациональности), тем не менее оспаривал универсальность герменевтики, т.е. ее способность понимать и интерпретировать всю совокупность символических образований, конституирующих человеческое поведение в политическом поле. По его мнению, в некоторых случаях понимание требует каузального объяснения, аналогичного естественнонаучной методологии. Тем не менее политическая наука не может довольствоваться одной лишь естественно-научной методологией, не соответствующей ее объекту, конституирование которого обязательно носит символический характер и связано с языком. И если политическая наука действует подобно естествознанию (например, бихевиоральная политология), то она способна разрушить особую структуру своего объекта и, следовательно, привести к ошибочному знанию[7 - Гипостазирование идеологии как «ложного сознания» может привести к отрицанию ее роли в обществе. Именно такая логика отчетливо прочитывается в исследовании А.А. Кара-Мурзы – в целом очень глубоком и интересном, – посвященном становлению российской тотальной идеологии [см., например: Кара-Мурза, 2013].]. Такая наука не может инкорпорировать в сферу своей деятельности фундаментальный факт интерсубъективности, вырастающей из языка и предполагаемой любым социальным отношением и любым человеческим сообществом (например, в арендтовском понимании здравого смысла и чувства принадлежности к одному политическому пространству).
Полемика двух традиций в познании идей и идеологических продуктов, не способная, разумеется, выявить абсолютную истину в этом споре, позволяет тем не менее выделить наиболее сильные положения, работающие сегодня на уровне дискурсивных практик. В последние десятилетия известно немало попыток примирения обеих тенденций. Однако, как представляется, для сферы объяснения политических идей особое значение имеет вариант синтеза критики идеологий и герменевтики традиций, но на базе герменевтики. Попытку такого синтеза предпринял Поль Рикер [см.: RicCur, 1963; 1997].
Этот вариант позволяет герменевтике воспринять живой нерв критической теории, исходя из собственных предпосылок, и попытаться преодолеть разрушительную для философского познания дихотомию объяснения и понимания. Современные семиотические модели убеждают нас в том, что объяснение не обязательно опирается на каузальные или натуралистические схемы (как это имеет место в естественно-научном знании). Дискурс соотносится с праксисом, благодаря чему он всякий раз может быть прочитан и интерпретирован в новых экзистенциальных условиях. Но в отличие от простого дискурсивного общения на обыденном уровне, в спонтанной разговорной форме, дискурс, связанный с продуцированием идейных форм в политическом пространстве, разворачивается в структурах, требующих описания и объяснения (ибо они связаны с процессами легитимации), опосредующих «понимание». И собственно герменевтичесий момент здесь состоит в открытости идеи или теории к миру. Ее смысл представляет собой не скрытую интенцию, которую мы всякий раз стараемся отыскать в анализируемой или изучаемой нами символической конструкции, но сам способ ее разворачивания, – тот способ, которым нам открываются (но не задаются!) те или иные измерения реальности. И именно этот способ открытия и постижения смысла и возвращает нам возможности критического подхода.
Как нам представляется, такой подход к изучению идей и теорий в публичном пространстве современной России, сочетающий в себе аспекты критической теории и герменевтики традиций, наиболее продуктивен сегодня, когда мы нуждаемся, с одной стороны, в тщательном и бережном выявлении и восстановлении наших традиций, а с другой – в пересмотре целого ряда идей, утративших свою экспликативную силу и лишь углубляющих разрыв между политическим и социальным миром и миром символических конструктов.
Литература
Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики / Пер. с нем., общ. ред. и вступ. ст. Б.Н. Бессонова. – М.: Прогресс, 1988. – 704 с.
Гадамер Х.-Г. Марбургская теология // Гадамер Х.-Г. Пути Хайдеггера: исследования позднего творчества / Пер. с нем. А.В. Лаврухина. – Минск: Пропилеи, 2007. – С. 38–54.
Гизо Ф. О средствах правления и оппозиции в современной Франции // Классический французский либерализм / Пер. с фр. М.М. Федоровой. – М.: РОССПЭН, 2000. – С. 263–501.
Идейно-символическое пространство постсоветской России: динамика, институциональная среда, акторы / Под. ред. О.Ю. Малиновой. – М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН); РОССПЭН, 2011. – 285 с.
Кара-Мурза А.А. Как мысли превращаются в доктрины // Вестник аналитики. – М., 2013. – № 2 (52). – С. 147–156.
Касториадис К. Воображаемое установление общества / Пер. с фр. Г. Волкова. – М.: Гнозис Логос, 2003. – 480 с.
Лефор К. Политические очерки (XIX–XX века) / Пер. с фр. Е.А. Самарской.– М.: РОССПЭН, 2000. – 368 с.
Малинова О.Ю. Введение // Идейно-символическое пространство постсоветской России: динамика, институциональная среда, акторы / Под. ред. О.Ю. Малиновой. – М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН); РОССПЭН, 2011. – С. 5–20.
Хабермас Ю. Познание и интерес // Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология» / Пер. с нем. М.Л. Хорькова. – М.: Праксис, 2007. – С. 167–191.
Apel K.O. Le probleme de l’еvidence phеnomеnologique а la lumi?re d’une sеmiotique transcendentale // Critique de la raison phеnomеnologique: La transformation pragmatique. – Paris: Editions du Serf, 1991. – P. 37–55.
Apel K.O. Transformation der Philosophie. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1973. – Bd. 1: Sprachanalytik, Semiotik, Hermeneutik. – 378 S.
Arendt H. Between past and future. – N.Y.: Penguin Books, 1993. – 306 p.
Habermas J. Der Universalit?tsanspruch der Hermeneutik // Hermeneutik und Ideologiekritik / Mit Beitr?gen von K.-O. Apel, C. von Bormann, R. Bubner, H.-G. Gadamer, H.J. Giesel, J. Habermas. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1971. – S. 120–159.
Habermas J. Erkenntnis und Interesse. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1968. – 364 S. RicCur P. Hermеneutique et critique des ideologies // Hermеneutique et tradition: Actes du colloque international, Rome, 1963. – Rome-Paris, 1963. – P. 25–61.
RicCur P. L’Idеologie et l’Utopie. – Paris: Еd. du Seuil, 1997. – 410 p.
Touraine A. Penser autrement. – Paris: Fayard, 2007. – 323 p.
Мыслить политически и мыслить идеологически
М. Фриден
Реф. статьи: Freeden M. Thinking politically and thinking ideologically // Journal of political ideologies. – Oxford, 2008. – Vol. 13, N 1. – P. 1–10
Статья профессора Оксфордского университета, главного редактора «Журнала политических идеологий» Майкла Фридена посвящена вопросу о соотношении политического и идеологического мышления. Под политическим мышлением автор понимает совокупность мыслительных практик (thought-practices), связанных с коллективными проблемами, которые отличаются от других способов рассуждения о том же предмете – например, от экономического или исторического. Понятие идеологическое мышление связано с моделями (patterns) убеждений, которых люди придерживаются, рассуждая о важных общественных проблемах, – таких, как демократия, бедность, война, соотношение частного и публичного, электоральный выбор т.п. Идеологическое мышление также отражает борьбу за значения слов, исход которой облегчает выражение одних смыслов и затрудняет формулирование других.
Идеологии – это структуры, в которых фундаментальную роль играет темпоральная составляющая. Большинство из них описывают образ будущего устройства общества (хотя некоторые, например классический марксизм, настолько в нем уверены, что сосредоточены главным образом на устранении препятствий на пути к будущему). Стремясь мобилизовать поддержку, идеологии взывают к обязательствам по отношению к группе, национальным чувствам, солидарности, справедливости и т.п. Они направляют коллективное мышление с помощью убеждения и возбуждения эмоций. Сплачивающие эффекты идеологий связаны с предлагаемыми ими рецептами политической стабильности. Многие из них поддерживают представление о политике как главном поставщике желаемых социальных благ. Идеологии ранжируют приоритеты и обосновывают порядок распределения материальных и символических ресурсов – или доказывают необходимость отмены существующего порядка. Наконец, существенным элементом идеологий является власть – вне зависимости от того, видится ли она как благо или зло, как созидательный ресурс или как инструмент угнетения.
На первый взгляд, у идеологии и политики много общего. Политическое мышление также нацелено на решение коллективных проблем. Язык политики пропитан понятиями, предполагающими «окончательность»: суверенитет, резолюции, авторитет, обязанности, неотчуждаемые права, гегемония, легитимность. Относительность и неопределенность значений этих слов не всегда очевидны для тех, кто их произносит. Политический язык воплощает фундаментальную структурную особенность идеологий – претензию на неопровержимость, прекращающую все споры (the conclusiveness of decontestation). Стремление «исчерпать» предмет спора (decontestation) – это попытка контролировать неоднозначные и текучие смыслы, закрепляя одни и блокируя другие. Культурная и психологическая потребность в обретении определенности в сложном и неоднозначном мире резонирует с требованием ясных решений, которое мир политики предъявляет лидерам. Все идеологии движимы этой потребностью: они конструируют политические планы, постулируют моральные или утилитарные границы и призывают к обретению стабильности – через поддержку нынешних практик или их замену новыми. Политика тяготеет к точкам покоя, даже если она не способна поддерживать социальную стабильность. Из состояния покоя ее приходится вырывать – иногда мягко, иногда насильственно.
И идеологию и политику критикуют за стремление утаивать истину. И это вполне объяснимо: ведь в политике искусственную «окончательность» устанавливают акторы, которые вполне сознают несовершенство своего решения и доказывают его «неизбежность», исходя из тактических соображений, за которыми стоят скрытые стратегические цели. Если принять Марксову характеристику идеологий как предвзятого и ложного сознания, то следует признать, что они всего лишь отражают неадекватность, присущую политической реальности, в которой производятся.
Что не менее важно, разные понимания политического влекут за собой разные способы определения границ идеологии. Ведь профессиональные политические теоретики должны убеждать с помощью концепций политики, которые отражают доминирующие эпистемологии и идеологии; при этом они, как правило, игнорируют иные интерпретации. В подтверждение М. Фриден ссылается на давнюю статью Шелдона Уолина «Политическая теория как занятие», автор которой утверждал, что политологи конструируют неполитические теории, которые не предлагают значимого выбора и не обсуждают качество сложившейся общественной жизни [Wolin, 1969].
Те, кто видит задачу политической теории в производстве рационально обоснованных моральных представлений, нередко противопоставляют ее идеологии. Однако Фриден настаивает, что политическая теория имеет устойчивые идеологические черты, которые выражаются как на уровне сущности, так и на уровне структуры. Сущностное сходство с идеологиями проявляется в стремлении теоретиков обосновывать политическое, ориентируясь исключительно на определенные демократические практики и идеалы. Многообразие скорее восхваляется, чем действительно принимается во внимание. По мнению Фридена, это «исключает возможность действительно сравнительной политической теории, которая принимала бы всерьез недемократические способы мышления. Таковые не обязательно поддерживать, но и не следует исключать из сферы политического» [Freeden, 2008, р. 4]. Неудивительно, что в таких случаях «идеология» связывается исключительно с догматизмом недемократий. Однако это «обедняет, а не обогащает наше понимание политического» [Freeden, 2008, р. 5].
На уровне структуры сходство с идеологиями прослеживается в том, что политическая теория, как правило, строится на основе одного-единственного представления о политическом либо ограничивается простым картографированием альтернативных подходов. Кроме того, теоретики нередко склонны приписывать себе роль учителей, направляющих публику к благой жизни. «Соответственно, – пишет Фриден, – когда политические философы такого рода… считают, что этика вырабатывает императивы истины или разума, разрыв между ними и идеологами сокращается до нуля…» [Freeden, 2008, р. 5]. При этом теоретики упускают три важных момента. Во-первых, для широкого распространения их идей требуется язык, достаточно общепонятный, чтобы рассчитывать на широкую поддержку. Во-вторых, возможности понятийного аппарата и аргументации неизбежно налагают ограничения, заставляя мириться с неопределенностью. В-третьих, производство политической теории нельзя заключить в контейнер с этикеткой «деятельность профессиональных специалистов»; напротив, она производится в массовом масштабе, и данное обстоятельство имеет большое значение. Получается, что и идеологические рассуждения, и политическое философствование – особенно англо-американской школы – это социальные практики первого порядка, которые могут процветать и без методологической рефлексии второго порядка.
Обсуждая проблему границ политического, автор обращается к дискуссии о теоретическом наследии Карла Шмита, идеи которого нередко используются для критики современной англо-американской философии. По мнению Фридена, слабость подхода Шмита проявляется в исключении либерализма из орбиты политического по определению – поскольку либерализм занимает принципиально нейтральную позицию по отношению к соперничающим альтернативам. Он подчеркивает, что книга Шмита – не о концепте политического, а о самом политическом и его отношении к миру «реальных» явлений. Работа Шмита не объясняет, как структурировано понятие «политика» и какую роль оно играет в том, как люди думают о политике, и уж тем более не предлагает теорию политического мышления. В работе лишь предлагаются две идеи относительно практики концептуализации политического и ее влияния на политическую теорию и политический дискурс. Первая идея привлекает внимание к идеологическому перевертыванию слов с целью представить врага стоящим вне закона и лишить его человеческих качеств. Вторая утверждает связь между отношением «друг – враг», составляющим ядро политического, и отрицанием «антропологического оптимизма». Последнее, по замечанию Фридена, вопреки изначальным намерениям Шмита, вводит в его теорию специфическую концепцию человеческой природы.
В конечном счете понимание соотношения между политическим и идеологическим мышлением определяется интерпретацией политического. Если она учитывает неизбежность конфликтов, конкуренция идеологий рассматривается как норма. Но если конфликты считаются вредными и деструктивными, идеологии и их репрезентация в качестве взаимоисключающих систем идей тоже приобретают опасные коннотации. Если включающая демократическая повестка рассматривается как единственный вид политики, это ведет к новой версии конца идеологий. «С учетом этого, – заключает Фриден, – стоит помнить о фундаментальном цикле: там, где концепция политического диктует понимание идеологий вообще, она сама может оказаться продуктом идеологических предпочтений, связанных с определенными представлениями об обществе и о том, каким оно должно быть» [Freeden, 2008, р. 8].
Термин «политическое» вместо «политика» отсылает к некоему открытому пространству смыслов. Однако многие авторы связывают его с единственным атрибутом, будь то коллективное принятие решений, власть, публичная сфера, консенсус, плюрализм, демократия в той или иной форме, «друг – враг» и др. По мысли Фридена, это попытка уйти от сложности и неопределенности политической сферы, которая усиливает тенденции, характерные для идеологии, – упрощать политическую реальность ради облегчения принятия решений и коммуникативных нужд элит. Каждый из перечисленных выше атрибутов политики в свое время притязал на роль святая святых политики, но едва ли на этом основании можно исключать другие свойства. Характеристики политического – это его необходимые аспекты, конкретные идеологические проявления которых в каждом конкретном случае могут меняться.
По заключению автора, общества не могут существовать и функционировать без атрибутов политического мышления, перечисленных выше. А идеологии – это реально существующие контейнеры, в которые заключены эти необходимые свойства; они предлагают бесчисленное множество вариаций каждого из атрибутов политического. Поэтому «утверждать, что политическое мышление всегда имеет идеологическое измерение и что практика политического рассуждения никогда не может быть свободна от идеологии – отнюдь не значит впадать в редукционизм» [Freeden, 2008, р. 9].
Литература
Freeden M. Thinking politically and thinking ideologically // Journal of political ideologies. – Oxford, 2008. – Vol. 13, N 1. – P. 1–10.
Wolin S. Politics as vocation // American political science review. – Washington, DC, 1969. – Vol. 63. – P. 1062–1082.
О.Ю. Малинова
Идеи и практики: Политические идеологии перед вызовами глобальных изменений
Права человека и эмансипация[8 - Работа подготовлена при поддержке Эстонского научного агентства, а также программы интернационализации Европейского социального фонда «DoRa».]
В.Е. Морозов
Для Хабермаса критика идеологии – это наука в самом широком смысле, хотя и не претендующая на чистоту знания. Специфика этой науки в том, что она сочетает практический смысл своей деятельности (освобождение от иллюзий) с работой рефлексии. Это позволяет ему выделить критику в качестве самостоятельной модели развития научного знания наряду со знанием эмпирико-аналитическим (точные эмпирические науки) и знанием историко-герменевтическим, основанным на понимании смысла [Хабермас, 2007]. Каждая из этих моделей знания определенным образом связана с политикой и политическим, в рамках каждой из них политическая наука имеет особый смысл. В первом случае она будет идентифицироваться с политологией, как мы ее обычно понимаем, которая наблюдает и измеряет, использует статистические методы, работает с конкретными фактами, скажем, электорального поведения или развития политико-административных практик, и т.д. В этом отношении политическая наука «сциентична» в самом широком смысле, и этот аспект ее существования вполне оправдан. Во втором случае наряду с наблюдением за фактами мы имеем дело с пониманием их смысла, выраженного в «идеях». Здесь политическая наука предстает также и как герменевтика, ищущая связи с традицией, историей, духом эпохи или с культурой, направленная на изучение институтов в самом широком смысле этого слова (религия, право, и т.д.). Мир смысла раскрывается в данном случае интерпретатору лишь в той мере, в какой одновременно проясняется и его собственный внутренний мир. Политическая наука в таком понимании герменевтична, но она все равно остается наукой, сохраняющей типичные для науки формы отношения познания к реальности. Она имеет дело с «практическим познавательным интересом» в отличие от чисто технического интереса в случае первой модели. Наконец, науки о деятельности, или праксеологические науки, являются критическими в той мере, в какой не удовлетворяются открытием инвариантов и стремятся выяснить, действительно ли эти инварианты «естественны» или они скрывают застывшие отношения господства.
С точки зрения критики господство – это, прежде всего, объективная видимость, отчуждение, «ложное сознание» и иллюзия. Символизм политического института понимается здесь как язык, подразумевающий нечто иное, нежели то, о чем говорится. Установление факта такого несоответствия – первый шаг критики, которая видит свою задачу в реконструкции «оригинального текста» и выявлении его символического содержания. В ходе анализа следует выяснить, почему произошло то или иное смещение в языке и как можно объяснить разрыв между явным содержанием и изначальным замыслом, лежащим в основании того или иного явления. Для решения этой задачи Хабермас использует психоанализ и фрейдовскую модель компромисса между желанием и цензурой (т.е. подавлением желания). На уровне общества, полагает он, этой модели соответствует идеология, представляющая на символическом уровне компромисс между изначальными намерениями и стремлениями и понуждающим «принципом реальности». Идеологии – это политические иллюзии, облегчающие легитимацию господства. Они коренятся в глубинных чаяниях людей, которые не могут зафиксировать свой объект в реальности. На индивидуальном уровне ту же функцию выполняют сновидения. Публичный язык идеологий – это своего рода резервуар архивированных смыслов, который служит материалом для создания социальных и политических институтов. Тот или иной институт должен предстать как внешняя власть, в самой себе содержащая свою ценность и истинность. Это и есть отчуждение. Тем не менее идеологические иллюзии могут приносить пользу – они заставляют нас забыть о происхождении того или иного института и представить его существование в независимой и автономной форме.
Однако этот факт влечет за собой проблему политического свойства: коль скоро иллюзия в обществе функциональна, можно ли разоблачить ее и уничтожить с помощью критики без риска катастрофических последствий? Чрезвычайно важно, чтобы критика сознавала свою политическую ответственность.
Однако раскрытием смысла идеологических представлений задача критики не исчерпывается: глубина анализа должна уступить место строгости обоснования. Ведь до тех пор, пока критика относится к политическому как критика идеологии, она остается всего лишь анализом господства. Здесь рефлексия о природе политической связи остается еще по эту сторону от своего предмета, и анализ господства сфокусирован лишь на деформации интерсубъективных связей. И хотя в «герменевтике традиций» Гадамера (а также в феноменологической концепции Х. Арендт [см.: Arendt, 1993], в левых воззрениях К. Лефора [см.: Лефор, 2000], К. Касториадиса [см.: Касториадис, 2003]) политическое не смешивается с господством, его понимание (совершенно разное у разных авторов: политическая связь как консенсус у Арендт или как разделение у Лефора) не способно возвыситься от исследования оснований и истоков дискурса до обоснования претензий этого дискурса на истину. Ибо каким образом можно подвергать критике искаженные коммуникации, если у нас нет понимания того, каковы должны быть истинные и правильные коммуникативные отношения? Реконструкция такой идеальной модели коммуникативной деятельности – дело «трансцендентальной герменевтики» (К.-О. Апель) [cм., в частности: Apel, 1973; Apel, 1991, p. 37–55] или же «универсальной прагматики» (Ю. Хабермас). Для Хабермаса герменевтические рассуждения Гадамера о традиции и истории остаются на уровне фактичности: авторитет традиции, по его мнению, не является легитимным, он – всего лишь результат «незаконного гипостазирования», преувеличения роли традиции у Гадамера. Для того чтобы признать абсолютный авторитет традиции, полагает Хабермас, мы уже должны быть убеждены в легитимности самого этого признания. А для этого – допустить, что предрассудки, без которых признание невозможно, свободны от принуждения и насилия. «Догматическое признание традиции, т.е. принятие претензий этой традиции на истину, по правде говоря, может совпадать с самим признанием, только если в традиции обеспечено отсутствие принуждения… Аргументы Гадамера предполагают, что легитимирующее признание и авторитет, лежащие в основе согласия, осуществляются ненасильственным способом» [Habermas, 1971, S. 156]. Иными словами, для Хабермаса признание за неким институтом долгой истории его существования еще не означает его легитимации. Признание его легитимности есть рационализация, т.е. объяснение, стремление сделать прозрачными те «предрассудки», на которых этот институт основан и которые принадлежат истории. Невозможно признать власть на уровне истины без создания утопии ситуации свободной коммуникации, и, конечно же, эта идеальная ситуация может быть создана как противопоставление ситуации реальной. В этом философ усматривает недостаточность герменевтической позиции, порождающей разрыв между сущим и должным, фактом и правом за счет преувеличенного внимания к фактичности, позитивности и в ущерб обоснованности.
В ранней работе «Познание и интерес» (1968) [Habermas, 1968] Хабермаса интересует не то, принадлежит ли этому миру истина и справедливость. Ему важно понять, что любое из наших обычных ежедневных суждений невозможно без связи – пусть неявной – с универсальной нормой истины рационального дискурса. Эта идея истины связана с самим значением нашей практики и ее (практики) обоснованием. Таким образом, эта универсальная прагматика стремится обосновать условия возможности взаимопонимания в социальном и политическом пространстве с учетом различных форм обоснованности суждений (пропозициональные истины, нормативная правда, экспрессивное правдоподобие, согласованность символических структур и т.д.). В контексте современного демократического общества эти различные формы смысла и разные формальные критерии рациональности языковых и ментальных действий соответствуют не только различным автономным областям «разума», но и их воплощению в том, что Вебер называл социально институированными ценностями. Для Хабермаса право, т.е. то, что имеет безусловную претензию на значимость, есть обоснованное признание. И эта обоснованность возможна только через рациональную дискуссию и аргументацию. При этом он полагает, что должны быть заданы не определения истины (адекватность, связность и т.п.), но только общие условия рационального согласования вообще, в которых всякая истина может быть конституирована в принципе. Апель, а вслед за ним и Хабермас в «Герменевтике и идеологической критике» утверждают, что наша практическая цель – «жить в соответствии с истиной» – неотделима от интерсубъективной структуры диалога, это структура свободной жизни сообща в рамках свободной коммуникации [Habermas, 1971].
Очевидно, что обе версии анализа идей в публичном пространстве совершенно непримиримы, ибо исходят из разных политических онтологий. Для герменевтики, вырастающей из хайдеггеровской онтологии с ее неприятием онтологических и эпистемологических схем Модерна, неприемлемы принципы критики как саморефлексии, поскольку «понятие самопонимания здесь предполагает, что от всех догматических предубеждений можно освободиться благодаря внутреннему самопродуцированию разума, а итогом такого самоконструирования трансцендентального субъекта становится его тотальная прозрачность для себя самого» [Гадамер, 2007, с. 47]. И это не столько протест против Модерна как такового – это протест против превращения разума в единственный легитимный источник истины, но одновременно и против превращения традиции в совокупность верований, которые в их обманчивой «спонтанности» должны быть подвергнуты критике, равно как и сциентистский подход к традиции как к «объекту». В контексте герменевтики отношения между субъектом и объектом всегда опосредованы цепочкой предшествующих интерпретаций, вследствие чего объект, конституируемый сквозь призму этих интерпретаций, является символическим. Но именно эти моменты и считаются критической философией главным препятствием для познания: онтологизация герменевтики, т.е. утверждение понимания, консенсуса, который нам предшествует в качестве некоего конституирующего явления, данного в бытии. Хабермас усматривает в этом онтологическое гипостазирование редкого опыта – опыта предпонимания в диалоге в публичном пространстве. Такого рода опыт действительно представляет огромную ценность, но его нельзя превращать в модель, в парадигму коммуникативного действия. И запрещает подобную операцию как раз феномен идеологии. Идеология – не просто не-понимание или препятствие к пониманию (в этом случае она бы с легкостью подлежала процессам критики и реинтеграции в общий политический дискурс). Мишенью критики является как раз то, что герменевтика традиций считает источником понимания, – консенсус. Саморефлексия же, определяемая «эмансипаторским познавательным интересом», не может быть основана на предшествующем ей консенсусе; ведь «до» (до критики, до саморефлексии, до идеологии) существует как раз не консенсус, а разрывы в коммуникации, порождающие идеологию. Прошлое несет в себе не только и не столько конвергенцию традиций, сколько ложное сознание, которое преодолевается с помощью критики.
* * *
Таким образом, суть расхождений между двумя направлениями исследования идеологий сводится к возможностям и границам герменевтики. Для герменевтической традиции, берущей начало от философии Гадамера, понимание и интерпретация представляют собой особый метод познания политической реальности и, в особенности, ее духовных продуктов, который может претендовать на значимость, т.е. объективность и истину, столь же сильную, как и истина, и объективность естественных наук. Просто природа этой истины иная, нежели в естествознании, и опирается она на иные основания. Соответственно степень компетентности исследователя политического духовного пространства определяется не столько и не только степенью овладения им общим рационалистическим методологическим аппаратом, сколько его практической, коммуникативной компетентностью. Хабермас же, восприняв идею методологического плюрализма, плюрализма форм объективности и истины (и, следовательно, типов рациональности), тем не менее оспаривал универсальность герменевтики, т.е. ее способность понимать и интерпретировать всю совокупность символических образований, конституирующих человеческое поведение в политическом поле. По его мнению, в некоторых случаях понимание требует каузального объяснения, аналогичного естественнонаучной методологии. Тем не менее политическая наука не может довольствоваться одной лишь естественно-научной методологией, не соответствующей ее объекту, конституирование которого обязательно носит символический характер и связано с языком. И если политическая наука действует подобно естествознанию (например, бихевиоральная политология), то она способна разрушить особую структуру своего объекта и, следовательно, привести к ошибочному знанию[7 - Гипостазирование идеологии как «ложного сознания» может привести к отрицанию ее роли в обществе. Именно такая логика отчетливо прочитывается в исследовании А.А. Кара-Мурзы – в целом очень глубоком и интересном, – посвященном становлению российской тотальной идеологии [см., например: Кара-Мурза, 2013].]. Такая наука не может инкорпорировать в сферу своей деятельности фундаментальный факт интерсубъективности, вырастающей из языка и предполагаемой любым социальным отношением и любым человеческим сообществом (например, в арендтовском понимании здравого смысла и чувства принадлежности к одному политическому пространству).
Полемика двух традиций в познании идей и идеологических продуктов, не способная, разумеется, выявить абсолютную истину в этом споре, позволяет тем не менее выделить наиболее сильные положения, работающие сегодня на уровне дискурсивных практик. В последние десятилетия известно немало попыток примирения обеих тенденций. Однако, как представляется, для сферы объяснения политических идей особое значение имеет вариант синтеза критики идеологий и герменевтики традиций, но на базе герменевтики. Попытку такого синтеза предпринял Поль Рикер [см.: RicCur, 1963; 1997].
Этот вариант позволяет герменевтике воспринять живой нерв критической теории, исходя из собственных предпосылок, и попытаться преодолеть разрушительную для философского познания дихотомию объяснения и понимания. Современные семиотические модели убеждают нас в том, что объяснение не обязательно опирается на каузальные или натуралистические схемы (как это имеет место в естественно-научном знании). Дискурс соотносится с праксисом, благодаря чему он всякий раз может быть прочитан и интерпретирован в новых экзистенциальных условиях. Но в отличие от простого дискурсивного общения на обыденном уровне, в спонтанной разговорной форме, дискурс, связанный с продуцированием идейных форм в политическом пространстве, разворачивается в структурах, требующих описания и объяснения (ибо они связаны с процессами легитимации), опосредующих «понимание». И собственно герменевтичесий момент здесь состоит в открытости идеи или теории к миру. Ее смысл представляет собой не скрытую интенцию, которую мы всякий раз стараемся отыскать в анализируемой или изучаемой нами символической конструкции, но сам способ ее разворачивания, – тот способ, которым нам открываются (но не задаются!) те или иные измерения реальности. И именно этот способ открытия и постижения смысла и возвращает нам возможности критического подхода.
Как нам представляется, такой подход к изучению идей и теорий в публичном пространстве современной России, сочетающий в себе аспекты критической теории и герменевтики традиций, наиболее продуктивен сегодня, когда мы нуждаемся, с одной стороны, в тщательном и бережном выявлении и восстановлении наших традиций, а с другой – в пересмотре целого ряда идей, утративших свою экспликативную силу и лишь углубляющих разрыв между политическим и социальным миром и миром символических конструктов.
Литература
Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики / Пер. с нем., общ. ред. и вступ. ст. Б.Н. Бессонова. – М.: Прогресс, 1988. – 704 с.
Гадамер Х.-Г. Марбургская теология // Гадамер Х.-Г. Пути Хайдеггера: исследования позднего творчества / Пер. с нем. А.В. Лаврухина. – Минск: Пропилеи, 2007. – С. 38–54.
Гизо Ф. О средствах правления и оппозиции в современной Франции // Классический французский либерализм / Пер. с фр. М.М. Федоровой. – М.: РОССПЭН, 2000. – С. 263–501.
Идейно-символическое пространство постсоветской России: динамика, институциональная среда, акторы / Под. ред. О.Ю. Малиновой. – М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН); РОССПЭН, 2011. – 285 с.
Кара-Мурза А.А. Как мысли превращаются в доктрины // Вестник аналитики. – М., 2013. – № 2 (52). – С. 147–156.
Касториадис К. Воображаемое установление общества / Пер. с фр. Г. Волкова. – М.: Гнозис Логос, 2003. – 480 с.
Лефор К. Политические очерки (XIX–XX века) / Пер. с фр. Е.А. Самарской.– М.: РОССПЭН, 2000. – 368 с.
Малинова О.Ю. Введение // Идейно-символическое пространство постсоветской России: динамика, институциональная среда, акторы / Под. ред. О.Ю. Малиновой. – М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН); РОССПЭН, 2011. – С. 5–20.
Хабермас Ю. Познание и интерес // Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология» / Пер. с нем. М.Л. Хорькова. – М.: Праксис, 2007. – С. 167–191.
Apel K.O. Le probleme de l’еvidence phеnomеnologique а la lumi?re d’une sеmiotique transcendentale // Critique de la raison phеnomеnologique: La transformation pragmatique. – Paris: Editions du Serf, 1991. – P. 37–55.
Apel K.O. Transformation der Philosophie. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1973. – Bd. 1: Sprachanalytik, Semiotik, Hermeneutik. – 378 S.
Arendt H. Between past and future. – N.Y.: Penguin Books, 1993. – 306 p.
Habermas J. Der Universalit?tsanspruch der Hermeneutik // Hermeneutik und Ideologiekritik / Mit Beitr?gen von K.-O. Apel, C. von Bormann, R. Bubner, H.-G. Gadamer, H.J. Giesel, J. Habermas. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1971. – S. 120–159.
Habermas J. Erkenntnis und Interesse. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1968. – 364 S. RicCur P. Hermеneutique et critique des ideologies // Hermеneutique et tradition: Actes du colloque international, Rome, 1963. – Rome-Paris, 1963. – P. 25–61.
RicCur P. L’Idеologie et l’Utopie. – Paris: Еd. du Seuil, 1997. – 410 p.
Touraine A. Penser autrement. – Paris: Fayard, 2007. – 323 p.
Мыслить политически и мыслить идеологически
М. Фриден
Реф. статьи: Freeden M. Thinking politically and thinking ideologically // Journal of political ideologies. – Oxford, 2008. – Vol. 13, N 1. – P. 1–10
Статья профессора Оксфордского университета, главного редактора «Журнала политических идеологий» Майкла Фридена посвящена вопросу о соотношении политического и идеологического мышления. Под политическим мышлением автор понимает совокупность мыслительных практик (thought-practices), связанных с коллективными проблемами, которые отличаются от других способов рассуждения о том же предмете – например, от экономического или исторического. Понятие идеологическое мышление связано с моделями (patterns) убеждений, которых люди придерживаются, рассуждая о важных общественных проблемах, – таких, как демократия, бедность, война, соотношение частного и публичного, электоральный выбор т.п. Идеологическое мышление также отражает борьбу за значения слов, исход которой облегчает выражение одних смыслов и затрудняет формулирование других.
Идеологии – это структуры, в которых фундаментальную роль играет темпоральная составляющая. Большинство из них описывают образ будущего устройства общества (хотя некоторые, например классический марксизм, настолько в нем уверены, что сосредоточены главным образом на устранении препятствий на пути к будущему). Стремясь мобилизовать поддержку, идеологии взывают к обязательствам по отношению к группе, национальным чувствам, солидарности, справедливости и т.п. Они направляют коллективное мышление с помощью убеждения и возбуждения эмоций. Сплачивающие эффекты идеологий связаны с предлагаемыми ими рецептами политической стабильности. Многие из них поддерживают представление о политике как главном поставщике желаемых социальных благ. Идеологии ранжируют приоритеты и обосновывают порядок распределения материальных и символических ресурсов – или доказывают необходимость отмены существующего порядка. Наконец, существенным элементом идеологий является власть – вне зависимости от того, видится ли она как благо или зло, как созидательный ресурс или как инструмент угнетения.
На первый взгляд, у идеологии и политики много общего. Политическое мышление также нацелено на решение коллективных проблем. Язык политики пропитан понятиями, предполагающими «окончательность»: суверенитет, резолюции, авторитет, обязанности, неотчуждаемые права, гегемония, легитимность. Относительность и неопределенность значений этих слов не всегда очевидны для тех, кто их произносит. Политический язык воплощает фундаментальную структурную особенность идеологий – претензию на неопровержимость, прекращающую все споры (the conclusiveness of decontestation). Стремление «исчерпать» предмет спора (decontestation) – это попытка контролировать неоднозначные и текучие смыслы, закрепляя одни и блокируя другие. Культурная и психологическая потребность в обретении определенности в сложном и неоднозначном мире резонирует с требованием ясных решений, которое мир политики предъявляет лидерам. Все идеологии движимы этой потребностью: они конструируют политические планы, постулируют моральные или утилитарные границы и призывают к обретению стабильности – через поддержку нынешних практик или их замену новыми. Политика тяготеет к точкам покоя, даже если она не способна поддерживать социальную стабильность. Из состояния покоя ее приходится вырывать – иногда мягко, иногда насильственно.
И идеологию и политику критикуют за стремление утаивать истину. И это вполне объяснимо: ведь в политике искусственную «окончательность» устанавливают акторы, которые вполне сознают несовершенство своего решения и доказывают его «неизбежность», исходя из тактических соображений, за которыми стоят скрытые стратегические цели. Если принять Марксову характеристику идеологий как предвзятого и ложного сознания, то следует признать, что они всего лишь отражают неадекватность, присущую политической реальности, в которой производятся.
Что не менее важно, разные понимания политического влекут за собой разные способы определения границ идеологии. Ведь профессиональные политические теоретики должны убеждать с помощью концепций политики, которые отражают доминирующие эпистемологии и идеологии; при этом они, как правило, игнорируют иные интерпретации. В подтверждение М. Фриден ссылается на давнюю статью Шелдона Уолина «Политическая теория как занятие», автор которой утверждал, что политологи конструируют неполитические теории, которые не предлагают значимого выбора и не обсуждают качество сложившейся общественной жизни [Wolin, 1969].
Те, кто видит задачу политической теории в производстве рационально обоснованных моральных представлений, нередко противопоставляют ее идеологии. Однако Фриден настаивает, что политическая теория имеет устойчивые идеологические черты, которые выражаются как на уровне сущности, так и на уровне структуры. Сущностное сходство с идеологиями проявляется в стремлении теоретиков обосновывать политическое, ориентируясь исключительно на определенные демократические практики и идеалы. Многообразие скорее восхваляется, чем действительно принимается во внимание. По мнению Фридена, это «исключает возможность действительно сравнительной политической теории, которая принимала бы всерьез недемократические способы мышления. Таковые не обязательно поддерживать, но и не следует исключать из сферы политического» [Freeden, 2008, р. 4]. Неудивительно, что в таких случаях «идеология» связывается исключительно с догматизмом недемократий. Однако это «обедняет, а не обогащает наше понимание политического» [Freeden, 2008, р. 5].
На уровне структуры сходство с идеологиями прослеживается в том, что политическая теория, как правило, строится на основе одного-единственного представления о политическом либо ограничивается простым картографированием альтернативных подходов. Кроме того, теоретики нередко склонны приписывать себе роль учителей, направляющих публику к благой жизни. «Соответственно, – пишет Фриден, – когда политические философы такого рода… считают, что этика вырабатывает императивы истины или разума, разрыв между ними и идеологами сокращается до нуля…» [Freeden, 2008, р. 5]. При этом теоретики упускают три важных момента. Во-первых, для широкого распространения их идей требуется язык, достаточно общепонятный, чтобы рассчитывать на широкую поддержку. Во-вторых, возможности понятийного аппарата и аргументации неизбежно налагают ограничения, заставляя мириться с неопределенностью. В-третьих, производство политической теории нельзя заключить в контейнер с этикеткой «деятельность профессиональных специалистов»; напротив, она производится в массовом масштабе, и данное обстоятельство имеет большое значение. Получается, что и идеологические рассуждения, и политическое философствование – особенно англо-американской школы – это социальные практики первого порядка, которые могут процветать и без методологической рефлексии второго порядка.
Обсуждая проблему границ политического, автор обращается к дискуссии о теоретическом наследии Карла Шмита, идеи которого нередко используются для критики современной англо-американской философии. По мнению Фридена, слабость подхода Шмита проявляется в исключении либерализма из орбиты политического по определению – поскольку либерализм занимает принципиально нейтральную позицию по отношению к соперничающим альтернативам. Он подчеркивает, что книга Шмита – не о концепте политического, а о самом политическом и его отношении к миру «реальных» явлений. Работа Шмита не объясняет, как структурировано понятие «политика» и какую роль оно играет в том, как люди думают о политике, и уж тем более не предлагает теорию политического мышления. В работе лишь предлагаются две идеи относительно практики концептуализации политического и ее влияния на политическую теорию и политический дискурс. Первая идея привлекает внимание к идеологическому перевертыванию слов с целью представить врага стоящим вне закона и лишить его человеческих качеств. Вторая утверждает связь между отношением «друг – враг», составляющим ядро политического, и отрицанием «антропологического оптимизма». Последнее, по замечанию Фридена, вопреки изначальным намерениям Шмита, вводит в его теорию специфическую концепцию человеческой природы.
В конечном счете понимание соотношения между политическим и идеологическим мышлением определяется интерпретацией политического. Если она учитывает неизбежность конфликтов, конкуренция идеологий рассматривается как норма. Но если конфликты считаются вредными и деструктивными, идеологии и их репрезентация в качестве взаимоисключающих систем идей тоже приобретают опасные коннотации. Если включающая демократическая повестка рассматривается как единственный вид политики, это ведет к новой версии конца идеологий. «С учетом этого, – заключает Фриден, – стоит помнить о фундаментальном цикле: там, где концепция политического диктует понимание идеологий вообще, она сама может оказаться продуктом идеологических предпочтений, связанных с определенными представлениями об обществе и о том, каким оно должно быть» [Freeden, 2008, р. 8].
Термин «политическое» вместо «политика» отсылает к некоему открытому пространству смыслов. Однако многие авторы связывают его с единственным атрибутом, будь то коллективное принятие решений, власть, публичная сфера, консенсус, плюрализм, демократия в той или иной форме, «друг – враг» и др. По мысли Фридена, это попытка уйти от сложности и неопределенности политической сферы, которая усиливает тенденции, характерные для идеологии, – упрощать политическую реальность ради облегчения принятия решений и коммуникативных нужд элит. Каждый из перечисленных выше атрибутов политики в свое время притязал на роль святая святых политики, но едва ли на этом основании можно исключать другие свойства. Характеристики политического – это его необходимые аспекты, конкретные идеологические проявления которых в каждом конкретном случае могут меняться.
По заключению автора, общества не могут существовать и функционировать без атрибутов политического мышления, перечисленных выше. А идеологии – это реально существующие контейнеры, в которые заключены эти необходимые свойства; они предлагают бесчисленное множество вариаций каждого из атрибутов политического. Поэтому «утверждать, что политическое мышление всегда имеет идеологическое измерение и что практика политического рассуждения никогда не может быть свободна от идеологии – отнюдь не значит впадать в редукционизм» [Freeden, 2008, р. 9].
Литература
Freeden M. Thinking politically and thinking ideologically // Journal of political ideologies. – Oxford, 2008. – Vol. 13, N 1. – P. 1–10.
Wolin S. Politics as vocation // American political science review. – Washington, DC, 1969. – Vol. 63. – P. 1062–1082.
О.Ю. Малинова
Идеи и практики: Политические идеологии перед вызовами глобальных изменений
Права человека и эмансипация[8 - Работа подготовлена при поддержке Эстонского научного агентства, а также программы интернационализации Европейского социального фонда «DoRa».]
В.Е. Морозов