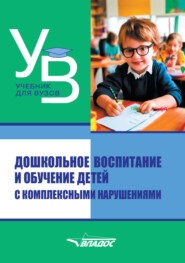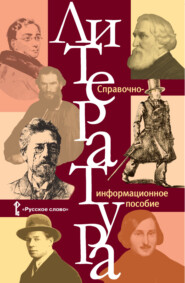По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пушкин в русской философской критике
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Последний взрыв злой страсти, окончательно подорвавший физическое существование поэта, оставил ему, однако, возможность и время для нравственного перерождения. Трехдневный смертельный недуг, разрывая связь его с житейской злобой и суетой, но не лишая его ясности и живости сознания, освободил его нравственные силы и позволил ему внутренним актом воли перерешить для себя жизненный вопрос в истинном смысле. Что перед смертью в нем действительно совершилось духовное возрождение, это сейчас же было замечено близкими людьми.
«Особенно замечательно то, – пишет Жуковский, – что в эти последние часы жизни он как будто сделался иной: буря, которая за несколько часов волновала его душу неодолимой страстью, исчезла, не оставив в ней следа; ни слова, ни воспоминания о случившемся». Но это не было потерею памяти, а внутренним повышением и очищением нравственного сознания и его действительным освобождением из плена страсти. Когда его товарищ и секундант Данзас, – рассказывает кн. Вяземский, – желая выведать, в каких чувствах умирает он к Геккерну, спросил его: не поручит ли он ему чего-нибудь в случае смерти касательно Геккерна, – «Требую, – отвечал он, – чтобы ты не мстил за мою смерть: прощаю ему и хочу умереть христианином».
Описывая первые минуты после смерти, Жуковский пишет: «Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти… Что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо. Это не было ни сон, ни покой; не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; не было также и выражение поэтическое. Нет! какая-то важная, удивительная мысль на нем разливалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубоко удовлетворяющее знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить: что видишь, друг? И что бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть?»[30 - Вот точный текст этого места из письма В. А. Жуковского к отцу поэта, С. Л. Пушкину, от 15 февраля 1837 г., известное в печати под названием «Последние минуты Пушкина»: «Когда все ушли, я сел перед ним и долго, один, смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти… Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо. Это не было ни сон, ни покой; не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; не было также и выражение поэтическое, нет! какая-то важная удивительная мысль на нем развивалась; что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое удовлетворенное знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить: что видишь, друг? И что бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть?.. В эту минуту, можно сказать, я увидал лицо самой смерти, божественно-тайное; лицо смерти без покрывала».]
Хотя нельзя угадать, какие слова сказал бы своему другу возродившийся через смерть великий поэт, но можно наверное отвечать за то, чего бы он не сказал. Он не сказал бы того, что твердят его неразумные поклонники, делающие из великого человека своего маленького идола. Он не сказал бы, что погиб от злой враждебной судьбы, не сказал бы, что его смерть была бессмысленною и бесцельною, не стал бы жаловаться на свет, на общественную среду, на своих врагов; в его словах не было бы укора, ропота и негодования. И эта несомненная уверенность в том, чего бы он не сказал, – уверенность, которая не нуждается ни в каких доказательствах, потому что она прямо дается простым фактическим описанием его последних часов, – эта уверенность есть последнее благодеяние, за которое мы должны быть признательны великому человеку. Окончательное торжество духа в нем и его примирение с Богом и с миром примиряют нас с его смертью: эта смерть не была безвременною.
– Как? – скажут, – а те дивные художественные создания, которые он еще носил в своей душе и не успел дать нам, а те сокровища мысли и творчества, которыми бы он мог обогатить нашу словесность в свои зрелые и старческие годы?
Какой внешний, механический взгляд! Никаких новых художественных созданий Пушкин нам не мог дать и никакими сокровищами не мог больше обогатить нашу словесность.
XII
Мы знаем, что дуэль Пушкина была не внешней случайностью, от него не зависевшею, а прямым следствием той внутренней бури, которая его охватила и которой он отдался сознательно, несмотря ни на какие провиденциальные препятствия и предостережения. Он сознательно принял свою личную страсть за основание своих действий, сознательно решил довести свою вражду до конца, до дна исчерпать свой гнев. Один из его ближайших друзей, князь Вяземский, в том самом письме, в котором он описывает его христианскую кончину, обращаясь назад, к истории дуэли, замечает: «Ему нужен был кровавый исход»[31 - Письмо П. А. Вяземского к А. Я. Булгакову от 9 февраля 1837 г.]. Мы не можем говорить о тайных состояниях его души; но два явные факта достаточно доказывают, что его личная воля бесповоротно определилась в этом отношении и уже не была доступна никаким житейским воздействиям, – я разумею: нарушенное слово императору и последний выстрел в противника.
В том внутреннем состоянии, о котором мы вправе заключать из этих двух фактов, даже рана его самого или Геккерна не могла бы укротить его душевную бурю и переменить его решимость довести дело до конца. При такой решимости, которая была несомненна и для друзей, дуэль могла иметь только два исхода: или смерть самого Пушкина, или смерть его противника. Для иных поклонников поэта второй исход представлялся бы справедливым и желательным. Зачем убит гений, а ничтожный чело век остался в живых? Как же это, однако? Неужели с этою «успешною» дуэлью на душе Пушкин мог бы спокойно творить новые художественные произведения, озаренные высшим светом христианского сознания, до которого он уже раньше достиг?
Делать предположения, забывая о действительной природе и собственных взглядах человека, составляющего их предмет, есть ребяческая забава. Пусть эстетическое идолопоклонство ставит себя выше различия между добром и злом, но какое же это имеет отношение к действительному Пушкину, который никогда на эту точку зрения не становился, а под конец пришел к положительным христианским убеждениям, прямо не допускающим такого безразличия? Если Пушкин в зрелом возрасте стал уже тяготиться противоречием между требованиями поэзии и требованиями житейской суеты, то каким же образом мог бы он примириться с гораздо более глубоким противоречием между служением высшей красоте, священной и величавой, и фактом убийства из-за личной злобы?
Мы не создаем Пушкина по своему образу и подобию, а берем действительно Пушкина с его действительным характером и с теми убеждениями и взглядами, которые действительно сложились у него к этому времени. Уже в шестой главе «Евгения Онегина» есть ясное указание на то, как далеко был бы поэт от безразличия, если бы ему пришлось убить на дуэли хотя бы ненавистного и презренного врага:
Приятно дерзкой эпиграммой
Взбесить оплошного врага…
и т. д.
Но отослать его к отцам
Едва ль приятно будет вам[32 - «Евгений Онегин», гл. 6, строфа XXXIII.].
Так говорил еще не перегоревший в юных страстях автор «Евгения Онегина»; что бы сказал возмужалый автор «Пророка» и «Отцы пустынники и жены непорочны»? Добровольно отдавшись злой буре, которая его увлекала, Пушкин мог и хотел убить человека, но с действительною смертью противника вся эта буря прошла бы мгновенно, и осталось бы только сознание о бесповоротно совершившемся злом и безумном деле. У кого с именем Пушкина соединяется действительный духовный образ поэта в его зрелые годы, тот согласится, что конец этой добровольной с его стороны, им самим вызванной, дуэли – смертью противника – был бы для Пушкина во всяком случае жизненною катастрофою. Не мог бы он с такою тяжестью на душе по-прежнему привольно подниматься на вершины вдохновения для «звуков сладких и молитв»; не мог бы он с кровью нечистой человеческой жертвы на руках приносить священную жертву светлому божеству поэзии; для нарушителя нравственного закона нельзя уже было чувствовать себя царем над толпою, и для невольника страсти – свободным пророческим глаголом жечь сердца людей. При той высоте духа, которая была ему доступна и которую так явно открыли его последние мгновения, легких и дешевых расчетов с совестью не бывает.
Для примирения с собою Пушкин мог отречься от мира, пойти куда-нибудь на Афон, или он мог избрать более трудный путь невидимого смирения, чтобы искупить свой грех в той же среде, в которой его совершил и против которой был виноват своею нравственною немощью, своим недостойным уподоблением ничтожной толпе. Но так или иначе, – под видом ли духовного или светского подвижника, – во всяком случае Пушкин после катастрофы жил бы только для дела личного душеспасения, а не для прежнего служения чистой поэзии. Прежде в простой и открытой душе поэта полнота жизненных впечатлений кристаллизовалась в прозрачную «объективную» призму, где сходивший на него в минуту вдохновения белый луч творческого озарения становился живою радугою. Но такой лучезарный, торжествующий характер поэзии имел неизбежно соответствующее ему основание в душевном строе поэта – ту непосредственную созвучность с всемирным благим смыслом бытия, ту жизнерадостную и добродушную ясность, все те свойства, которыми отличался Пушкин до катастрофы и которых он не мог сохранить после нее. При том исходе дуэли, которого бы желали иные поклонники Пушкина, поэзия ничего бы не выиграла, а поэт потерял бы очень много: вместо трехдневных физических страданий ему пришлось бы многолетнею нравственною агонией достигать той же окончательной цели: своего духовного возрождения. Поэзия сама по себе не есть ни добро, ни зло: она есть цветение и сияние духовных сил – добрых или злых. У ада есть свой мимолетный цвет и свое обманчивое сияние. Поэзия Пушкина не была и не могла быть таким цветом и сиянием ада, а сохранить и возвести на новую высоту добрый смысл своей поэзии он уже не мог бы, так как ему пришлось бы всю душу свою положить на внутреннее нравственное примирение с потерянным в кровавом деле добром. Не то чтобы дело дуэли само по себе было таким ужасным злом. Оно может быть извинительно для многих, оно могло быть извинительно для самого Пушкина в пору ранней юности. Но для Пушкина 1837 г., для автора «Пророка», убийство личного врага, хотя бы на дуэли, было бы нравственною катастрофою, последствия которой не могли бы быть исправлены «между прочим», в свободное от литературных занятий время, – для восстановления духовного равновесия потребовалась бы вся жизнь.
Все многообразные пути, которыми люди, призванные к духовному возрождению, действительно приходят к нему, в сущности сводятся к двум: или путь внутреннего перелома, внутреннего решения лучшей воли, побеждающей низшие влечения и приводящей человека к истинному самообладанию; или путь жизненной катастрофы, освобождающей дух от непосильного ему бремени одолевших его страстей. Беззаветно отдавшись своему гневу, Пушкин отказался от первого пути и тем самым избрал второй, – и неужели мы будем печалиться о том, что этот путь не был отягощен для него виною чужой смерти и что духовное очищение могло совершиться в три дня?
Вот вся судьба Пушкина. Эту судьбу мы по совести должны признать, во-первых, доброю, потому что она вела человека к наилучшей цели – к духовному возрождению, к высшему и единственно достойному его благу; а во-вторых, мы должны признать ее разумною, потому что этой наилучшей цели она достигла простейшим и легчайшим в данном положении, т. е. наилучшим способом. Судьба не есть произвол человека, но она не может управлять человеческою жизнью без участия собственной воли человека, а при данном состоянии воли этого человека то, что с ним произошло, должно было произойти, и есть самое лучшее из того, что вообще могло бы с ним произойти, т. е. кажется возможным.
Природа судьбы вообще и, следовательно, судьба всякого человеческого существа не объясняется вполне тем, что мы видим в судьбе такого особенного человека, как Пушкин: нельзя химический анализ Нарзана принимать всецело за анализ всякой воды. Как в Нарзане есть то, чего нет ни в какой другой воде, так, с другой стороны, для полного отчета о составе нашей невской воды приходится принимать во внимание такие осложнения, каких не найдется ни в Нарзане, ни в каком-либо другом целебном источнике. Но все-таки мы наверно найдем и в Неве, и в Нарзане, и во всякой другой воде основные вещества – водород и кислород, – без них никакой воды не бывает. При всей своей особенности судьба Пушкина показывает нам – лишь с большею яркостью – те основные черты, которые мы отыщем, если захотим и сумеем искать, во всякой человеческой судьбе, как бы она ни была осложнена или, напротив, упрощена. Судьба вообще не есть простая стихия, она разлагается на два элемента: высшее добро и высший разум, и присущая ей необходимость есть преодолевающая сила разумно-нравственного порядка, независимого от нас по существу, но воплощающегося в нашей жизни только чрез нашу собственную волю. А если так, то я думаю, что темное слово «судьба» лучше нам будет заменить ясным и определенным выражением – Провидение Божие.
Значение поэзии в стихотворениях Пушкина
В конце нынешнего юбилейного года, после того как Пушкин освещался и рассматривался со всяких сторон, осталось еще сказать о нем разве только как о поэте, – не потому, конечно, чтобы о пушкинской поэзии вовсе не говорилось при чествовании поэта, а потому, что о ней говорилось или слишком мало, или недостаточно принципиально, а то и слишком неладно[33 - Образцы неладных речей были мною показаны в заметке об «Особом чествовании Пушкина».]. В других отношениях эта столетняя годовщина не прошла бесследно, и было бы неблагодарностью не помянуть ее добрым словом. Кроме первого тома академического издания сочинений Пушкина[34 - Речь идет об академическом издании 1899 г.: Пушкин А.С. Сочинения. Приготовил и примечаниями снабдил Леонид Майков. Т. I. Лирические стихотворения (1812–1817). СПб.], следует указать еще на очень важные, хотя и не бросающиеся в глаза данные для личной характеристики поэта – в биографических исследованиях Л. Н. Майкова о нескольких близких Пушкину лицах (особенно о его товарище Пущине и об А. П. Керн)[35 - По всей видимости, Соловьев подразумевает издание: Майков Л. Н. Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб., 1899.]; затем – на чрезвычайно полный и обстоятельный труд Ф. Е. Корша об особенностях пушкинской версификации (по поводу вопроса об окончании «Русалки»)[36 - Корш Ф. Е. Разбор вопроса о подлинности окончания «Русалки» Пушкина по записи Д. Л. Зуева // Известия ОРЯ. СПб., 1898. № 3; 1899. № 1, 2.], интересный и в некоторых других отношениях; далее, по счастливому совпадению, в этом году вышел IV том обширной «Истории русской литературы» А. Н. Пыпина: значительная часть этого тома занята Пушкиным, с приложением полнейшей библиографии о нем. Из общих взглядов и рассуждений касательно Пушкина, кроме нескольких прекрасных юбилейных речей в Петербурге и в Москве (с одною из петербургских читатели «Вестника Европы» хорошо знакомы)[37 - В кн.: Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М.: Искусство, 1991. А. А. Носов на с. 670 (прим. 5) ссылается на статью: А. Ф. Кони. Нравственный облик Пушкина. // Вестник Европы. СПб., 1899. № 10.], – следует в особенности отметить только что появившуюся статью М.O. Меньшикова, защищающего Пушкина от «клеветы обожания»[38 - «Книжки Недели», октябрь 1899 г.]. Правда, это заглавие, при всем своем остроумии, есть одна из немногих ошибок в талантливой и симпатичной статье г. Меньшикова: клевета, как в юридическом, так и в житейском смысле, есть заведомо ложное, следовательно, злоумышленное приписывание кому-нибудь дурных свойств, ему не принадлежащих, или постыдных деяний, им не совершенных. Обожатели Пушкина, конечно, не клеветали и не могли клеветать на него, когда высказывали о нем свои чрезвычайно неосновательные, хотя весьма к нему благожелательные и, следовательно, никак не клеветнические суждения, и г. Меньшиков правильнее бы выразил свой упрек словами: нерассудительность обожания, бессмыслица обожания и т. п. Ведь если бы какой-нибудь обожатель Петра Великого стал утверждать, что славней шее дело этого государя есть суд над царевичем Алексеем, то состава клеветы тут не было бы, а была бы лишь нелепая оценка исторических фактов; или если бы чья-нибудь извращенная мысль подарила нас заявлением, что вся сила и красота солнца заключается в его пятнах, то и это была бы не клевета, а только глупость. Кроме неточности заглавия автор этой примечательной статьи заслуживает упрека за неверную мысль о ненужности и зловредности Петербурга. Мнимая ошибка Петра Великого – действительная ошибка г. Меньшикова. Впрочем, к этому антиисторическому и противопушкинскому взгляду мы еще вернемся.
Никто не скажет, конечно, чтобы и те вопросы касательно Пушкина, которые внимательно рассматривались в год его столетия, были исчерпаны, но менее всего это можно сказать об эстетической стороне дела, о значении пушкинской поэзии по существу. Поздние пришельцы на роскошное словесное пиршество этого года, вместо ожидаемых – по латинской пословице – костей, к удивлению своему находят лучшее блюдо почти нетронутым. При всей должной скромности, трудно не воспользоваться таким счастливым случаем. Задачу эстетического обсуждения пушкинской поэзии я облегчил для себя тем, что заранее (более двух лет тому назад) рассмотрел с своей точки зрения важнейший из неэстетических вопросов касательно Пушкина, именно вопрос о нравственном смысле той роковой катастрофы, которая прервала земную жизнь поэта, дав ему, впрочем, время для окончательного душевного очищения и просветления.
Этический взгляд, изложенный в статье «Судьба Пушкина»[39 - «Вестник Европы», сентябрь 1897 г. (в следующем году изд. отдельно).] и сводящийся к тому простому положению, что гений обязывает и что кому много дано, с того много и взыщется, вызвал общее неудовольствие и единогласное осуждение в печати[40 - Точнее – почти единогласное: среди нескольких десятков бранных отзывов, попавшихся мне на глаза, я помню один не не бранный[503 - Обзор откликов на «Судьбу Пушкина» см. в упомянутом комментарии А. А. Носова. С. 664.].]. Но мотивы такого неудовольствия относились ко всему, что угодно, только не к тому, что было действительно мною высказано и что осталось совсем не затронутым в многочисленных статьях и заметках, появлявшихся в эти два года по поводу «Судьбы Пушкина». Не имея никакой разумной причины останавливаться на такой «критике» или в чем-нибудь изменять те мысли, которые встретили столько порицаний, но ни одного возражения, мало-мальски относящегося к делу, – я могу теперь, говоря о поэзии Пушкина, не возвращаться снова к вопросу о его личной судьбе. В тех случаях, когда мне придется по естественной связи предметов мимоходом коснуться и этого вопроса, читатели «Вестника Европы» позволят мне предполагать, что взгляд мой на дело им известен и не требует повторительного изложения.
I
Пушкинская поэзия есть поэзия по существу и по преимуществу, – не допускающая никакого частного и одностороннего определения. Самая сущность поэзии – то, что, собственно, ее составляет или что поэтично само по себе, – нигде не проявлялась с такою чистотою, как именно у Пушкина, – хотя были поэты сильнее его. В самом деле, признавать Пушкина поэтом по преимуществу еще не значит признавать его величайшим из поэтов. Сила поэтического творчества может проистекать из разнородных источников, и самое чистое и полное выражение поэзии как таковой может еще и не быть самым сильным и грандиозным. Не тревожа колоссальных теней Гомера и Данте, Шекспира и Гёте, – можно предпочитать Пушкину и Байрона, и Мицкевича. С известных сторон такое предпочтение не только понятно как личный вкус, но и требуется беспристрастною оценкой. И все-таки Пушкин остается поэтом по преимуществу, более беспримесным, – чем все прочие, – выразителем чистой поэзии. То, чем Байрон и Мицкевич были значительнее его, вытекало не из существа поэзии как такой и не из поэтической стороны их дарования, а зависело от других элементов их душевной природы. Байрон превосходил Пушкина напряженною силой своего самочувствия и самоутверждения, это был более сосредоточенный ум и более могучий характер, что выражалось, разумеется, и в его поэзии, усиливая ее внушающее действие, делая из поэта «властителя дум». Мицкевич был больше Пушкина глубиною своего религиозного чувства, серьезностью своих нравственных требований от личной и народной жизни, высотою своих мистических помыслов, и главное – своим всегдашним стремлением покорять все личное и житейское тому, что он сознавал как безусловное должное, – и все это, конечно, звучало и в стихах Мицкевича, – хотя бы и не имевших прямо религиозного содержания, – сообщая им особую привлекательность для душ, соответственно настроенных. Но как демоническое высокомерие Байрона, так и религиозная высота Мицкевича были такие их свойства, которые проявились бы так или иначе и в том случае, если бы эти два могучие человека не написали ни одной поэтической строки. А так как они были притом Божиею милостью и гениальные поэты, то господствующие стороны их личности, сверх своего общего значения, естественно нашли себе выражение и в их поэзии, хотя у Мицкевича стихотворения намеренно религиозные, понятно, слабее других; выражаясь в поэзии, эти особые элементы ведь не выражали ее собственной эстетической сущности. Байрон и Мицкевич от себя привносили такое содержание, которое при всей своей значительности не было, однако, существенно для поэзии как такой: один внес свой демонизм, другой – свою религиозную мистику. У Пушкина такого господствующего центрального содержания личности никогда не было, а была просто живая, открытая, необыкновенно восприимчивая и отзывчивая ко всему душа – и больше ничего. Единственно крупное и важное, что он знал за собою, был его поэтический дар; ясно, что он ничего общезначительного не мог от себя заранее внести в поэзию, которая и оставалась у него чистою поэзией, получавшею свое содержание не извне, а из себя самой. Основной отличительный признак этой поэзии – ее свобода от всякой предвзятой тенденции и от всякой претензии.
Господствующая тенденция Мицкевича была высока и прекрасна, но, когда она слишком явно выступает в его поэзии, она нарушает ее красоту; ведь потому и признается по справедливости «Пан Тадеуш» самым лучшим, если и не самым характерным произведением Мицкевича, что поэт здесь почти не отступает от своей чисто поэтической задачи и настолько же приближается к Пушкину, насколько отдаляется от Байрона. А что касается до этого «властителя дум», то ведь он весь был как бы одною гигантскою претензией, обращенной к Творцу и к творению. Никакой предвзятой, сознательной и преднамеренной тенденции и никакой претензии мы у Пушкина не встретим, если только будем смотреть на него прямо, если только сами подойдем к нему свободные от предвзятой тенденции и несправедливого притязания непременно высмотреть у поэта то, что для нас самих особенно приятно, получить от него не то, что он дает нам – поэтическую красоту – Бог с ней совсем! – а то, что нам нужно от него: авторитетную поддержку в наших собственных помыслах и заботах. При сильном желании и с помощью вырванных из целого отдельных кусков и кусочков можно, конечно, приписать Пушкину всевозможные тенденции, даже прямо противоположные друг другу: крайне прогрессивные и крайне ретроградные, религиозные и вольнодумные, западнические и славянофильские, аскетические и эпикурейские. Довольно трудно разобрать, какой из двух оттенков наивного самолюбия преобладает здесь в каждом случае: желание ли сделать честь Пушкину причислением его к таким превосходным людям, как мы, или желание сделать честь себе чрез единомыслие с нами такого превосходного человека, как Пушкин.
На самом деле в радужной поэзии Пушкина – все цвета, и попытка окрасить ее в один сама себя обличает явными натяжками и противоречиями, к которым она приводит. Действительная разноцветность пушкинской поэзии бросается всякому в глаза, и внешний, поверхностный взгляд видит здесь бессодержательность, безыдейность, бесхарактерность. На язык просится выражение: хамелеон, – которое не звучит похвалою. Но какой разумный смысл может иметь такое суждение? Какого рода содержание требуется здесь от поэзии? Кажется, всякое, кроме только поэтического. Но если вы у химика будете искать богословских положений, а у богослова – химических опытов, то, конечно, найдете бессодержательным и того, и другого. С таким же приблизительно логическим правом можно требовать заранее от поэта определенного образа мыслей – религиозного, политического, социологического и т. д. Искать в поэзии непременно какого-то особенного, постороннего ей содержания – значит не признавать за ней ее собственного, а в таком случае стоит ли и толковать о поэтах? Логичнее будет махнуть на них рукою, как на пустых и бессодержательных людей.
Но есть в поэзии свое содержание и своя польза. Поэзия может и должна служить делу истины и добра на земле, – но только по-своему, только своею красотою и ничем другим. Красота уже сама по себе находится в должном соотношении с истиной и добром, как их ощутительное проявление. Следовательно, все действительно поэтичное – значит, прекрасное – будет тем самым содержательно и полезно в лучшем смысле этого слова.
Ни в чем, кроме красоты, настоящая поэзия не нуждается: в красоте – ее смысл и ее польза. Правда, истекающий XIX век определился к своему концу как эпоха подделок[41 - У Соловьева есть знаменательная статья «О подделках» (1891), где речь идет об этом явлении, т. е. об имитациях в области религиозной веры.]. Подделываются молоко и вино. Но тут если не собственная стыдливость, то страх перед полицией и покупателями внушает виновным некоторую умеренность и приличие, ведь никакой фальсификатор не решится утверждать, что молоко и вино по самому назначению своему могут и должны быть бесполезны и даже вредны. Другое дело фальсификация красоты; этому «вольному художеству» закон не писан. Вечная красота объявляется старою красотой, и на ее руинах водружается знамя новой красоты, на котором лица, похожие на разных героев не то Щедрина, не то Достоевского, пишут свои девизы: «Дерзай!» – «Посягнем!» – «Плюй на все и торжествуй!» Между старою и новою красотою – то различие, что первая жила в тесном естественном союзе с добром и правдой, а вторая нашла такой союз для себя не только излишним, но и прямо неподходящим, нежелательным. Тут всего любопытнее вот что: сначала объявляется, что красота свободна от противоположности добра и зла, истины и лжи, что она выше этого дуализма и равнодушна к нему, а под конец вдруг оказывается, что эта свобода и красота и божественное как будто беспристрастие к обеим сторонам незаметно перешли в какую-то враждебность к одной стороне (именно правой: к истине и добру) и в какое-то неодолимое «влеченье – род недуга» к другой стороне (левой: к злу и лжи), – и в какой-то пифизм, демонизм, сатанизм и прочие «новые красоты», в сущности столь же старые, как «черт и его бабушка».
Но почему я говорю тут о подделке? Разве нет в действительной жизни красивого зла, изящной лжи, эстетического ужаса? Конечно, есть, без этого нечем было бы и подделывать красоту. Но что же отсюда следует? Блеск олова по природе похож на блеск серебра, и желтая медь своим натуральным цветом напоминает золото; но если мне поднесут оловянный полтинник или медный империал, то я, кажется, имею право назвать их фальшивыми. Действительные свойства ложной красоты даются природой, но выдавать ее за настоящую – это уже дело людей, и дело фальшивое. Такой обман, как всякий другой, обличается негодностью своих действий. И гнилушка светится, но такое освещение годится только для сов и филинов; и на болоте вспыхивают огоньки, но на таком огне не согреться и лягушкам.
Свет и огонь пушкинской поэзии шли не из гниющего болота. Ее неподдельная красота была внутренне нераздельна с добром и правдой. Может быть, семиствольная цевница, которую дала ему Муза, была сделана из болотного тростника, но –
Тростник был оживлен божественным дыханьем
И душу наполнял святым очарованьем[42 - «И сердце наполнял святым очарованьем…» («Муза», 1821).], –
и ничего не говорил о «новой красоте». Служителям последней приходится, таким образом, или насильно навязывать Пушкину свои вожделения, вовсе ему чуждые, или объявлять его поэзию бессодержательною, неинтересною, ненужною.
II
Настоящая чистая поэзия требует от своего жреца лишь неограниченной восприимчивости душевного чувства, чутко послушного высшему вдохновению. Ум, как начало самодеятельности в человеке, тут ни при чем. Лично Пушкин был бесспорно умнейший человек, блестящие искры его ума рассеяны в его письмах, записках, статьях, эпиграммах и т. д. Все это очень ценно, но не здесь бесценное достоинство и значение Пушкина; он нам безусловно дорог не своими умными, а своими вдохновенными произведениями. Перед вдохновением ум молчит. Острый и ясный ум Пушкина в соединении с тонким вкусом, с верным словесным тактом и с широким литературным образованием – все это выступало вперед и вступало в свои права, когда исчезал «быстрый холод вдохновенья»[43 - «Жуковскому» («Когда к мечтательному миру», 1818).], когда приходилось окончательно обрабатывать, отделывать по суждению ума то, что было сделано не от ума, а создано под высшим наитием. Не все, написанное Пушкиным, даже в стихах, принадлежит к пушкинской поэзии: ведь и человек, в высокой степени способный к вдохновению, не всегда испытывает его действие, когда берется за перо. Но если дело идет о настоящих пушкинских стихах, то всякий чуткий к поэзии читатель также забудет про то, что Пушкин был умен, как и про то, что у него был изящный почерк. Ну, из какого ума мог выйти тот божественный вздох, которым живут и дышат вот такие простейшие и обыкновеннейшие слова:
Еще кого не досчитались вы?
Кто изменил пленительной привычке?
Кого из вас увлек холодный свет?[44 - «Кого от вас увлек холодный свет?» («19 октября», 1825). И далее три отрывка цитируются из этого же стихотворения.]
Чей глас умолк на братской перекличке?
Кто не пришел? Кого меж нами нет?..
Искусство ума человеческого может из простой глины сделать прекраснейший горшок, но вложить в глину живую душу – не его дело. И какой ум в нескольких словах может воплотить такой захватывающий душу образ:
Сидишь ли ты в кругу друзей[45 - «Сидишь ли ты в кругу своих друзей…»],
Чужих небес любовник беспокойный,
Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лед полуночных морей?
…
Ты простирал из-за моря к нам руку[46 - «Ты простирал из-за моря нам руку…»],
Ты нас одних в младой душе носил
И повторял: на долгую разлуку
Нас тайный рок, быть может, осудил…
Где же тут работа ума? Как можно придумать эту гениальную простоту? Здесь веет «дух песен» из светлого отрочества, здесь воскресает материнская ласка Музы:
С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали,
С младенчества две Музы к нам летали,
И сладок был их лаской наш удел.
Но «дух песен» и «ласка Музы», это все – метафоры. Положим. Но вот совершенно трезвое, точное, можно сказать, наукообразное, чуть ли не протокольное описание той наличной реальности, которую эти метафоры объясняют, а на иной взгляд – только затемняют. Вот простое описание самим поэтом его творческого процесса, – описание, подходящее, конечно, и к внутреннему опыту всех других поэтов, насколько они сами близки к Пушкину, как чистому поэту, – поэту по преимуществу. Первое условие: полное уединение, – и, к счастью, оно нередко выпадало на долю невольного и вольного изгнанника. Лучшее место – глухая деревня; лучшее время – глухая осень – дни поздней осени, когда:
«Особенно замечательно то, – пишет Жуковский, – что в эти последние часы жизни он как будто сделался иной: буря, которая за несколько часов волновала его душу неодолимой страстью, исчезла, не оставив в ней следа; ни слова, ни воспоминания о случившемся». Но это не было потерею памяти, а внутренним повышением и очищением нравственного сознания и его действительным освобождением из плена страсти. Когда его товарищ и секундант Данзас, – рассказывает кн. Вяземский, – желая выведать, в каких чувствах умирает он к Геккерну, спросил его: не поручит ли он ему чего-нибудь в случае смерти касательно Геккерна, – «Требую, – отвечал он, – чтобы ты не мстил за мою смерть: прощаю ему и хочу умереть христианином».
Описывая первые минуты после смерти, Жуковский пишет: «Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти… Что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо. Это не было ни сон, ни покой; не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; не было также и выражение поэтическое. Нет! какая-то важная, удивительная мысль на нем разливалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубоко удовлетворяющее знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить: что видишь, друг? И что бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть?»[30 - Вот точный текст этого места из письма В. А. Жуковского к отцу поэта, С. Л. Пушкину, от 15 февраля 1837 г., известное в печати под названием «Последние минуты Пушкина»: «Когда все ушли, я сел перед ним и долго, один, смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти… Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо. Это не было ни сон, ни покой; не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; не было также и выражение поэтическое, нет! какая-то важная удивительная мысль на нем развивалась; что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое удовлетворенное знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить: что видишь, друг? И что бы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть?.. В эту минуту, можно сказать, я увидал лицо самой смерти, божественно-тайное; лицо смерти без покрывала».]
Хотя нельзя угадать, какие слова сказал бы своему другу возродившийся через смерть великий поэт, но можно наверное отвечать за то, чего бы он не сказал. Он не сказал бы того, что твердят его неразумные поклонники, делающие из великого человека своего маленького идола. Он не сказал бы, что погиб от злой враждебной судьбы, не сказал бы, что его смерть была бессмысленною и бесцельною, не стал бы жаловаться на свет, на общественную среду, на своих врагов; в его словах не было бы укора, ропота и негодования. И эта несомненная уверенность в том, чего бы он не сказал, – уверенность, которая не нуждается ни в каких доказательствах, потому что она прямо дается простым фактическим описанием его последних часов, – эта уверенность есть последнее благодеяние, за которое мы должны быть признательны великому человеку. Окончательное торжество духа в нем и его примирение с Богом и с миром примиряют нас с его смертью: эта смерть не была безвременною.
– Как? – скажут, – а те дивные художественные создания, которые он еще носил в своей душе и не успел дать нам, а те сокровища мысли и творчества, которыми бы он мог обогатить нашу словесность в свои зрелые и старческие годы?
Какой внешний, механический взгляд! Никаких новых художественных созданий Пушкин нам не мог дать и никакими сокровищами не мог больше обогатить нашу словесность.
XII
Мы знаем, что дуэль Пушкина была не внешней случайностью, от него не зависевшею, а прямым следствием той внутренней бури, которая его охватила и которой он отдался сознательно, несмотря ни на какие провиденциальные препятствия и предостережения. Он сознательно принял свою личную страсть за основание своих действий, сознательно решил довести свою вражду до конца, до дна исчерпать свой гнев. Один из его ближайших друзей, князь Вяземский, в том самом письме, в котором он описывает его христианскую кончину, обращаясь назад, к истории дуэли, замечает: «Ему нужен был кровавый исход»[31 - Письмо П. А. Вяземского к А. Я. Булгакову от 9 февраля 1837 г.]. Мы не можем говорить о тайных состояниях его души; но два явные факта достаточно доказывают, что его личная воля бесповоротно определилась в этом отношении и уже не была доступна никаким житейским воздействиям, – я разумею: нарушенное слово императору и последний выстрел в противника.
В том внутреннем состоянии, о котором мы вправе заключать из этих двух фактов, даже рана его самого или Геккерна не могла бы укротить его душевную бурю и переменить его решимость довести дело до конца. При такой решимости, которая была несомненна и для друзей, дуэль могла иметь только два исхода: или смерть самого Пушкина, или смерть его противника. Для иных поклонников поэта второй исход представлялся бы справедливым и желательным. Зачем убит гений, а ничтожный чело век остался в живых? Как же это, однако? Неужели с этою «успешною» дуэлью на душе Пушкин мог бы спокойно творить новые художественные произведения, озаренные высшим светом христианского сознания, до которого он уже раньше достиг?
Делать предположения, забывая о действительной природе и собственных взглядах человека, составляющего их предмет, есть ребяческая забава. Пусть эстетическое идолопоклонство ставит себя выше различия между добром и злом, но какое же это имеет отношение к действительному Пушкину, который никогда на эту точку зрения не становился, а под конец пришел к положительным христианским убеждениям, прямо не допускающим такого безразличия? Если Пушкин в зрелом возрасте стал уже тяготиться противоречием между требованиями поэзии и требованиями житейской суеты, то каким же образом мог бы он примириться с гораздо более глубоким противоречием между служением высшей красоте, священной и величавой, и фактом убийства из-за личной злобы?
Мы не создаем Пушкина по своему образу и подобию, а берем действительно Пушкина с его действительным характером и с теми убеждениями и взглядами, которые действительно сложились у него к этому времени. Уже в шестой главе «Евгения Онегина» есть ясное указание на то, как далеко был бы поэт от безразличия, если бы ему пришлось убить на дуэли хотя бы ненавистного и презренного врага:
Приятно дерзкой эпиграммой
Взбесить оплошного врага…
и т. д.
Но отослать его к отцам
Едва ль приятно будет вам[32 - «Евгений Онегин», гл. 6, строфа XXXIII.].
Так говорил еще не перегоревший в юных страстях автор «Евгения Онегина»; что бы сказал возмужалый автор «Пророка» и «Отцы пустынники и жены непорочны»? Добровольно отдавшись злой буре, которая его увлекала, Пушкин мог и хотел убить человека, но с действительною смертью противника вся эта буря прошла бы мгновенно, и осталось бы только сознание о бесповоротно совершившемся злом и безумном деле. У кого с именем Пушкина соединяется действительный духовный образ поэта в его зрелые годы, тот согласится, что конец этой добровольной с его стороны, им самим вызванной, дуэли – смертью противника – был бы для Пушкина во всяком случае жизненною катастрофою. Не мог бы он с такою тяжестью на душе по-прежнему привольно подниматься на вершины вдохновения для «звуков сладких и молитв»; не мог бы он с кровью нечистой человеческой жертвы на руках приносить священную жертву светлому божеству поэзии; для нарушителя нравственного закона нельзя уже было чувствовать себя царем над толпою, и для невольника страсти – свободным пророческим глаголом жечь сердца людей. При той высоте духа, которая была ему доступна и которую так явно открыли его последние мгновения, легких и дешевых расчетов с совестью не бывает.
Для примирения с собою Пушкин мог отречься от мира, пойти куда-нибудь на Афон, или он мог избрать более трудный путь невидимого смирения, чтобы искупить свой грех в той же среде, в которой его совершил и против которой был виноват своею нравственною немощью, своим недостойным уподоблением ничтожной толпе. Но так или иначе, – под видом ли духовного или светского подвижника, – во всяком случае Пушкин после катастрофы жил бы только для дела личного душеспасения, а не для прежнего служения чистой поэзии. Прежде в простой и открытой душе поэта полнота жизненных впечатлений кристаллизовалась в прозрачную «объективную» призму, где сходивший на него в минуту вдохновения белый луч творческого озарения становился живою радугою. Но такой лучезарный, торжествующий характер поэзии имел неизбежно соответствующее ему основание в душевном строе поэта – ту непосредственную созвучность с всемирным благим смыслом бытия, ту жизнерадостную и добродушную ясность, все те свойства, которыми отличался Пушкин до катастрофы и которых он не мог сохранить после нее. При том исходе дуэли, которого бы желали иные поклонники Пушкина, поэзия ничего бы не выиграла, а поэт потерял бы очень много: вместо трехдневных физических страданий ему пришлось бы многолетнею нравственною агонией достигать той же окончательной цели: своего духовного возрождения. Поэзия сама по себе не есть ни добро, ни зло: она есть цветение и сияние духовных сил – добрых или злых. У ада есть свой мимолетный цвет и свое обманчивое сияние. Поэзия Пушкина не была и не могла быть таким цветом и сиянием ада, а сохранить и возвести на новую высоту добрый смысл своей поэзии он уже не мог бы, так как ему пришлось бы всю душу свою положить на внутреннее нравственное примирение с потерянным в кровавом деле добром. Не то чтобы дело дуэли само по себе было таким ужасным злом. Оно может быть извинительно для многих, оно могло быть извинительно для самого Пушкина в пору ранней юности. Но для Пушкина 1837 г., для автора «Пророка», убийство личного врага, хотя бы на дуэли, было бы нравственною катастрофою, последствия которой не могли бы быть исправлены «между прочим», в свободное от литературных занятий время, – для восстановления духовного равновесия потребовалась бы вся жизнь.
Все многообразные пути, которыми люди, призванные к духовному возрождению, действительно приходят к нему, в сущности сводятся к двум: или путь внутреннего перелома, внутреннего решения лучшей воли, побеждающей низшие влечения и приводящей человека к истинному самообладанию; или путь жизненной катастрофы, освобождающей дух от непосильного ему бремени одолевших его страстей. Беззаветно отдавшись своему гневу, Пушкин отказался от первого пути и тем самым избрал второй, – и неужели мы будем печалиться о том, что этот путь не был отягощен для него виною чужой смерти и что духовное очищение могло совершиться в три дня?
Вот вся судьба Пушкина. Эту судьбу мы по совести должны признать, во-первых, доброю, потому что она вела человека к наилучшей цели – к духовному возрождению, к высшему и единственно достойному его благу; а во-вторых, мы должны признать ее разумною, потому что этой наилучшей цели она достигла простейшим и легчайшим в данном положении, т. е. наилучшим способом. Судьба не есть произвол человека, но она не может управлять человеческою жизнью без участия собственной воли человека, а при данном состоянии воли этого человека то, что с ним произошло, должно было произойти, и есть самое лучшее из того, что вообще могло бы с ним произойти, т. е. кажется возможным.
Природа судьбы вообще и, следовательно, судьба всякого человеческого существа не объясняется вполне тем, что мы видим в судьбе такого особенного человека, как Пушкин: нельзя химический анализ Нарзана принимать всецело за анализ всякой воды. Как в Нарзане есть то, чего нет ни в какой другой воде, так, с другой стороны, для полного отчета о составе нашей невской воды приходится принимать во внимание такие осложнения, каких не найдется ни в Нарзане, ни в каком-либо другом целебном источнике. Но все-таки мы наверно найдем и в Неве, и в Нарзане, и во всякой другой воде основные вещества – водород и кислород, – без них никакой воды не бывает. При всей своей особенности судьба Пушкина показывает нам – лишь с большею яркостью – те основные черты, которые мы отыщем, если захотим и сумеем искать, во всякой человеческой судьбе, как бы она ни была осложнена или, напротив, упрощена. Судьба вообще не есть простая стихия, она разлагается на два элемента: высшее добро и высший разум, и присущая ей необходимость есть преодолевающая сила разумно-нравственного порядка, независимого от нас по существу, но воплощающегося в нашей жизни только чрез нашу собственную волю. А если так, то я думаю, что темное слово «судьба» лучше нам будет заменить ясным и определенным выражением – Провидение Божие.
Значение поэзии в стихотворениях Пушкина
В конце нынешнего юбилейного года, после того как Пушкин освещался и рассматривался со всяких сторон, осталось еще сказать о нем разве только как о поэте, – не потому, конечно, чтобы о пушкинской поэзии вовсе не говорилось при чествовании поэта, а потому, что о ней говорилось или слишком мало, или недостаточно принципиально, а то и слишком неладно[33 - Образцы неладных речей были мною показаны в заметке об «Особом чествовании Пушкина».]. В других отношениях эта столетняя годовщина не прошла бесследно, и было бы неблагодарностью не помянуть ее добрым словом. Кроме первого тома академического издания сочинений Пушкина[34 - Речь идет об академическом издании 1899 г.: Пушкин А.С. Сочинения. Приготовил и примечаниями снабдил Леонид Майков. Т. I. Лирические стихотворения (1812–1817). СПб.], следует указать еще на очень важные, хотя и не бросающиеся в глаза данные для личной характеристики поэта – в биографических исследованиях Л. Н. Майкова о нескольких близких Пушкину лицах (особенно о его товарище Пущине и об А. П. Керн)[35 - По всей видимости, Соловьев подразумевает издание: Майков Л. Н. Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. СПб., 1899.]; затем – на чрезвычайно полный и обстоятельный труд Ф. Е. Корша об особенностях пушкинской версификации (по поводу вопроса об окончании «Русалки»)[36 - Корш Ф. Е. Разбор вопроса о подлинности окончания «Русалки» Пушкина по записи Д. Л. Зуева // Известия ОРЯ. СПб., 1898. № 3; 1899. № 1, 2.], интересный и в некоторых других отношениях; далее, по счастливому совпадению, в этом году вышел IV том обширной «Истории русской литературы» А. Н. Пыпина: значительная часть этого тома занята Пушкиным, с приложением полнейшей библиографии о нем. Из общих взглядов и рассуждений касательно Пушкина, кроме нескольких прекрасных юбилейных речей в Петербурге и в Москве (с одною из петербургских читатели «Вестника Европы» хорошо знакомы)[37 - В кн.: Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М.: Искусство, 1991. А. А. Носов на с. 670 (прим. 5) ссылается на статью: А. Ф. Кони. Нравственный облик Пушкина. // Вестник Европы. СПб., 1899. № 10.], – следует в особенности отметить только что появившуюся статью М.O. Меньшикова, защищающего Пушкина от «клеветы обожания»[38 - «Книжки Недели», октябрь 1899 г.]. Правда, это заглавие, при всем своем остроумии, есть одна из немногих ошибок в талантливой и симпатичной статье г. Меньшикова: клевета, как в юридическом, так и в житейском смысле, есть заведомо ложное, следовательно, злоумышленное приписывание кому-нибудь дурных свойств, ему не принадлежащих, или постыдных деяний, им не совершенных. Обожатели Пушкина, конечно, не клеветали и не могли клеветать на него, когда высказывали о нем свои чрезвычайно неосновательные, хотя весьма к нему благожелательные и, следовательно, никак не клеветнические суждения, и г. Меньшиков правильнее бы выразил свой упрек словами: нерассудительность обожания, бессмыслица обожания и т. п. Ведь если бы какой-нибудь обожатель Петра Великого стал утверждать, что славней шее дело этого государя есть суд над царевичем Алексеем, то состава клеветы тут не было бы, а была бы лишь нелепая оценка исторических фактов; или если бы чья-нибудь извращенная мысль подарила нас заявлением, что вся сила и красота солнца заключается в его пятнах, то и это была бы не клевета, а только глупость. Кроме неточности заглавия автор этой примечательной статьи заслуживает упрека за неверную мысль о ненужности и зловредности Петербурга. Мнимая ошибка Петра Великого – действительная ошибка г. Меньшикова. Впрочем, к этому антиисторическому и противопушкинскому взгляду мы еще вернемся.
Никто не скажет, конечно, чтобы и те вопросы касательно Пушкина, которые внимательно рассматривались в год его столетия, были исчерпаны, но менее всего это можно сказать об эстетической стороне дела, о значении пушкинской поэзии по существу. Поздние пришельцы на роскошное словесное пиршество этого года, вместо ожидаемых – по латинской пословице – костей, к удивлению своему находят лучшее блюдо почти нетронутым. При всей должной скромности, трудно не воспользоваться таким счастливым случаем. Задачу эстетического обсуждения пушкинской поэзии я облегчил для себя тем, что заранее (более двух лет тому назад) рассмотрел с своей точки зрения важнейший из неэстетических вопросов касательно Пушкина, именно вопрос о нравственном смысле той роковой катастрофы, которая прервала земную жизнь поэта, дав ему, впрочем, время для окончательного душевного очищения и просветления.
Этический взгляд, изложенный в статье «Судьба Пушкина»[39 - «Вестник Европы», сентябрь 1897 г. (в следующем году изд. отдельно).] и сводящийся к тому простому положению, что гений обязывает и что кому много дано, с того много и взыщется, вызвал общее неудовольствие и единогласное осуждение в печати[40 - Точнее – почти единогласное: среди нескольких десятков бранных отзывов, попавшихся мне на глаза, я помню один не не бранный[503 - Обзор откликов на «Судьбу Пушкина» см. в упомянутом комментарии А. А. Носова. С. 664.].]. Но мотивы такого неудовольствия относились ко всему, что угодно, только не к тому, что было действительно мною высказано и что осталось совсем не затронутым в многочисленных статьях и заметках, появлявшихся в эти два года по поводу «Судьбы Пушкина». Не имея никакой разумной причины останавливаться на такой «критике» или в чем-нибудь изменять те мысли, которые встретили столько порицаний, но ни одного возражения, мало-мальски относящегося к делу, – я могу теперь, говоря о поэзии Пушкина, не возвращаться снова к вопросу о его личной судьбе. В тех случаях, когда мне придется по естественной связи предметов мимоходом коснуться и этого вопроса, читатели «Вестника Европы» позволят мне предполагать, что взгляд мой на дело им известен и не требует повторительного изложения.
I
Пушкинская поэзия есть поэзия по существу и по преимуществу, – не допускающая никакого частного и одностороннего определения. Самая сущность поэзии – то, что, собственно, ее составляет или что поэтично само по себе, – нигде не проявлялась с такою чистотою, как именно у Пушкина, – хотя были поэты сильнее его. В самом деле, признавать Пушкина поэтом по преимуществу еще не значит признавать его величайшим из поэтов. Сила поэтического творчества может проистекать из разнородных источников, и самое чистое и полное выражение поэзии как таковой может еще и не быть самым сильным и грандиозным. Не тревожа колоссальных теней Гомера и Данте, Шекспира и Гёте, – можно предпочитать Пушкину и Байрона, и Мицкевича. С известных сторон такое предпочтение не только понятно как личный вкус, но и требуется беспристрастною оценкой. И все-таки Пушкин остается поэтом по преимуществу, более беспримесным, – чем все прочие, – выразителем чистой поэзии. То, чем Байрон и Мицкевич были значительнее его, вытекало не из существа поэзии как такой и не из поэтической стороны их дарования, а зависело от других элементов их душевной природы. Байрон превосходил Пушкина напряженною силой своего самочувствия и самоутверждения, это был более сосредоточенный ум и более могучий характер, что выражалось, разумеется, и в его поэзии, усиливая ее внушающее действие, делая из поэта «властителя дум». Мицкевич был больше Пушкина глубиною своего религиозного чувства, серьезностью своих нравственных требований от личной и народной жизни, высотою своих мистических помыслов, и главное – своим всегдашним стремлением покорять все личное и житейское тому, что он сознавал как безусловное должное, – и все это, конечно, звучало и в стихах Мицкевича, – хотя бы и не имевших прямо религиозного содержания, – сообщая им особую привлекательность для душ, соответственно настроенных. Но как демоническое высокомерие Байрона, так и религиозная высота Мицкевича были такие их свойства, которые проявились бы так или иначе и в том случае, если бы эти два могучие человека не написали ни одной поэтической строки. А так как они были притом Божиею милостью и гениальные поэты, то господствующие стороны их личности, сверх своего общего значения, естественно нашли себе выражение и в их поэзии, хотя у Мицкевича стихотворения намеренно религиозные, понятно, слабее других; выражаясь в поэзии, эти особые элементы ведь не выражали ее собственной эстетической сущности. Байрон и Мицкевич от себя привносили такое содержание, которое при всей своей значительности не было, однако, существенно для поэзии как такой: один внес свой демонизм, другой – свою религиозную мистику. У Пушкина такого господствующего центрального содержания личности никогда не было, а была просто живая, открытая, необыкновенно восприимчивая и отзывчивая ко всему душа – и больше ничего. Единственно крупное и важное, что он знал за собою, был его поэтический дар; ясно, что он ничего общезначительного не мог от себя заранее внести в поэзию, которая и оставалась у него чистою поэзией, получавшею свое содержание не извне, а из себя самой. Основной отличительный признак этой поэзии – ее свобода от всякой предвзятой тенденции и от всякой претензии.
Господствующая тенденция Мицкевича была высока и прекрасна, но, когда она слишком явно выступает в его поэзии, она нарушает ее красоту; ведь потому и признается по справедливости «Пан Тадеуш» самым лучшим, если и не самым характерным произведением Мицкевича, что поэт здесь почти не отступает от своей чисто поэтической задачи и настолько же приближается к Пушкину, насколько отдаляется от Байрона. А что касается до этого «властителя дум», то ведь он весь был как бы одною гигантскою претензией, обращенной к Творцу и к творению. Никакой предвзятой, сознательной и преднамеренной тенденции и никакой претензии мы у Пушкина не встретим, если только будем смотреть на него прямо, если только сами подойдем к нему свободные от предвзятой тенденции и несправедливого притязания непременно высмотреть у поэта то, что для нас самих особенно приятно, получить от него не то, что он дает нам – поэтическую красоту – Бог с ней совсем! – а то, что нам нужно от него: авторитетную поддержку в наших собственных помыслах и заботах. При сильном желании и с помощью вырванных из целого отдельных кусков и кусочков можно, конечно, приписать Пушкину всевозможные тенденции, даже прямо противоположные друг другу: крайне прогрессивные и крайне ретроградные, религиозные и вольнодумные, западнические и славянофильские, аскетические и эпикурейские. Довольно трудно разобрать, какой из двух оттенков наивного самолюбия преобладает здесь в каждом случае: желание ли сделать честь Пушкину причислением его к таким превосходным людям, как мы, или желание сделать честь себе чрез единомыслие с нами такого превосходного человека, как Пушкин.
На самом деле в радужной поэзии Пушкина – все цвета, и попытка окрасить ее в один сама себя обличает явными натяжками и противоречиями, к которым она приводит. Действительная разноцветность пушкинской поэзии бросается всякому в глаза, и внешний, поверхностный взгляд видит здесь бессодержательность, безыдейность, бесхарактерность. На язык просится выражение: хамелеон, – которое не звучит похвалою. Но какой разумный смысл может иметь такое суждение? Какого рода содержание требуется здесь от поэзии? Кажется, всякое, кроме только поэтического. Но если вы у химика будете искать богословских положений, а у богослова – химических опытов, то, конечно, найдете бессодержательным и того, и другого. С таким же приблизительно логическим правом можно требовать заранее от поэта определенного образа мыслей – религиозного, политического, социологического и т. д. Искать в поэзии непременно какого-то особенного, постороннего ей содержания – значит не признавать за ней ее собственного, а в таком случае стоит ли и толковать о поэтах? Логичнее будет махнуть на них рукою, как на пустых и бессодержательных людей.
Но есть в поэзии свое содержание и своя польза. Поэзия может и должна служить делу истины и добра на земле, – но только по-своему, только своею красотою и ничем другим. Красота уже сама по себе находится в должном соотношении с истиной и добром, как их ощутительное проявление. Следовательно, все действительно поэтичное – значит, прекрасное – будет тем самым содержательно и полезно в лучшем смысле этого слова.
Ни в чем, кроме красоты, настоящая поэзия не нуждается: в красоте – ее смысл и ее польза. Правда, истекающий XIX век определился к своему концу как эпоха подделок[41 - У Соловьева есть знаменательная статья «О подделках» (1891), где речь идет об этом явлении, т. е. об имитациях в области религиозной веры.]. Подделываются молоко и вино. Но тут если не собственная стыдливость, то страх перед полицией и покупателями внушает виновным некоторую умеренность и приличие, ведь никакой фальсификатор не решится утверждать, что молоко и вино по самому назначению своему могут и должны быть бесполезны и даже вредны. Другое дело фальсификация красоты; этому «вольному художеству» закон не писан. Вечная красота объявляется старою красотой, и на ее руинах водружается знамя новой красоты, на котором лица, похожие на разных героев не то Щедрина, не то Достоевского, пишут свои девизы: «Дерзай!» – «Посягнем!» – «Плюй на все и торжествуй!» Между старою и новою красотою – то различие, что первая жила в тесном естественном союзе с добром и правдой, а вторая нашла такой союз для себя не только излишним, но и прямо неподходящим, нежелательным. Тут всего любопытнее вот что: сначала объявляется, что красота свободна от противоположности добра и зла, истины и лжи, что она выше этого дуализма и равнодушна к нему, а под конец вдруг оказывается, что эта свобода и красота и божественное как будто беспристрастие к обеим сторонам незаметно перешли в какую-то враждебность к одной стороне (именно правой: к истине и добру) и в какое-то неодолимое «влеченье – род недуга» к другой стороне (левой: к злу и лжи), – и в какой-то пифизм, демонизм, сатанизм и прочие «новые красоты», в сущности столь же старые, как «черт и его бабушка».
Но почему я говорю тут о подделке? Разве нет в действительной жизни красивого зла, изящной лжи, эстетического ужаса? Конечно, есть, без этого нечем было бы и подделывать красоту. Но что же отсюда следует? Блеск олова по природе похож на блеск серебра, и желтая медь своим натуральным цветом напоминает золото; но если мне поднесут оловянный полтинник или медный империал, то я, кажется, имею право назвать их фальшивыми. Действительные свойства ложной красоты даются природой, но выдавать ее за настоящую – это уже дело людей, и дело фальшивое. Такой обман, как всякий другой, обличается негодностью своих действий. И гнилушка светится, но такое освещение годится только для сов и филинов; и на болоте вспыхивают огоньки, но на таком огне не согреться и лягушкам.
Свет и огонь пушкинской поэзии шли не из гниющего болота. Ее неподдельная красота была внутренне нераздельна с добром и правдой. Может быть, семиствольная цевница, которую дала ему Муза, была сделана из болотного тростника, но –
Тростник был оживлен божественным дыханьем
И душу наполнял святым очарованьем[42 - «И сердце наполнял святым очарованьем…» («Муза», 1821).], –
и ничего не говорил о «новой красоте». Служителям последней приходится, таким образом, или насильно навязывать Пушкину свои вожделения, вовсе ему чуждые, или объявлять его поэзию бессодержательною, неинтересною, ненужною.
II
Настоящая чистая поэзия требует от своего жреца лишь неограниченной восприимчивости душевного чувства, чутко послушного высшему вдохновению. Ум, как начало самодеятельности в человеке, тут ни при чем. Лично Пушкин был бесспорно умнейший человек, блестящие искры его ума рассеяны в его письмах, записках, статьях, эпиграммах и т. д. Все это очень ценно, но не здесь бесценное достоинство и значение Пушкина; он нам безусловно дорог не своими умными, а своими вдохновенными произведениями. Перед вдохновением ум молчит. Острый и ясный ум Пушкина в соединении с тонким вкусом, с верным словесным тактом и с широким литературным образованием – все это выступало вперед и вступало в свои права, когда исчезал «быстрый холод вдохновенья»[43 - «Жуковскому» («Когда к мечтательному миру», 1818).], когда приходилось окончательно обрабатывать, отделывать по суждению ума то, что было сделано не от ума, а создано под высшим наитием. Не все, написанное Пушкиным, даже в стихах, принадлежит к пушкинской поэзии: ведь и человек, в высокой степени способный к вдохновению, не всегда испытывает его действие, когда берется за перо. Но если дело идет о настоящих пушкинских стихах, то всякий чуткий к поэзии читатель также забудет про то, что Пушкин был умен, как и про то, что у него был изящный почерк. Ну, из какого ума мог выйти тот божественный вздох, которым живут и дышат вот такие простейшие и обыкновеннейшие слова:
Еще кого не досчитались вы?
Кто изменил пленительной привычке?
Кого из вас увлек холодный свет?[44 - «Кого от вас увлек холодный свет?» («19 октября», 1825). И далее три отрывка цитируются из этого же стихотворения.]
Чей глас умолк на братской перекличке?
Кто не пришел? Кого меж нами нет?..
Искусство ума человеческого может из простой глины сделать прекраснейший горшок, но вложить в глину живую душу – не его дело. И какой ум в нескольких словах может воплотить такой захватывающий душу образ:
Сидишь ли ты в кругу друзей[45 - «Сидишь ли ты в кругу своих друзей…»],
Чужих небес любовник беспокойный,
Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лед полуночных морей?
…
Ты простирал из-за моря к нам руку[46 - «Ты простирал из-за моря нам руку…»],
Ты нас одних в младой душе носил
И повторял: на долгую разлуку
Нас тайный рок, быть может, осудил…
Где же тут работа ума? Как можно придумать эту гениальную простоту? Здесь веет «дух песен» из светлого отрочества, здесь воскресает материнская ласка Музы:
С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали,
С младенчества две Музы к нам летали,
И сладок был их лаской наш удел.
Но «дух песен» и «ласка Музы», это все – метафоры. Положим. Но вот совершенно трезвое, точное, можно сказать, наукообразное, чуть ли не протокольное описание той наличной реальности, которую эти метафоры объясняют, а на иной взгляд – только затемняют. Вот простое описание самим поэтом его творческого процесса, – описание, подходящее, конечно, и к внутреннему опыту всех других поэтов, насколько они сами близки к Пушкину, как чистому поэту, – поэту по преимуществу. Первое условие: полное уединение, – и, к счастью, оно нередко выпадало на долю невольного и вольного изгнанника. Лучшее место – глухая деревня; лучшее время – глухая осень – дни поздней осени, когда: