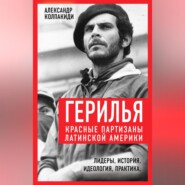По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Счастье. Двадцать семь неожиданных признаний
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Эльвира Васильевна быстро подошла ко мне, бегло посмотрела на плоды моей инженерной деятельности, слегка тревожно оглянулась по сторонам и громко, так чтобы услышали члены комиссии, сказала: «Молодец! Правильно!»
Эта похвала настолько меня взбодрила, я настолько уверовал в тот момент во всесилие человеческого разума вообще и моего в частности, что, не пожелав останавливаться на достигнутом, я решил испытать это чудо техники, для чего напялил на себя наушники и стал нажимать на какие-то кнопки и вертеть туда-сюда какие-то рычажки и кружочки. Не услышав ничего, даже характерного потрескивания, а просто совсем ничего, я зачем-то на весь класс произнес с некоторым даже как бы вызовом, с некоторой даже как бы претензией, относящейся, впрочем, непонятно к кому. Я сказал: «А почему это ничего не слышно?»
Эльвира Васильевна, мгновенно покрывшись пунцовыми пятнами, ринулась ко мне и, не разжимая зубов, прошипела: «Немедленно разбери».
Я как-то сразу все понял. И разобрал.
И комиссия так ничего и не заметила! Или сделала вид, что не заметила – какая разница!
Хорошо помню, что из класса я выходил окрыленный. Еще бы: все закончилось наилучшим образом. А что я так и не собрал приемник, так на черта он мне нужен!
На черта он мне нужен, когда такое счастье – тройка по физике, о самом существовании которой я прямо уже сейчас имею полное право забыть навсегда. Счастье! Счастье в химически… нет, в данном случае в физически чистом виде.
Ну и наконец.
Мой знакомый, житель Вологды, однажды приехал в очередной раз в Москву и в первый же вечер пошел в какой-то ресторан.
Человек он был, в общем-то, выпивающий и в этом состоянии довольно, надо сказать, конфликтный, чтобы не сказать скандальный.
В общем, он там, в этом ресторане, умудрился очень быстро поругаться с одним из посетителей, сидевшим за соседним столом, и они отправились в уборную, чтобы без свидетелей выяснить характер внезапно вспыхнувших между ними неравнодушных отношений.
Сначала, без особых предисловий, ударили его. Потом, соответственно, он. Двинув своему оппоненту по скуле, он с ужасом увидел, как из головы ударенного выпал небольшой шарик, звонко ударился о кафельный пол, пару раз задорно подпрыгнул и шустро закатился под раковину.
Это был глазной протез.
Мой знакомый настолько перепугался, что мигом протрезвел, тут же стал мириться, и они вдвоем принялись рыскать под раковиной в поисках утерянного ока.
И они его нашли! И глаз этот был торжественно инсталлирован на свое законное место. А его совместные и, главное, успешные поиски стали волею обстоятельств причиной не только бурного примирения конфликтующих сторон, но и наметившейся задушевной дружбы, за что и было немедленно выпито по бокалу шампанского.
Впрочем, это мой знакомый сказал, что по бокалу. Зная его, я думаю, что не по бокалу. И думаю, что не шампанского. Впрочем, какая разница, когда такое счастье, когда вот же он, мир во всем мире и благорастворение воздухов!
Ну вот…
Так чего не хватает нам? Правильно, нам остро не хватает жизненных сюжетов, которые бы хорошо заканчивались. Не хватает нам историй, пусть и не вполне гладких, пусть даже драматических и временами болезненных, но таких, чтобы непременно со счастливым концом.
Их смертельно не хватает, как не хватает светлого времени суток, как постоянно не хватает нам солнечного света.
Диккенса нам ужасно не хватает. Не хватает нам рождественских сказок. А пуще всего – своих же собственных историй, в силу их мнимой ничтожности и малозначимости не удостоенных входного билета в так называемую Большую Культуру.
Но мы вспоминаем их время от времени, осознав вдруг, что нам это совершенно необходимо.
Потому что счастье надежнее всего прячется до поры до времени в складках и потайных кармашках нашей легкомысленной, безответственной и часто неряшливой памяти, и его не так-то просто отыскать среди мятых бумажек, горелых спичек и засохших яблочных огрызков. Но зато, когда оно вдруг обнаруживается, оно обдает таким жаром!
Давайте вспоминать.
Ира Нахова. Мука, Гагарин, булочка и резиновый клей[3 - Ира Нахова – один из первых русских художников, начавший заниматься искусством инсталляции в России, создав в середине 1980-х в своей квартире серию проектов «Комнаты». В 2013 году Нахова стала лауреатом премии Кандинского в номинации «Проект года». А в 2015 году – первой женщиной-художницей, представившей Русский павильон на Венецианской биеннале. Живет и работает в Москве и Нью-Джерси (США).]
Счастье коллективное и счастье индивидуальное
Булочка
Чем дольше живешь, тем представление о счастье становится все более телесным: ничего не болит, температура окружающей среды хорошая, ветерок шевелит за ухом приятно, да и достигается это счастье все больше и больше химическим путем. Таблетками.
Если говорить о предрасположенности людей к счастью, то я – счастливый человек. Мне достался счастливый баланс серотонина, дофамина и эндорфина. Скорей всего, от Исай Михайлыча, моего папы. Мама была человеком, склонным к депрессии, и постоянно была удручена и чем-то недовольна. Я и запоминаю только хорошее, плохое начисто вылетает из головы довольно быстро. Может быть, поэтому я помню не так много из детства?
Что прошло, то будет мило. Но что прошло, и запомнилось. А запомнилось не так чтобы очень много чего. Я иногда пересматриваю папины фильмы 50–60-х годов (8 мм). В этих фильмах я выгляжу счастливой, но из того, что я смотрю, я физически – сердцем и нутром – ничего не помню. Больше всего помню то, что ближе к телу, то есть свою одежду: ее расцветку, колючесть, удобность или неудобность. Помню хлопковые застиранные белые подмышники, которые пришивались к шерстяным тесным кофточкам, из которых я уже выросла, и было противно их надевать, но казалось, что их так и положено носить до застиранного усевшего предела. Правда, в одном кусочке фильма помню Ниду: огромные дюны, горы песка, обдуваемые ветром, и себя, карабкающуюся вверх к вершине. И тепло, и приятность ветра, и хруст песка на зубах, впервые жующих копченого угря, принесенного взрослыми на гору, чтобы торжественно разрезать на мелкие кусочки и попробовать на вершине. А потом сесть на картонку и бесконечно съезжать с горы вниз – вниз – до бесконечности. Как во сне.
Счастье бывает двух видов: счастье приобретения и счастье избавления. В СССР оба счастья присутствовали в несбалансированном виде. Маленькое счастье доставания сервелата не балансировалось счастьем избавления от соседей-алкоголиков, и счастье приобретения новых друзей не сравнится со счастьем избавления от физкультуры на весь учебный год. Каковое освобождение было получено с помощью медицинской справки пятилетней давности. Было разумно сохранить за собой репутацию болезненного ребенка после перенесенного в детстве нефрита. Сохраняя болезненный статус, я безболезненно прогуливала школу, виртуозно писала записочки от мамы в течение всех оставшихся лет, до окончания учебы в 44-й школе с преподаванием ряда предметов на английском языке, и особо не обременяла себя присутствием в классе. В освободившееся время я проскальзывала между наблюдателями (школой, родителями, родственниками, друзьями) в пространство, принадлежащее только мне. И там, в этой образовавшейся волшебной самостоятельности, и пребывало удивительное чувство независимости и свободы, где все чувства открывались: вкус становился вкусом, запах – запахом, зрение – зрением. И все предметы запоминались, образы впечатывались в память, и запах прелой листвы в Нескучном саду остался любимым на всю оставшуюся жизнь.
Выход из здания школы сопровождался чувством освобождения, я медленно, принимая вид истомленного болезнью ребенка, проходила школьный двор и, как только меня уже нельзя было увидеть из школьных окон, быстро поворачивала направо к парку и мимо минералогического музея, через дворы проскальзывала на Ленинский проспект к булочной. Ритуал требовал купить батон белого хлеба за 13 копеек и уже с этим батоном отправиться в путешествие по парку, и этот батон непременно съесть.
Было столько невероятно интересных занятий вне обязательного. Это «надо» и «ты должна» всегда воспринималось мной как чужое, наложенное на меня кем-то другим, не мое, а потому враждебное и насильственное. Только занятия, желанные мной, придуманные мной, заслуживали полного внимания, концентрации и времени. Пожалуй, только это время и осталось в моей памяти, все остальное как-то не регистрировалось, и неприятности, связанные с чужим, благополучно улетучивались, выветривались, стирались. Может, поэтому я и не помню свое детство как целое, как отрезок времени. Там все отрывочно, бессвязно, неосознанно. Остались одни ощущения и отрывочные картинки счастья. Наверное, эти картинки – ожившие фотографии, много раз рассматриваемые, а потому впечатанные в память как свои, как собственные воспоминания, а не чьи-то взгляды на окружающее.
С момента осознания себя как самостоятельного и автономного организма, существующего отдельно от всех, в том числе и от родственников, от распорядка дня, школы, счастье полезло изо всех углов, дырок, щелей, затмило собой серость неразличения, сделало все значимым, запоминаемым, насыщенным цветом и запахами, вкусом. Все из ничего стало всем: счастьем узнавания, запоминания, отдельности и неповторимости. Правда, с этим счастьем пришло и осознание конечности и даже возможности смерти.
Мука, Гагарин
Коллективное счастье довелось испытать мне в детстве два раза, и приблизительно в одно и то же время. Я помню вход в подвал дома на Донской около нашего подъезда. Бабушка взяла меня с собой как взрослого полноценного человека, на которого можно получить один килограмм муки.
Я полна гордости за себя и за ответственное дело, в котором принимаю участие. И еще помню удивительную мягкость белого хлопкового мешка, в который то ли мука пересыпалась уже дома, то ли изначально в нем выдавалась. Ощущение пушистости, временности и ценности. А другое коллективное счастье – это мы с папой, другие родственники почему-то не запомнились, идем из квартиры через двор и выходим на Ленинский проспект. Там море людей и ощущение общей радости, подъема и нетерпеливого ожидания. Люди с флажками, шариками, толкаются, сама мостовая отгорожена от людей барьерами, теснота на тротуаре. У папы киноаппарат. Может, я и помню этот день по папиной съемке? Он подсаживает меня, и я становлюсь ногами на этот барьер, кто-то меня поддерживает сзади. Гул нарастает, и мимо нас медленно, как во сне, с быстротой мгновения проезжает кортеж машин, где в первой машине стоит и приветствует нас первый человек, побывавший в космосе, Юрий Гагарин. Единение с толпой и счастье быстро спадает. Минут через пять народ расходится, все исчезает.
Дома бабушкины маленькие пирожки с мясом или ореховый пирог плавно переводят настроение в обычное.
Во взрослом состоянии испытать такой коллективный подъем радости и счастья удалось мне в 1991 году на баррикадах у Белого дома, где я и мои друзья в счастливом экстазе пребывали в течение трех дней и ночей – термосы, бутерброды, беготня от Белого дома и обратно домой на Малую Грузинскую, опять же чувство выполнения чего-то важного, значимого, больше, чем ты сам, счастье оказаться в потоке истории, которая делается и тобой. Правда, это коллективное чувство счастья, так же, как и в детстве, полностью испарилось дней этак через пять-шесть, когда стало понятно, что ничего радикально не изменилось и героическая твоя сущность уже никому не нужна, да и тебе самому тоже, отряхиваешь ты ее с некоторым сожалением, но и с облегчением безверия и скептицизма. Всё на своих местах.
Резиновый клей
В начале 80-х ощущение было самое препоганое. Чему-то я уже научилась, а именно – как избегать внешнее, были отлаженные приемы. Но подавлять депрессию отлаженных приемов не было. Поэтому и счастья не было. Раньше было, в 70-е. А в 80-е как-то нет. В 70-е счастье наплывало неожиданно, в моменты встреч с друзьями, гормоны молодости действовали независимо от политических и домашних обстоятельств, неудач и общего беспросвета. И еще это было время узнавания и возможностей существования художника. Занятия искусством воспринимались не как ремесло или что-то отдельное от всего остального, но как возвышенная судьба, романтическое представление о себе как об избраннике, которому даровано что-то необыкновенное. Что, собственно, и поддерживалось не только узким кругом друзей, но и неосведомленной публикой, которая подозревала, какими секретами демиургов обладали художники андеграунда, но точно не знала. Мы были как бы в отдельной тонкой действительности, некими эльфами-мотыльками порхали сквозь тяжкую действительность, не поддаваясь ей и ускользая от всего реального.
В 1983 году, когда брежневская стагнация, вероятно, достигла своего апогея, грязной серой зимой я предприняла попытку наладить свою молодую жизнь. Выволокла из моей рабочей комнаты-студии (другая комната – спальня и склад) всю мебель, а именно стол, стул, мольберт и все большие картины, накопившиеся к тому времени. Купила много больших листов белой бумаги (тогда они были очень дешевыми) и начала абсолютно бессознательно обклеивать стены и пол этой бумагой, начиная буквально все с чистого листа. Наверное, это было предвиденье перестройки. Это была моя собственная перестройка. Я обклеила все стены и пол, превратив комнату в белый кубик (4 х 4 х 2.6 м). Надо заметить, что я и не представляла, что белые пространства – это пространства западных галерей. Для меня белый куб моей комнаты стал чистым полем трехмерного холста, который каждый год в течение нескольких доперестроечных лет превращался в совершенно иную действительность, которую я собственноручно могла создавать, и некоторое время, правда, не очень долгое, в нее заходить. Это было пространство свободы, созданное своими руками. Оно давало мне счастье. Пушкин говорил: ай да молодец! Видимо, у меня возникало такое же чувство. И звенело во мне, пока я работала. Митя Черногаев, в то время еще 16-летний подросток и сын моей подруги Гали, помогал мне обклеивать мое созидательное пространство. Работать вместе – это было абсолютное счастье и веселье. Мы кружились, пели, шутили, приплясывали и радовались. Резиновый клей лился рекой. Тогда его можно было купить в больших, закупоренных пробкой ведрах, этак килограмм по двадцать. Только много лет спустя, когда стало известно, что подростки нюхают клей из пакетиков, до меня стало доходить, что, возможно, наше приподнятое настроение было связано с химией этого момента в большей степени, чем с состоянием художественного подъема.
Эта похвала настолько меня взбодрила, я настолько уверовал в тот момент во всесилие человеческого разума вообще и моего в частности, что, не пожелав останавливаться на достигнутом, я решил испытать это чудо техники, для чего напялил на себя наушники и стал нажимать на какие-то кнопки и вертеть туда-сюда какие-то рычажки и кружочки. Не услышав ничего, даже характерного потрескивания, а просто совсем ничего, я зачем-то на весь класс произнес с некоторым даже как бы вызовом, с некоторой даже как бы претензией, относящейся, впрочем, непонятно к кому. Я сказал: «А почему это ничего не слышно?»
Эльвира Васильевна, мгновенно покрывшись пунцовыми пятнами, ринулась ко мне и, не разжимая зубов, прошипела: «Немедленно разбери».
Я как-то сразу все понял. И разобрал.
И комиссия так ничего и не заметила! Или сделала вид, что не заметила – какая разница!
Хорошо помню, что из класса я выходил окрыленный. Еще бы: все закончилось наилучшим образом. А что я так и не собрал приемник, так на черта он мне нужен!
На черта он мне нужен, когда такое счастье – тройка по физике, о самом существовании которой я прямо уже сейчас имею полное право забыть навсегда. Счастье! Счастье в химически… нет, в данном случае в физически чистом виде.
Ну и наконец.
Мой знакомый, житель Вологды, однажды приехал в очередной раз в Москву и в первый же вечер пошел в какой-то ресторан.
Человек он был, в общем-то, выпивающий и в этом состоянии довольно, надо сказать, конфликтный, чтобы не сказать скандальный.
В общем, он там, в этом ресторане, умудрился очень быстро поругаться с одним из посетителей, сидевшим за соседним столом, и они отправились в уборную, чтобы без свидетелей выяснить характер внезапно вспыхнувших между ними неравнодушных отношений.
Сначала, без особых предисловий, ударили его. Потом, соответственно, он. Двинув своему оппоненту по скуле, он с ужасом увидел, как из головы ударенного выпал небольшой шарик, звонко ударился о кафельный пол, пару раз задорно подпрыгнул и шустро закатился под раковину.
Это был глазной протез.
Мой знакомый настолько перепугался, что мигом протрезвел, тут же стал мириться, и они вдвоем принялись рыскать под раковиной в поисках утерянного ока.
И они его нашли! И глаз этот был торжественно инсталлирован на свое законное место. А его совместные и, главное, успешные поиски стали волею обстоятельств причиной не только бурного примирения конфликтующих сторон, но и наметившейся задушевной дружбы, за что и было немедленно выпито по бокалу шампанского.
Впрочем, это мой знакомый сказал, что по бокалу. Зная его, я думаю, что не по бокалу. И думаю, что не шампанского. Впрочем, какая разница, когда такое счастье, когда вот же он, мир во всем мире и благорастворение воздухов!
Ну вот…
Так чего не хватает нам? Правильно, нам остро не хватает жизненных сюжетов, которые бы хорошо заканчивались. Не хватает нам историй, пусть и не вполне гладких, пусть даже драматических и временами болезненных, но таких, чтобы непременно со счастливым концом.
Их смертельно не хватает, как не хватает светлого времени суток, как постоянно не хватает нам солнечного света.
Диккенса нам ужасно не хватает. Не хватает нам рождественских сказок. А пуще всего – своих же собственных историй, в силу их мнимой ничтожности и малозначимости не удостоенных входного билета в так называемую Большую Культуру.
Но мы вспоминаем их время от времени, осознав вдруг, что нам это совершенно необходимо.
Потому что счастье надежнее всего прячется до поры до времени в складках и потайных кармашках нашей легкомысленной, безответственной и часто неряшливой памяти, и его не так-то просто отыскать среди мятых бумажек, горелых спичек и засохших яблочных огрызков. Но зато, когда оно вдруг обнаруживается, оно обдает таким жаром!
Давайте вспоминать.
Ира Нахова. Мука, Гагарин, булочка и резиновый клей[3 - Ира Нахова – один из первых русских художников, начавший заниматься искусством инсталляции в России, создав в середине 1980-х в своей квартире серию проектов «Комнаты». В 2013 году Нахова стала лауреатом премии Кандинского в номинации «Проект года». А в 2015 году – первой женщиной-художницей, представившей Русский павильон на Венецианской биеннале. Живет и работает в Москве и Нью-Джерси (США).]
Счастье коллективное и счастье индивидуальное
Булочка
Чем дольше живешь, тем представление о счастье становится все более телесным: ничего не болит, температура окружающей среды хорошая, ветерок шевелит за ухом приятно, да и достигается это счастье все больше и больше химическим путем. Таблетками.
Если говорить о предрасположенности людей к счастью, то я – счастливый человек. Мне достался счастливый баланс серотонина, дофамина и эндорфина. Скорей всего, от Исай Михайлыча, моего папы. Мама была человеком, склонным к депрессии, и постоянно была удручена и чем-то недовольна. Я и запоминаю только хорошее, плохое начисто вылетает из головы довольно быстро. Может быть, поэтому я помню не так много из детства?
Что прошло, то будет мило. Но что прошло, и запомнилось. А запомнилось не так чтобы очень много чего. Я иногда пересматриваю папины фильмы 50–60-х годов (8 мм). В этих фильмах я выгляжу счастливой, но из того, что я смотрю, я физически – сердцем и нутром – ничего не помню. Больше всего помню то, что ближе к телу, то есть свою одежду: ее расцветку, колючесть, удобность или неудобность. Помню хлопковые застиранные белые подмышники, которые пришивались к шерстяным тесным кофточкам, из которых я уже выросла, и было противно их надевать, но казалось, что их так и положено носить до застиранного усевшего предела. Правда, в одном кусочке фильма помню Ниду: огромные дюны, горы песка, обдуваемые ветром, и себя, карабкающуюся вверх к вершине. И тепло, и приятность ветра, и хруст песка на зубах, впервые жующих копченого угря, принесенного взрослыми на гору, чтобы торжественно разрезать на мелкие кусочки и попробовать на вершине. А потом сесть на картонку и бесконечно съезжать с горы вниз – вниз – до бесконечности. Как во сне.
Счастье бывает двух видов: счастье приобретения и счастье избавления. В СССР оба счастья присутствовали в несбалансированном виде. Маленькое счастье доставания сервелата не балансировалось счастьем избавления от соседей-алкоголиков, и счастье приобретения новых друзей не сравнится со счастьем избавления от физкультуры на весь учебный год. Каковое освобождение было получено с помощью медицинской справки пятилетней давности. Было разумно сохранить за собой репутацию болезненного ребенка после перенесенного в детстве нефрита. Сохраняя болезненный статус, я безболезненно прогуливала школу, виртуозно писала записочки от мамы в течение всех оставшихся лет, до окончания учебы в 44-й школе с преподаванием ряда предметов на английском языке, и особо не обременяла себя присутствием в классе. В освободившееся время я проскальзывала между наблюдателями (школой, родителями, родственниками, друзьями) в пространство, принадлежащее только мне. И там, в этой образовавшейся волшебной самостоятельности, и пребывало удивительное чувство независимости и свободы, где все чувства открывались: вкус становился вкусом, запах – запахом, зрение – зрением. И все предметы запоминались, образы впечатывались в память, и запах прелой листвы в Нескучном саду остался любимым на всю оставшуюся жизнь.
Выход из здания школы сопровождался чувством освобождения, я медленно, принимая вид истомленного болезнью ребенка, проходила школьный двор и, как только меня уже нельзя было увидеть из школьных окон, быстро поворачивала направо к парку и мимо минералогического музея, через дворы проскальзывала на Ленинский проспект к булочной. Ритуал требовал купить батон белого хлеба за 13 копеек и уже с этим батоном отправиться в путешествие по парку, и этот батон непременно съесть.
Было столько невероятно интересных занятий вне обязательного. Это «надо» и «ты должна» всегда воспринималось мной как чужое, наложенное на меня кем-то другим, не мое, а потому враждебное и насильственное. Только занятия, желанные мной, придуманные мной, заслуживали полного внимания, концентрации и времени. Пожалуй, только это время и осталось в моей памяти, все остальное как-то не регистрировалось, и неприятности, связанные с чужим, благополучно улетучивались, выветривались, стирались. Может, поэтому я и не помню свое детство как целое, как отрезок времени. Там все отрывочно, бессвязно, неосознанно. Остались одни ощущения и отрывочные картинки счастья. Наверное, эти картинки – ожившие фотографии, много раз рассматриваемые, а потому впечатанные в память как свои, как собственные воспоминания, а не чьи-то взгляды на окружающее.
С момента осознания себя как самостоятельного и автономного организма, существующего отдельно от всех, в том числе и от родственников, от распорядка дня, школы, счастье полезло изо всех углов, дырок, щелей, затмило собой серость неразличения, сделало все значимым, запоминаемым, насыщенным цветом и запахами, вкусом. Все из ничего стало всем: счастьем узнавания, запоминания, отдельности и неповторимости. Правда, с этим счастьем пришло и осознание конечности и даже возможности смерти.
Мука, Гагарин
Коллективное счастье довелось испытать мне в детстве два раза, и приблизительно в одно и то же время. Я помню вход в подвал дома на Донской около нашего подъезда. Бабушка взяла меня с собой как взрослого полноценного человека, на которого можно получить один килограмм муки.
Я полна гордости за себя и за ответственное дело, в котором принимаю участие. И еще помню удивительную мягкость белого хлопкового мешка, в который то ли мука пересыпалась уже дома, то ли изначально в нем выдавалась. Ощущение пушистости, временности и ценности. А другое коллективное счастье – это мы с папой, другие родственники почему-то не запомнились, идем из квартиры через двор и выходим на Ленинский проспект. Там море людей и ощущение общей радости, подъема и нетерпеливого ожидания. Люди с флажками, шариками, толкаются, сама мостовая отгорожена от людей барьерами, теснота на тротуаре. У папы киноаппарат. Может, я и помню этот день по папиной съемке? Он подсаживает меня, и я становлюсь ногами на этот барьер, кто-то меня поддерживает сзади. Гул нарастает, и мимо нас медленно, как во сне, с быстротой мгновения проезжает кортеж машин, где в первой машине стоит и приветствует нас первый человек, побывавший в космосе, Юрий Гагарин. Единение с толпой и счастье быстро спадает. Минут через пять народ расходится, все исчезает.
Дома бабушкины маленькие пирожки с мясом или ореховый пирог плавно переводят настроение в обычное.
Во взрослом состоянии испытать такой коллективный подъем радости и счастья удалось мне в 1991 году на баррикадах у Белого дома, где я и мои друзья в счастливом экстазе пребывали в течение трех дней и ночей – термосы, бутерброды, беготня от Белого дома и обратно домой на Малую Грузинскую, опять же чувство выполнения чего-то важного, значимого, больше, чем ты сам, счастье оказаться в потоке истории, которая делается и тобой. Правда, это коллективное чувство счастья, так же, как и в детстве, полностью испарилось дней этак через пять-шесть, когда стало понятно, что ничего радикально не изменилось и героическая твоя сущность уже никому не нужна, да и тебе самому тоже, отряхиваешь ты ее с некоторым сожалением, но и с облегчением безверия и скептицизма. Всё на своих местах.
Резиновый клей
В начале 80-х ощущение было самое препоганое. Чему-то я уже научилась, а именно – как избегать внешнее, были отлаженные приемы. Но подавлять депрессию отлаженных приемов не было. Поэтому и счастья не было. Раньше было, в 70-е. А в 80-е как-то нет. В 70-е счастье наплывало неожиданно, в моменты встреч с друзьями, гормоны молодости действовали независимо от политических и домашних обстоятельств, неудач и общего беспросвета. И еще это было время узнавания и возможностей существования художника. Занятия искусством воспринимались не как ремесло или что-то отдельное от всего остального, но как возвышенная судьба, романтическое представление о себе как об избраннике, которому даровано что-то необыкновенное. Что, собственно, и поддерживалось не только узким кругом друзей, но и неосведомленной публикой, которая подозревала, какими секретами демиургов обладали художники андеграунда, но точно не знала. Мы были как бы в отдельной тонкой действительности, некими эльфами-мотыльками порхали сквозь тяжкую действительность, не поддаваясь ей и ускользая от всего реального.
В 1983 году, когда брежневская стагнация, вероятно, достигла своего апогея, грязной серой зимой я предприняла попытку наладить свою молодую жизнь. Выволокла из моей рабочей комнаты-студии (другая комната – спальня и склад) всю мебель, а именно стол, стул, мольберт и все большие картины, накопившиеся к тому времени. Купила много больших листов белой бумаги (тогда они были очень дешевыми) и начала абсолютно бессознательно обклеивать стены и пол этой бумагой, начиная буквально все с чистого листа. Наверное, это было предвиденье перестройки. Это была моя собственная перестройка. Я обклеила все стены и пол, превратив комнату в белый кубик (4 х 4 х 2.6 м). Надо заметить, что я и не представляла, что белые пространства – это пространства западных галерей. Для меня белый куб моей комнаты стал чистым полем трехмерного холста, который каждый год в течение нескольких доперестроечных лет превращался в совершенно иную действительность, которую я собственноручно могла создавать, и некоторое время, правда, не очень долгое, в нее заходить. Это было пространство свободы, созданное своими руками. Оно давало мне счастье. Пушкин говорил: ай да молодец! Видимо, у меня возникало такое же чувство. И звенело во мне, пока я работала. Митя Черногаев, в то время еще 16-летний подросток и сын моей подруги Гали, помогал мне обклеивать мое созидательное пространство. Работать вместе – это было абсолютное счастье и веселье. Мы кружились, пели, шутили, приплясывали и радовались. Резиновый клей лился рекой. Тогда его можно было купить в больших, закупоренных пробкой ведрах, этак килограмм по двадцать. Только много лет спустя, когда стало известно, что подростки нюхают клей из пакетиков, до меня стало доходить, что, возможно, наше приподнятое настроение было связано с химией этого момента в большей степени, чем с состоянием художественного подъема.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: