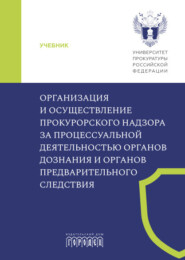По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Res Publica: Русский республиканизм от Средневековья до конца XX века. Коллективная монография
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Проблема, однако, состоит в том, что у нас практически нет собственно полоцких нарративов, на основании которых можно было бы судить о республиканской или коммунальной риторике. Легендарное повествование о Борисе-Гинвиле, конечно, свидетельствует о том, что рефлексия о республиканском строе Полоцка в позднее Средневековье и Раннее Новое время существовала, но ее очень сложно «привязать» хронологически. В свое время И. В. Якубовский, сопоставив положения привилея польского короля и литовского великого князя Сигизмунда I Полоцку с договорами между князьями и Новгородом, обнаружил в них ряд параллелей и предположил, что первые «ряды» полочан с князьями (литовскими) заключались в первой половине XIV в.[358 - Якубовский И. В. Земские привилеи Великого княжества Литовского. Ч. 2 // Журнал Министерства народного просвещения. Ч. 347. 1903. Июнь. С. 275–279.] Б. Н. Флоря считает, что республиканские традиции в Полоцке восходят еще к вечевым порядкам домонгольского времени, а к Великому княжеству Литовскому Полоцк присоединился уже будучи республикой после угасания местной княжеской династии[359 - Флоря Б. Н. Историческая традиция об общественном строе средневекового Полоцка // Отечественная история. 1995. № 5. С. 110–116. Ср. критические замечания по поводу преемственности политического строя Полоцка в составе Великого княжества Литовского и вечевых порядков домонгольского Полоцка: Rohdewald S. «Vom Polocker Venedig». S. 24–25.]. К сожалению, однако, данных о республиканской риторике в Полоцке у нас пока за исключением позднего и легендарного летописного повествования, причем, видимо, не связанного непосредственно с полоцкой литературной традицией нет. Современный исследователь имеет поэтому формальное право говорить, что в древнерусском Полоцке отсутствовали аналоги таких ключевых для западноевропейского коммунального строя понятий, как «Gemeinde» или «communitas»[360 - Rohdewald S. «Vom Polocker Venedig». S. 67.]. Вопрос поэтому заслуживает дальнейшего изучения. Но, конечно, помещение Полоцка в раздел о «нереспубликанских» республиках условно.
Относительно же остальных древнерусских земель либо нет оснований предполагать наличие республиканской риторики / идеологии, либо об этом отсутствуют достаточные для определенных выводов данные.
Заключение
Наблюдения, результаты которых были изложены выше, показывают наличие в древнерусском узусе ключевых аспектов республиканской риторики. В особенности это характерно – что не удивительно – для Новгорода и Пскова, но отдельные ее элементы можно встретить и в Киеве, и во Владимире-на-Клязьме, и в Полоцке. В Древней Руси не было прямого аналога понятия res publica, но оно не использовалось и во множестве европейских средневековых коммун, существовавших параллельно с Новгородом и Псковом.
Важнее, что в средневековых русских республиках существовали обозначения республиканского политического коллектива («политического народа»), который и был их сюзереном – своеобразной коллективной личностью, соответствующей личностям физическим во главе княжеств. Республиканская риторика на Руси была построена именно вокруг таких понятий. Считалось, что правят именно эти политические коллективы («весь Новгород», «все новгородцы», «весь Псков», «мужи псковичи») через собрания «политического народа» (вече) или через выборных должностных лиц. Эти выборные или, точнее, «аккламированные» (провозглашенные, признанные, «прославленные») «политическим народом» на вече должностные лица были не выборными представителями-посредниками, которым «политический народ» делегировал свои политические права, а сам на срок их полномочий уходил в сторону, но республиканскими магистратами, с помощью которых и – если так можно выразиться – «через» которых «политический народ» заботился о своей – как бы сказали римляне – res publica[361 - См.: Штарк Р. Res publica. С. 32.].
Важнейшим элементом республиканской риторики, получившим наибольшее развитие в Новгороде, было представление о наличии у «политического народа» комплекса вольностей (свобод) – «всей воли новгородской», требовавшей своего обоснования в реальных или фиктивных документах, которые как бы подтверждали конституционно-правовые основы республики («Ярославли грамоты», «уставы старых князей», договоры с князьями).
Процесс складывания республиканских представлений и риторики шел постепенно. Но важнейшие их элементы возникли в Новгороде не позднее середины XII в. и в дальнейшем лишь укреплялись, усложнялись и развивались. Своего рода венцом этого развития, прерванного присоединением Новгорода к Москве, стало появление наименования «Господин господарь Великий Новгород» и прямого сопоставления воли «Великого Новгорода» с волей Божьей. Такое же направление развития, но в несколько более скромных формах и с некоторым «отставанием» было в целом характерно и для Пскова. (Прото)республиканские тенденции и соответствующая риторика могут быть засвидетельствованы в разное время и в других древнерусских центрах, но где-то они не получили достаточного развития (Киев, Владимир-на-Клязьме), где-то для их изучения не хватает источников (Полоцк).
Неоднозначный характер носили такие выражения, как «отчина великого князя, (добро)вольные люди», которые использовались для обозначения статуса Новгорода и Пскова в самих этих политических образованиях. Внимательный анализ показывает, что эти выражения – в их новгородской и псковской интерпретации – никак не противоречили их республиканскому строю и политической самостоятельности. В то же время сама идея принадлежности к единому русскому пространству, представления о том, что их вольности дарованы древними князьями, и признание себя – пусть и во многом формально – отчинами (наследственными владениями) великих князей владимирских, а потом московских оказывали существенное воздействие на коллективную идентичность новгородцев и псковичей и впоследствии, по-видимому, способствовали тому, что попытки сопротивления московской экспансии носили довольно хаотичный характер и закончились неудачей. Противоположные тенденции, направленные на осмысление своих вольностей вне связи с князьями и создание соответствующих мифов и риторических стратегий, имели место в Великом Новгороде, но в отпущенное историей для его независимости время не возобладали.
Глава III
Республика без республиканизма: дискурсы общего дела в Московской Руси
К. Ю. Ерусалимский
Российская культура раннего Нового времени – а точнее было бы говорить о множественных формах ее культуры, о российских культурах – не выработала республиканских языков политического описания и не отразила целостной и авторитетной репрезентации России или ее сообществ в качестве республики. Само понятие республика – позднее заимствование, воспринятое опосредованно в конце XVII–XVIII в. из латыни при почти полном отсутствии латинского образования до того времени, когда были созданы специальные школы при высших государственных учреждениях[362 - Okenfuss M. J. The Rise and Fall of Latin Humanism in Early-Modern Russia: Pagan Authors, Ukrainians, and the Resiliency of Muscovy. Leiden et al., 1995. P. 50 ff., 161 ff.; Живов В. М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996; Weickhardt G. G. Early Russian Law and Byzantine Law // Russian History. 2005. Vol. 32. № 1. P. 1–22; Рамазанова Д. Н. Итальянская школа братьев Лихудов в Москве (1697–1700 гг.). М., 2019. С. 20–32, 42–45. Переводческая работа в Посольском приказе и Коллегии иностранных дел подчинялась прежде всего задачам внешней политики высшей власти, дипломатических и военных ведомств. См.: Переводчики и переводы в России конца XVI – начала XVIII столетия: материалы междунар. науч. конф. / Отв. ред. Д. В. Лисейцев, С. М. Шамин. М., 2019; Схиммельпэннинк ван дер Ойе Д. Русский ориентализм. Азия в российском сознании от эпохи Петра Великого до Белой эмиграции / Пер. с англ. П. С. Бавина. М., 2019. С. 39–50.]. В различных текстах московской книжности и в документальных источниках бытование этого термина, его калек и переводов фиксируется уже в XII–XV вв. Однако насколько он отражал факты самосознания местных авторов? Наличие институтов публичной власти и форм коллективной воли не является показателем принятия республиканизма в какой-либо его вариации. Сразу необходимо оговориться, что тщетны были бы его поиски в местных памятниках, характеризующих такие явления, как вече или земские соборы, ополчения или приговоры всей земли, массовые протестные мятежи или воровские затейки, хотя именно в таких направлениях мы могли бы ожидать проявления республиканской мысли по аналогии с латинской и реформационной Европой.
Легитимность княжеской власти не вызывала в русских землях сомнений вплоть до утверждения королевского и царского суверенитета (хотя вполне уместен вопрос, насколько королевская и царская легитимности пересекались между собой), однако, как показали с несходных точек зрения еще М. А. Дьяконов, В. И. Сергеевич и В. Е. Вальденберг, пределы княжеской и царской власти не ограничивались какими-либо внешними по отношению к ним силами, помимо Бога. Вопрос об ограничении власти в правоведческой литературе XIX – начала XX в. о русских древностях и Новом времени в целом не связан с историей стороннего коллективного действия по ограничению власти, а потому и не рассматривался из перспективы противостояния политических типов и политических институтов[363 - Дьяконов М. А. Власть московских государей: Очерки из истории политических идей Древней Руси до конца XVI века. СПб., 1889; Вальденберг В. Е. Древнерусские учения о пределах царской власти: Очерки русской политической литературы от Владимира Святого до конца XVII века. Пг., 1916.].
Не было парадоксом и почти полное отсутствие в Северо-Восточной Руси соответствующего языка при изложении греческой и римской истории, поскольку ключевым источником по этим сюжетам вплоть до конца XVII – начала XVIII в. оставался хронограф, скомпилированный на основе ряда византийских источников, и сходные с ним местные сочинения. В Хронографе периоды республики рассматривались как безвременье и опускались[364 - Творогов О. В. Древнерусские хронографы. Л., 1975. С. 32–45, 54–58, 74–97, 119–127, 141–159, 160–187; Водолазкин Е. Г. Всемирная история в литературе Древней Руси: (на материале хронографического и палейного повествования XI–XV вв.). СПб., 2008.]. Не было «своих» республиканских форм и подобий и в русских древностях, так что для книжников, как правило, не возникало перспективы подобного описания внутренних реалий, а внешние общества представали в подобных случаях как экзотические и ненормальные, что также накладывало свой отпечаток на исторические повествования. В наши задачи входит тем не менее рассмотреть случаи негативной готовности к республиканским формам, осмысленное отрицание, вычеркивание или умолчание о республиках в тех случаях, когда рефлексия над их политическим устройством напрашивалась или была обеспечена источниками книжников, – например, когда возникали образы преодоления политической нестабильности, многовластия и безвластия. Как известно, русские и московские книжники успешно владели этим инструментом при отсылках к неведомым народам или татарскому игу[365 - Ведюшкина И. В. Историческая память домонгольской Руси: религиозные аспекты // История и память. Историческая культура Европы до начала Нового времени / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2006. С. 554–608; Гальперин Ч. Татарское иго. Образ монголов в средневековой России / Пер. М. Е. Копыловой; под ред. Ю. В. Селезнева. Воронеж, 2012.].
Языки республики и республиканизма обсуждались в российских текстах и практиках XV – начала XVIII в. без уверенности в том, что они описывают реальность или воплощены, как политический идеал мог бы быть воплощен на практике, в качестве особого замысла или образца. В науке сложилось несколько несходных интерпретаций того, как это происходило в Московском государстве (или шире – в Русском государстве к востоку от владений Шведского королевства, Короны Польской и Великого княжества Литовского). Одна из них предполагает, что ни сами эти языки, ни их социальные реализации не были актуальны, тогда как элита опиралась на автократические институты (честь, клановую солидарность, конкуренцию за первенство перед государем), а низы – на размытое понимание социальных границ, бытовые и профессиональные демаркации (в целом далекие от каких-либо доктрин). Этот взгляд разделяет Нэнси-Шилдз Коллманн, когда обсуждает социальную идентификацию жителей России, главным образом в XVI–XVII вв. Согласно данной точке зрения, абстрактные доктрины были чужды московским подданным, и даже институты подданства (условно: гражданства) были маркированы несходными правами и обязанностями в зависимости от происхождения и дробных страт. Отсутствовало понятие о едином «обществе»[366 - Kollmann N. Sh. Concepts of Society and Social Identity in Early Modern Russia // Religion and Culture in Early Modern Russia and Ukraine / Ed. by S. H. Baron, N. Sh. Kollmann. DeKalb, IL, 1997. P. 34–51. Идею структурного единства элит и высшей власти в России XV–XVII вв. отстаивают также с несходных точек зрения Хартмут Рюсс и С. Н. Богатырев: R?? H. Herren und Diener. Die soziale und politische Mentalit?t des russischen Adels, 9.–17. Jahrhundert. K?ln et al., 1994; Bogatyrev S. The Sovereign and His Counsellors: Ritualised Consultations in Muscovite Political Culture, 1350-s – 1570-s. Saarijarvi, 2000.]. При этом клановые связи ко второй половине XVII в. уступали место индивидуализму, моральной межклассовой поддержке и свободным ассоциациям. Доктрины для этого также были не нужны, на их месте легко обнаружить отдельные акты благотворительности и моральные высказывания[367 - Коллманн Н. Ш. Соединенные честью. Государство и общество в России раннего Нового времени / Пер. с англ. А. Б. Каменский; науч. ред. Б. Н. Флоря. М., 2001. См. также: Steindorff L. Memoria in Altru?land: Untersuchungen zu den Formen christlicher Totensorge. Stuttgart, 1994; Kaiser D. H. Testamentary Charity in Early Modern Russia: Trends and Motivations // The Journal of Modern History. 2004. Vol. 76. P. 1–28.].
Переломное значение XVII в. в истории российской – в том числе политической – мысли признавали и сторонники концепции «секуляризации», а также «вестернизации», «обновления», «новизны» (среди них в российской науке С. Ф. Платонов, Д. С. Лихачев, А. Н. Робинсон, Б. А. Успенский[368 - Платонов С. Ф. Москва и Запад в XVI–XVII веках. Л., 1925; Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. М.; Л., 1958; Робинсон А. Н. Борьба идей в русской литературе XVII века. М., 1974. С. 194–245; Успенский Б. А. Избранные труды. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1994. С. 219–253 (см. также др. издания всех названных работ).], в мировой науке – Эдвард Кинан, Дэниел Роуленд, Джордж Уайкхарт[369 - Keenan E. L. Muscovite Political Folkways // The Russian Review. 1986. Vol. 45. P. 115–182; Rowland D. The Problem of Advice in Muscovite Tales about the Time of Troubles // Russian History. 1979. Vol. 6. № 2. P. 259–283; Weickhardt G. G. Political Thought in Seventeenth-Century Russia // Russian History. 1994. Vol. 21. № 3. P. 316–337.]). Это направление вызвало разногласия. Отмечалось, что «сакральная» концепция преувеличивает значение патриархальных структур и православия в жизни Московского государства. При этом идеи сопротивления касаются власти так или иначе, но как будто обходят стороной безграничные полномочия монархии и принадлежат зачастую неопределенному кругу приверженцев, чье участие в политике было непрямым, а идеи не носили характер ученых доктрин (протопоп Аввакум, Симеон Полоцкий, Григорий Котошихин, Степан Разин)[370 - Сомнениям способствовала критика концепта «абсолютизм» в монографии Николаса Хеншелла «Миф абсолютизма». Согласно концепции Хеншелла, «абсолютизм» представил в виде политического строя порядки, которые до 1789 г. почти единодушно считались дисфункцией. См. об этом концепте применительно к русской истории подробнее: Ostrowski D. The Fa?ade of Legitimacy: Exchange of Power and Authority in Early Modern Russia // Comparative Studies in Society and History. 2002. Vol. 44. № 3. P. 534–563.]. Оспаривая тезисы Гарвардской школы о структурной монолитности московской политической культуры Нового времени, Маршалл По отметил, что «вотчинная», или «деспотическая», концепция самодержавия берет начало в работах Б. Н. Чичерина и М. А. Дьяконова. Сам М. По не разделяет концепции «патримониальной политической ментальности» у московитов, считая ее историографическим конструктом, восходящим к «Запискам о Московии» Сигизмунда Герберштейна[371 - Влияние «Записок о Московии» на европейскую экспертизу Московии стало предметом специального исследования Маршалла По, изданного отдельной статьей и в книге, основанной на погодном реестре изданий, касающихся Московского государства, в Европе до 1700 г. См.: Poe M. T. «A People Born to Slavery»: Russia in Early Modern European Ethnography, 1476–1748. Ithaca, NY; London, 2000.]. Лишь на метафорическом уровне московиты признавали господство над собой государя и его безграничное право распоряжаться их собственностью, подразумевая негласную договоренность с властью о верной службе со стороны подданных и щедром вознаграждении со стороны монарха[372 - Poe M. What Did Russians Mean When They Called Themselves «Slaves of the Tsar»? // Slavic Review. 1998. Vol. 57. № 3. P. 585–608, см. особенно P. 589–590, 596–598. Сходные предпосылки намечены критиками концепции Пайпса (Weickhardt G. G. Was There Private Property in Muscovite Russia? // Slavic Review. 1994. Vol. 53. № 2. P. 531–538; Frank J. Richard Pipes, Russian Conservatism and Its Critics // Between Religion and Rationality: Essays in Russian Literature and Culture. Princeton, 2010. P. 143–156). Само существование Гарвардской школы – предмет дискуссий (Perrie M. The Muscovite Monarchy in the Sixteenth Century: «National», «Popular» or «Democratic»? // Cahiers du Monde russe. 2005. Vol. 46. № 1/2. P. 233–241; Martin R. E. Political Folkways and Praying for the Dead in Muscovy: Reconsidering Edward Keenan’s «Slight» Against the Church // Cahiers du Monde russe. 2006. Vol. 48. № 3–4. P. 283–305).]. Более радикальное развитие тезиса М. По предложено в работе Корнелии Зольдат, полагающей, что, называя себя холопами Бога и государя, московские элиты совершали подвиг христианского самоотречения, а не декларировали свое бесправное унижение и рабство[373 - Soldat C. The Limits of Muscovite Autocracy. The Relations between the Grand Prince and the Boyars in the Light of Iosif Volotskii’s «Prosvetitel» // Cahiers du monde russe. Vol. 46 (2005). No. 1/2. P. 265–276.].
Вэлери Кивельсон в своем исследовании о московском «гражданстве» в качестве мыслительного эксперимента предложила условный научный инструментарий (в духе концепции «идеальных типов» Макса Вебера) с целью найти компромисс между «деспотической» точкой зрения, предполагающей деспотизм как неотъемлемую составляющую российской политики, и более «оптимистичными» подходами органического социального баланса или марксистской стадиальности. Задача – увидеть зачастую в тех же источниках, которые интерпретировались сторонниками «органического» и «деспотического» подходов, что за ширмой безразличия российских подданных к политической теории (или неумения различать) имели место функциональные механизмы социальной интеграции, работавшие независимо от политических абстракций и не приводившие к их возникновению. Как отмечает В. Кивельсон, в московской культуре функционировали понятия, позволяющие ее носителям принадлежать к единой политической общности, защищать эту свою принадлежность, участвовать в той или иной мере в политике. Учитываются при этом и номинации, подчеркивающие горизонтальное соучастие в общности (например, вся земля), и декларации вертикальной зависимости, которые для низов звучали скорее как горизонтальная апелляция к политической сфере (например, государев мужик). Придерживались московиты принципов общей справедливости и благополучия, принимали на себя обязанности в общем благе и признавали посредничество писаных законов в отношениях с верховной властью[374 - Kivelson V. Muscovite «Citizenship»: Rights without Freedom // The Journal of Modern History. 2002. Vol. 74. P. 465–489.]. В монографии «Картография царства» исследовательница приводит примеры того, как в XVII в. локальные власти сопротивлялись нанесению на карты владений, а «крепостные» крестьяне успешно противостояли своим же помещикам в борьбе за земельные наделы[375 - Kivelson V. Cartographies of Tsardom: The Land and Its Meanings in Seventeenth-Century Russia. Ithaca; London, 2006. P. 29–98.]. Энн Клеймола и Ричард Хелли высказывали похожий взгляд на практику доносительства XIV–XVII вв. В доносах исследователи видели особый институт, позволявший достигать согласия, конкурировать за престиж и успех, добиваться свободы и поддерживать действующие законы и политическую стабильность. При этом сохранялось отличие в социальной роли извета XVI–XVII вв. от эпохи профессиональной полиции и сталинского периода, и, таким образом, речь должна идти об особой модели социального взаимодействия в Российском царстве, которую власть должна была насаждать и ограничивать, поддерживая сначала в элите, а позднее в широких массах «обязанность доносить»[376 - Kleimola A. M. The Duty to Denounce in Muscovite Russia // Slavic Review. 1972. Vol. 31. № 4. P. 759–779; Hellie R. The Origins of Denunciation in Muscovy // Russian History. 1997. Vol. 24. № 1/2. P. 11–26.]. При таком взгляде на политическую общность институциональные роли и субординации недостаточны для изучения основ общежития. Опыт изучения московского «гражданства» исходит в названных примерах из предполагаемого тождества между libertas и civitas, характерного для римской республиканской традиции. Свобода и полномочия возникают в ее рамках из законов и общего правового устройства, включенность в которое означает для граждан (подданных) полную меру политического участия[377 - Об этом подробнее см.: Петтит Ф. Республиканизм: Теория свободы и государственного правления / Пер. с англ. А. Яковлева. М., 2016. С. 82–83. Критика данной концепции звучала неоднократно. См., например: Pettit Ph. On People’s Terms: A Republican Theory and Model of Democracy. Cambridge, 2012; Pietrzyk-Reeves D. Tradycja republikanska, respublica, repulikanizm // Horyzonty Polityki. 2013. Vol. 4. № 7. S. 47–66.].
О. В. Хархордин и Л. И. Иванова-Веэн обнаружили в новгородских памятниках XII–XV вв. терминологические (вещь) и институциональные (мост) аналоги европейского республиканского круга[378 - Charchordin O., Ivanova-Veen L. Novgorod als res publica // Osteuropa. 2003. Bd. 53. № 9–10. S. 1308–1333. См. также: Kharkhordin O. What Is the State? The Russian Concept of Gosudarstvo in the European Context // History and Theory. 2001. Vol. 40. P. 206–240; Idem. Republicanism in Russia: Community Before and After Communism. Harvard, 2018; Хархордин О. В. Республика. Полная версия. СПб., 2021. С. 112–126.]. Вслед за работами В. Л. Янина это был шаг к обнаружению политических идей, которые доктринально выражены, впрочем, так и не были. Не менее остро звучали в историографии дискуссии вокруг политической культуры позднесредневекового Пскова и его зависимости от Новгорода Великого[379 - Вовин А. А. Городская коммуна средневекового Пскова: XIV – начало XVI в. С. 15–88. Здесь же обширная литература и ссылки на дискутируемые тезисы.]. Они сами по себе важны как свидетельство того, что датировка и смысловое наполнение социальных и идейных реалий могут существенно зависеть от времени и контекста возникновения источников. Этот фактор, близкий к построениям «новой интеллектуальной истории», сказался и на изучении Московского царства. М. М. Кром обратил внимание на единство и несходство земского и государева дела, видя в единой этой формуле привитую к началу XVI в. кальку с греческого понятия политика (?? ????????)[380 - Кром М. М. «Дело государево и земское»: Понятие общего блага в политическом дискурсе России XVI в. // Сословия, институты и государственная власть в России: (Средние века и раннее Новое время): Сб. ст. памяти акад. Л. В. Черепнина. М., 2010. С. 581–585.]. Республиканские и автократические формы сочетались в России XVI – начала XVII в. иначе, чем могла бы допустить политическая теория в духе Аристотеля или Макса Вебера[381 - Кром М. М. К пониманию московской «политики» XVI в.: дискурс и практика российской позднесредневековой монархии // Одиссей: Человек в истории. 2005. С. 283–303; Он же. Рождение государства. Московская Русь XV–XVI веков. М., 2018. С. 209–217.]. М. А. Киселев выработал подход, соединяющий элементы истории понятий (в духе Begriffsgeschichte) и истории политических учений (в духе так называемой Кембриджской школы). Этот взгляд ценен для рассмотрения республиканского тезауруса в России до середины XVIII в. и фактов его бытования в ученых трудах, дипломатической практике, ранней публицистике и в рассуждениях иноземных мыслителей, побывавших в России. Конечно, обнаружить подспудную социальную платформу для республиканизма в России до XVIII в. его применение вряд ли поможет[382 - Киселев М. А. Форма правления и социальная иерархия в российской политической мысли XVII – первой четверти XVIII века // Исторический вестник. Т. 6 (153). 2013. С. 18–53.].
***
Из предложенного обзора ясно, что говорить о конкурирующих политических доктринах республиканизма в России до XVIII в. не приходится. Ожидания исследователей, стремящихся обнаружить следы республиканской идеи в древнерусских землях, также не оправдались. Круг учений об управлении полисом или республикой почти не затронул самосознание древнерусских книжников. Если они и знали о республиках и в чем-то копировали республиканский строй или доктрины, то на поверхности их рефлексии о своих идентификациях это почти не отразилось. Абстрактные политические типы не вызвали рефлексии и в местных летописных текстах, актовых и законодательных памятниках. Аналоги принятых в европейской культуре республиканских категорий народ, политическое тело, конституция, парламент, тиран в России либо отсутствовали в публичных высказываниях, либо – например, понятия народ, мучитель – сохраняли устойчивые значения, почерпнутые из библейской и святоотеческой книжности, а также из опыта древнехристианских и православных монархических и имперских культур. Расхождение в круге чтения с католическим миром к концу XV в. проявилось прежде всего в том, что русская культура была лишена доступа (в каковом и не нуждалась) к текстам, составлявшим основу схоластической традиции: творениям Аристотеля, Цицерона, Августина Блаженного, Фомы Аквинского. В рамках последней, например, в Короне Польской уже в XV – первой половине XVI в. открылись дискуссии о политических устройствах, формах правления, источниках власти, разделении и сменяемости властей.
Конечно, существовало опосредованное влияние европейских учений на русскую политическую мысль. Общим был комплекс представлений о «природном» и «гражданском» образе жизни на земле, почерпнутый из переводных памятников: «Шестодневов» и «Физиолога», «Козьмы Индикоплова», «Азбуковника» и т. п. В природном мире политические типы проявлялись лишь пунктирно, и рефлексия русских переводчиков и читателей на эту тему почти незаметна в сохранившихся источниках. Примерами могут служить удивительные народы, населяющие Индию, Африку, побережье Ледовитого океана и морские просторы. Индийский народ агрометы (агроты, см. также рахманы) сходятся вместе, чтобы друг друга сжигать: «Тие меют в собе горячесть великую, гды в едно место сойдутся, сами ся запаляют, родичов палят, родичов едят»[383 - Белова О. В. Славянский бестиарий. Словарь названий и символики / Отв. ред. А. А. Турилов. М., 2001. С. 50, 216.]. Сходятся между собой и другие люди (аримфеи, исатыри, катании, коневрусы, орионы, сатиры, сирены, сирины, трепястьцы, троглодиты, телорози, фригалы и др.) и звери (например, аспиды, муравьи, обезьяны), но какой тип общественных связей они образуют, из этих текстов непонятно. Принципиальное отличие всех этих существ от мира людей и ангелов в том, что последние – вещь словесная, а значит, только у них может быть вещь общая, т. е. республика и любая другая политическая форма[384 - Там же. С. 71–72. О различных видах зверообразных «людей» см.: Там же. С. 167–170. См. также: Пиотровская Е. К. «Христианская Топография Козьмы Индикоплова» в древнерусской письменной традиции (на материале дошедших фрагментов). СПб., 2004. С. 200–201.]. Однако эти миры взаимно проницаемы. Например, «мнози достойни веры кроникаре пишут, иже часто человеки пременяются в волки»[385 - Белова О. В. Славянский бестиарий. С. 73.], сказания о китоврасе оказали влияние на Палею и житийную литературу[386 - Руди Т. Р. Об одной талмудической параллели к «апокрифическому» Житию Василия Блаженного // Труды Отдела древнерусской литературы Пушкинского Дома (далее – ТОДРЛ). Т. 60. СПб., 2009. С. 103–136.], а кинокефала св. Христофора изображали на иконах с песьей головой (хотя это вызвало споры и запреты на Московском соборе 1666–1667 гг. и неоднократно в XVIII в.)[387 - Зверев А. С. Кинокефалия // Православная энциклопедия. Т. 33. М., 2013. С. 568–570.]. Звери благодаря своим полезным для человека качествам были частью словесного мира, и в символических комментариях звучали оценки их мыслей и устремлений. Животный образ жизни ведут монархические народы гог и магог, запертые до последних времен Александром Македонским[388 - Белова О. В. Славянский бестиарий. С. 87–88.]. Это дикие существа, хотя и люди, и во главе их – цари. Наоборот, звери волы вполне отвечали социальным идеалам московского общества XV–XVII вв.: они нужны «на службу человекомь, вь сердци своем безлобаа вещь, всю добру вещь мислит», а из их тела после смерти рождаются пчелы, у которых выраженное подобие человеческой политике: трудолюбие и монархия. «Царь пчелный» поддерживаем пчелами в старости, а после смерти его тело «мещут во цветы»[389 - Там же. С. 75–77, 213–214.]. При этом лев рассматривается как «царь зверем»[390 - Там же. С. 159–163, 230–231.]. Животные жили, таким образом, в коллективах, приближающихся по своему устройству к небесной и человеческой монархии.
Разногласия и дебаты не были в числе идеалов московского общества, пронизанного иноческими образами, которые не случайно находили названные выше символические и буквальные параллели в животном мире. «Домострой» к середине XVI в. поощряет молчаливое делание и видит опасность в «слове празном и хулном, или с роптанием, или смех, или кощуны скверныя и блудныя речи», тогда как полезно любое рукоделие вести «с молитвою и з доброю беседою, и с молчянием»[391 - Домострой / Изд. подг. В. В. Колесов, В. В. Рождественская. СПб., 2001. С. 32 (гл. 24), 43 (гл. 37), 45 (гл. 38) и др.; ср.: Там же. С. 97–98 (гл. 19), 107–108 (гл. 33), 108–109 (гл. 35) и др.]. При этом рукоделие считается лучшим занятием во «всяких делах»[392 - Там же. С. 38 (гл. 29); ср.: Там же. С. 102–103 (гл. 24).]. Само понимание дела в «Домострое» далеко отстоит от политического общего дела, это – путь домового духовного спасения, с размеренным, разумным и вежливым распорядком в поступках и упорядоченным вещным миром. Как именно домашняя экономика переходит в политику, составителей этого памятника не интересует, если не считать, что «царю и князю и всякому велможи» следует повиноваться по завету апостола Павла[393 - Там же. С. 11 (гл. 5); ср.: Там же. С. 91 (гл. 7).]. Венцом благополучной православной жизни является венчание детей, на котором во всех трех «чинах свадебных» разыгрывается и полный аналог политического успеха: родители царствуют, дары описаны тоже так, как если бы свадьба была полным аналогом придворной церемонии или имела с ней даже самые незначительные сходства[394 - Там же. С. 74–87.]. В истории, в отличие от пособий по домашней жизни и от природного мира, случались республиканские устройства, подобия демократии и охлократии, однако знания о них были настолько бедны, что до начала XVII в. главными источниками об этих знаниях для нас послужат ученые тексты, далекие как от повседневной жизни Московского государства, так и от его политического устройства.
Смена в самосознании едва ли не первого – имперского, как будет показано ниже, – республиканца в русской культуре, князя Андрея Курбского, от его кругозора и доктрин до перехода на службу короля Сигизмунда II Августа к развернутому учению об общей вещи в эмиграции, доказывает, что видный московский книжник XVI в. не мыслил в категориях республиканства и никак не использовал самих этих категорий все то время, пока оставался в пределах Московского царства. Можно ли ждать от источников до эмиграции Курбского большего внимания к предмету, весьма далекому от политических реалий восточных русских земель и Российского государства? Пользуются признанием метафорические редукции, ведущие к поиску политических форм вне тезисов о предписаниях, реализациях и идейных или идеологических программах. Тезис о «полисном» гражданстве в древнерусских землях позволяет уйти от ряда ошибочных интерпретаций древнерусской политики, но сам по себе не подтверждается ни одним примером полисной теоретической рефлексии, социальной мобильности и политического искусства[395 - Теория вечевых городов-республик в духе разработок И. Я. Фроянова и А. Ю. Дворниченко имеет мало общего с политическими реалиями в описаниях русских книжников и для нашего исследования не представляет интереса. См., например: Лукин П. В. Новгородское вече. М., 2014. С. 445–500; Вовин А. А. Городская коммуна средневекового Пскова. С. 35–36, 96–98, 250–263. Ср., например: Фроянов И. Я., Дворниченко А. Ю. Города-государства Древней Руси. Л., 1988.]. На всем протяжении развития права в Северо-Восточной Руси, вплоть до Соборного уложения 1649 г., конституционное (субстанциональное) понимание закона не проявлялось в судебной практике, пронизанной процедурным (процессуальным) подходом[396 - Weickhardt G. G. Early Russian Law and Byzantine Law. P. 14–15.]. Ни к чему не приводят и поиски демократических институтов народоправства, прямой вечевой демократии – прежде всего из?за отсутствия минимальной институциональной перспективы. Нет доказательств того, что до конца XVI в. в Северо-Восточной Руси существовала политическая репрезентация[397 - Дело не в том, насколько близок к либеральной модели был принцип кооптации депутатов на земские соборы, а в том, как именно отражены и закреплены этот и другие принципы представительства в теоретической рефлексии жителей Российского царства XVI–XVII вв. Сохранившиеся источники говорят о том, что никак. См. обзор и острую постановку проблемы в отношении записок Дж. Флетчера, Ж. Маржерета, а также в отношении тезиса о земских соборах как органе сословного (а не территориального) представительства: Лисейцев Д. В. Почему Земский собор – не парламент? // Российская история. 2020. № 4. С. 142–150.], и есть достаточные свидетельства в пользу того, что шляхетская демократия и ее институты были позаимствованы на русских землях Речи Посполитой из практики Короны Польской и Священной Римской империи[398 - К этому вопросу мы еще обратимся в этой работе, когда рассмотрим рецепцию европейских политико-правовых реалий московской шляхтой XV–XVII вв. См. здесь ниже.].
В. Л. Янин говорит о Новгородском государстве в категориях республиканского управления, которое, по мнению исследователя, состояло из трех слоев: полноправных «великих бояр»-землевладельцев, «меньших» землевладельцев-вечников (из них позднее выделились «житьи» люди), а также низшей «простой чади», или «черного люда»[399 - Янин В. Л. Новгородские посадники. С. 210, 212, 414.]. Проблема возникает, если перенести эту систему координат на другие регионы Русской земли. Мы обнаружим все аналоги новгородского республиканского общества, но не обнаружим ни следов самого республиканства, ни рефлексии об обществе как целом в подобных категориях. Значит ли это, что «республика» в Новгороде – это научная условность? Или у нас просто недостаточно свидетельств, чтобы найти следы республики в других русских землях, и это всего лишь эффект языка самоописания или сохранности источников? Отчасти этот вопрос решался в статье Олега Хархордина и Ларисы Ивановой-Веэн о Новгороде как res publica, где нивелированы смысловые различия между пониманием республики в Древнем Риме и древнем Новгороде, т. е. предложен стадиальный подход не только к республиканским традициям, но и к самому пониманию того, что такое res publica. В этой перспективе общая вещь – идеальное состояние вещи-дела, судебного предмета и его рассмотрения, а бытование в Новгороде Великом понятия вещь приближено к эпохе Двенадцати таблиц в Риме. В числе прочего авторами показано, что понятие людские вещи уже в Ефремовской Кормчей книге XII в. используется для греч. ??????? (аналог в латинском переводе этого места – res publica), и вывод из этого и ряда других примеров безусловен: «Это значит, что у новгородцев был доступ к дискурсу, в котором были в обращении славянские аналоги латинского понятия res publica, даже если само это слово не было в употреблении»[400 - Charchordin O., Ivanova-Veen L. Novgorod als res publica. S. 1311; Хархордин О. В. Республика. Полная версия. С. 88–89. Дальнейшая параллель моста через Волхов с республикой через языковое подобие вещи-пред-мета мосту по аналогии с ob-iectum (как набрасыванием и соединением объекта) представляет собой ценный пример институционального и понятийного анализа, в котором обнаруживаются и древние истоки славянского понятия вече. Менее убедительно, на мой взгляд, звучат аналогии Великого моста с функциями республики: свержение с моста как свержение с трона, как политический театр смерти или как очищение от грехов. Роль моста в этих качествах эксплицитно выступает только в хрониках (новгородских летописях). Конечно, и в данной параллели моста с общей вещью возможна новгородская «инфраструктура свободы», которой противостояли московские власти, когда заказали переработку моста в 1532 г. или осуществляли на мосту и на Волхове расправы над новгородцами в 1570 г. Однако прямо мост нигде в московских выпадах против новгородских порядков не выступает.]. Впрочем, эта ниша в русской книжности находилась под сильным влиянием дискурсов христианской общей пользы и общего жития[401 - См. тезаурусы вещи и общего в памятниках до конца XIV в.: Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.): В 10 т. / Гл. ред. Р. И. Аванесов, И. С. Улуханов. Т. 1. М., 1988. С. 406–412; Т. 5. М., 2002. С. 566–572.]. Когда идея общей вещи зазвучит в XVI в. в сочинениях князя А. М. Курбского, в ней единство христианского братства верных и республиканизма будет адресовать одновременно к церковным и судебно-политическим контекстам.
Приложимо ли более позднее, теоретически осмысленное представление о республике (как об общем деле) к Новгороду Великому[402 - Этот вопрос нелегитимен с точки зрения стоического понимания республики как делания, а не как состояния. Вопрос о первичности действия или состояния в приложении к римским республиканским традициям потребовал бы такого же пересмотра, как и применительно к русской политической культуре. В этом смысле мы бы ожидали от источников таких понятий, которые описывали бы, например, не государство, а правление (причем не частное и непрерывное, а коллективное и состоящее из завершенных действий). Однако мы исходим в этой работе из самой возможности рецептивного подхода и скрытых реакций российского – в максимально широком понимании – общества XV–XVII вв. на доктрины и их обозначения и лишь во вторую очередь рассматриваем соответствие древнерусских практик теоретическому осмыслению республиканизма в дискуссиях наших дней. См.: Asmis E. The State as a Partnership: Cicero’s Definition of Res Publica in His Work On the State // History of Political Thought. 2004. Vol. 25. № 4. P. 569–598; Kharkhordin O. Why «Res Publica» Is Not a State: The Stoic Grammar and Discursive Practices in Cicero’s Conception // History of Political Thought. 2010. Vol. 31. № 2. P. 221–245. См. также ответ на данный вопрос в приведенной в данном сборнике работе П. В. Лукина.]? Вечевой идеал лишь в годы московско-новгородских войн XV в. стал восприниматься как своеобразная альтернатива монархическому управлению. Показательна в этом смысле особая редакция «Хождения во Флоренцию», в которой анонимный автор, по предположению Н. А. Казаковой, – москвич в 1440?е гг., так отозвался о новгородцах (начало цитаты – о военной беззащитности города): «…А бояре в нем меншими людьми наряжати не могут, а меншии их не слушают. А люди сквернословы, плохы, а пьют много и лихо; только их Бог блюдет за их глупость»[403 - Казакова Н. А. Западная Европа в русской письменности XV–XVI веков. Из истории международных культурных связей России / Под ред. Д. С. Лихачева. Л., 1980. С. 47–48.]. Впрочем, следует отметить, что в терминологии Аристотеля меньшие люди могут соответствовать демосу (или толпе), а бояре – аристократии (или олигархии), тогда как монархическая форма правления не вызывает интереса у автора заметки. Это, как и ироническая поддержка новгородского политического устройства в конце цитаты, позволяет думать, что автор был близок к новгородцам. После присоединения к Великому княжеству Московскому господином Великому Новгороду было запрещено называться, потому что его господин – великий князь московский Иван III. Вечевые колокола вошли в противоречие с великокняжеским судом московских наместников в Новгороде («в?чю колоколу въ отчин? нашеи в Нов?город? не быти»)[404 - ПСРЛ. Т. 25. М., 2004. С. 318. См. также: Лукин П. В. Новгородское вече. С. 265.], а затем и Пскове, где в середине XV – начале XVI в. бытовало самоназвание «Господин Великий Псков» («Господарьство Псковское», «Псковская держава»)[405 - Вовин А. А. Городская коммуна средневекового Пскова. С. 44–51.]. При этом следов влияния псковитян и новгородцев на московскую политическую культуру после присоединения их вечевых республик к Москве не заметно. В Москве проживала крупная псковская община, однако она не лоббировала вечевые идеалы – по крайней мере, о подобных тенденциях в Москве первой половины XVI в. нам ничего не известно. Контакты с Новгородом Великим в книжном деле, церковной политике, борьбе с ересями также не сказывались на модификациях московских политических структур[406 - Эту «всеядность» Москвы и Московского государства в размещении, обустройстве и государевой службе иноземных людей Томас Оуэн обсуждает как переход заграничных инициатив Новгорода Великого после падения его независимости к Москве и, соответственно, от новгородской экономической модели развития России к московской. Этот тезис мог бы послужить важным военно-политическим уточнением к теории экономического отставания Александра Гершенкрона. См.: Owen Th. C. Novgorod and Muscovy as Models of Russian Economic Development // Harvard Ukrainian Studies. Vol. 19 (1995). P. 497–512.]. Уже много лет спустя после того, как в Северо-Восточной Руси заканчиваются вечевые собрания, и три четверти столетия спустя после падения Господина Великого Новгорода начинаются так называемые Земские соборы в Москве. Есть ли связь и преемственность между вечевыми и соборными институтами? Может быть, частичная есть, но в науке уже неоднократно отмечалось, что, при всем внешнем институциональном сходстве, на уровне культурной памяти и языковых реалий зависимость московских соборов середины – второй половины XVI в. от вечевых традиций Южной, Северо-Восточной и Северной Руси не прослеживается[407 - Соборные практики в правление Ивана Грозного включали военные «снемы», церковно-земские «соборы», публичные «покаянные» речи и окказиональные обсуждения внешней политики. См.: Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма: Исследование социально-политической истории времени Ивана Грозного. М., 1996. С. 144–301.].
Возможно ли, что закат вечевой традиции свидетельствует о преднамеренном уничтожении этого института и подавлении его последствий? Согласно выводу Т. Л. Вилкул, понятие «вече» выступает как особый политический термин, оценочный, эмоционально нагруженный и отчасти – говоря современным языком – публицистический. Его избегали летописцы, регулярно заменяя при копировании сообщений на другие, и тоже эмоционально окрашенные, аналоги (например, называя вече «сонмищем людским»)[408 - Вилкул Т. Л. Люди и князь в древнерусских летописях середины XI–XIII вв. М., 2009. С. 26–31.]. Юрий Гранберг показал, что со второй половины XV в. вече заметно усиливается в Пскове, хотя институционального значения в государственном устройстве так и не приобретает. В других землях подобный взлет и не происходит (даже в Новгороде Великом), хотя с 1430?х гг. понятие вече становится выражением, регулярно в источниках характеризующим новгородско-псковские народные собрания[409 - Гранберг Ю. Вече в древнерусских письменных источниках: функция и терминология / Пер. С. Л. Никольского и др. // Древнейшие государства Восточной Европы. 2004 год: Политические институты Древней Руси. М., 2006. С. 3–163, здесь С. 100–135.]. П. В. Лукин, говоря о приближении значения понятия вече в XIV–XV вв. к терминологическому, подразумевает, что к XV в. народные собрания не только обретают институциональные очертания, но и начинают осознаваться как альтернатива единодержавной власти[410 - Лукин П. В. Новгородское вече. С. 43.]. В. А. Аракчеев изучил 66 вечевых собраний в Пскове до 1510 г.[411 - Аракчеев В. А. Средневековый Псков. Власть, общество, повседневная жизнь в XV–XVII веках. Псков, 2004. С. 59.] А. А. Вовин опроверг раннюю датировку грамоты Пскова Якову Голутиновичу, в которой предположительно впервые выступает институт псковского веча, перенес это упоминание с начала XIV на конец XV или начало XVI в. Это, в свою очередь (с учетом ряда оговорок о терминологии и датировке Псковской судной грамоты), позволило самыми ранними считать в летописях сообщение от 1463 г., в грамотах – за 1480 г.[412 - Вовин А. А. Городская коммуна средневекового Пскова. С. 130–136, 229–240.] Поздняя датировка вечевой формы управления в государственной системе Великого Новгорода и Пскова позволяет напрямую связать это учреждение с нарастающим противостоянием этих государств монархическим тенденциям как вовне, так и в самих северных русских государствах[413 - Противопоставление городских коммун вечевых республик Новгорода и Пскова московским традициям, где под действием монархической власти коммуны не сложились, проведено Рудольфом Мументалером: Mumenthaler R. Sp?tmittelalterliche St?dte West- und Osteuropas im Vergleich: Versuch einer verfassungsgeschichtlichen Typologie // Jahrb?cher f?r osteurop?ische Geschichte. 1998. Bd. 46 / 1. S. 39–68, особенно S. 48–49, 57–59, 65–66 (здесь также историографический обзор). В известном смысле этот взгляд развивает бинарную логику противостояния древнерусской демократии и государственного монархизма, отразившуюся в ряде исторических концепций «государственной» или «юридической» школы. Наиболее дискуссионным в этой перспективе остается вопрос о причинах долговременного сосуществования «демократической» и «государственной» традиций, обычно решаемый с точки зрения закономерностей исторического развития или в логике внешних влияний (среди них – ордынского и византийского). См., например: Самоквасов Д. Я. Заметки по истории русского государственного устройства и управления // Журнал Министерства народного просвещения. 1869. № 12. С. 217–248 и др.].
И в данном случае исследователи оказываются перед парадоксом. П. В. Лукин отмечает институциональный характер веча, говоря об уничтожении символа Новгородской республики – вечевого колокола – Иваном III: «Наличие такого символа – бесспорное проявление институционализации веча и новгородской „вольности“ в целом»[414 - Лукин П. В. Новгородское вече. С. 265.]. А. А. Вовин также сталкивается с тем, что важнейший вопрос на вече, помимо принятия посольств и обсуждения деятельности посадников, – присяга и отпуск правящего князя, который обращается к Пскову и псковичам «за все добро псковское»[415 - Вовин А. А. Городская коммуна средневекового Пскова. С. 133–135. Исследователь склонен уподоблять «вольность» вечевого города-государства средневековым коммунам. «Весь Псков» или «псковичи» в этой логике выступают в качестве граждан горизонтального сообщества. Республиканские права – или их аналог – могут быть обнаружены в традициях, восходящих в ряде русских земель к XII в.: в «посажении на стол» князя, заключении «ряда» города или города-государства с князем, отделении прав частного лица от занимаемых должностей («посадника» и др.).]. Не значат ли подобные тезисы, что вечевой институт в Новгороде явлен нам наиболее отчетливо в момент своего исчезновения, а в Пскове сходный социальный феномен проявляет себя в первую очередь и главным образом в своем отношении к своему политическому противовесу в форме монархической власти? Существовал ли политический институт веча в Новгороде Великом к 1478 г. и в Пскове к 1510 г.? Не был ли он «оформлен» актами или волевыми жестами его уничтожения? Не были ли вечевой колокол или челобитье князей Пскову метонимиями республиканской формы правления, уничтоженными из Москвы вместе с новгородской и псковской независимостью? Челобитье правящего князя не находит аналогов в московской политической культуре (если не считать соборные покаяния, на которых народное собрание – это церковная общность, не принимающая никаких политических решений). Что касается Новгорода Великого, то помимо московских выпадов в его адрес и записок иностранцев XVI–XVII вв. (когда независимость Новгорода была уже de facto утрачена), найти доктринальные выражения его республиканской идеи не удается[416 - Лукин П. В. Новгородское вече. С. 310, 333–335, 504–520.]. Дискурс «новгородской вольности» предъявлен именно в Московском летописном своде конца XV в.[417 - Гранберг Ю. Вече в древнерусских письменных источниках. С. 24–25, 118–119.], а вольность «худых мужиков вечников», как и позднее в посланиях Ивана Грозного Елизавете Тюдор правление «мужиков торговых», а в послании Алексея Михайловича псковичам власть «худых людишек», представлена в московском летописании как вопиющее безобразие, смута и измена. Впрочем, новгородцы во время восстания 1650 г. в публичных обращениях к властям называли «бедой» погром Ивана Грозного 1570 г., а Иван Жеглов в переписке с боярином кн. И. Н. Хованским в ходе того же восстания 1650 г. призывал князя для расследования не присылать в город не-новгородцев, которые местного «извычая не знают»[418 - Козляков В. Н. Царь Алексей Тишайший. Летопись власти. М., 2018. С. 85–91.]. Извычай местных традиций был нарушен бедой московского насилия, и присланный из Москвы воевода уступил и признал права повстанцев. Впрочем, в ходе Псковского восстания того же года Иван Грозный был представлен горожанами как идеальный монарх, воевавший во главе не ыноземцев, а руских людей, в отличие от нынешнего царя (который при этом не переставал быть для повстанцев «праведным надежей»)[419 - Аракчеев В. А. Средневековый Псков. С. 223. В. А. Аракчеев считает, что повстанцами управлял наивный монархизм: «Ни в одном документе 1650 г. республиканские институты власти не упоминались, а сами псковичи в челобитной называли себя холопами государя» (Там же. С. 226).]. Противостояние с вольностью как проявлением мятежного своеволия должно было иметь своей оборотной стороной экзальтированное монархическое начало, выразившееся в дихотомии господаря – холопа в московской политической культуре. Однако ни в Москве, ни на окраинах Российского государства не было не только республиканских символических ресурсов, но и дискурсов неограниченной монархии, и все попытки их освоить обращались скорее в эксцессы власти, чем в образцы для подражания.
Еще в XIX в. отмечалось, что вечевые традиции в Пскове сохранялись и после 1510 г. и дали о себе знать, например, в 1569–1570 гг. в «Изборском деле» и тайном противостоянии горожан и Псково-Печорского монастыря Ивану Грозному[420 - Флоря Б. Н. Иван Грозный. 4?е изд. М., 2009. С. 255–270.], в 1608 г., когда народное собрание (всегородная) не подчинилось угрозам воеводы Петра Никитича Шереметева и именитых людей и присоединилось к сторонникам Лжедмитрия II[421 - Бутурлин Д. П. История Смутного времени в России в начале XVII века. М., 2012. С. 143–144, 182–184, 191–192, 214, 234–235. В концепции Д. П. Бутурлина хорошо видна двусмысленность ученого конструкта всегородной. Существование самого института общенародной всегородной (на основе всегородной избы) доказывается только тем, что горожане перешли на сторону Лжедмитрия II. Новгород Великий, как получилось в этом построении, никаких древних прав и свободолюбивых традиций, в отличие от Пскова, не выразил, поскольку самозванца не поддержал. Отказ новгородцев нарушать присягу Василию Шуйскому устраняет необходимость обсуждать и конструировать сами традиции в собраниях новгородцев: «В Новгороде выгоды торговли, хотя много, но еще не совсем упадшей, связывали между собой разные сословия, и потому именитые люди сохраняли некоторое влияние над мятежной чернью. К тому же митрополит Исидор пользовался общим уважением. Его увещевания, подкрепленные мнением знатнейших граждан, сильно подействовали на простолюдинов» (Там же. С. 145). Здесь осуществляется обратный идеал – единства местной «черни», торгового класса, дворян и детей боярских, духовенства и московских властей. Историк привносит в это противопоставление Новгорода и Пскова в 1608 г. оценочную шкалу, превращая своей логикой традиционное свободолюбие Пскова в злодеяние, а общую верность московским властям в Новгороде, вне зависимости от формы ее утверждения, в добродетель.], и в марте–июле 1650 г., когда власть в городе перешла к всегородной избе с выборными людьми во главе с двумя земскими старостами[422 - Аракчеев В. А. Средневековый Псков. С. 197–238, здесь С. 215 и сл.]. Сходными проявлениями свободолюбия в названных случаях были отказ подчиняться московской верховной власти и ее представителям, готовность отстаивать решения горожан (всего города, всего мира – по аналогии со всей землей) и противостоять властям, а также разногласия между городскими верхами и низами. Заговор в пользу Речи Посполитой в 1569 г. – московский же конструкт, в котором сегодня невозможно отделить вымысел от подлинных намерений, а тем более недостаточно источников эти «намерения» кому-то приписать. «Изменная» статья о попытке псковичей воспользоваться военной помощью польского короля присутствовала и в царской грамоте к повстанцам в 1650 г., и они попытались убедить делегацию Земского собора вычеркнуть эту статью из своей присяги царю Алексею Михайловичу[423 - Там же. С. 234–235.]. В 1608 г. на стороне царя Дмитрия Ивановича была отнюдь не городская «чернь», а стрельцы, часть местной дворянской корпорации во главе с Федором Михайловичем Плещеевым и городского чиновничества[424 - Кабанов А. Ю., Рабинович Я. Н. Смутное время начала XVII века: судьбы участников. Иваново, 2015. С. 7, 16.]. Конечно, протест носил во всех названных случаях чрезвычайный характер и не отразился ни в постановлениях, ни в каком-либо регламенте собраний. Дело даже не в масштабе обвинений – политическая измена, а прежде всего в опасениях московской власти, которые были нацелены против Речи Посполитой в 1569 и 1650 гг., а в годы Смуты – против царя Дмитрия Ивановича, который воплощал для Москвы также угрозу польско-литовского правления в России.
Политические собрания Пскова хранились в памяти не только в мятежные годы опричнины и Смуты или в бунташном 1650 г. В послании к земским старостам Пскова от 3 апреля 1665 г. А. Л. Ордин-Нащокин объяснял обеднение города в годы войны со Швецией и Речью Посполитой в числе прочего отсутствием гражданского постановления псковичей («в крепости гражданского постановления не держат»). Республиканская и городская семантики тесно связаны, поскольку речь идет о «несогласии междо посадцкими людми», засилье «лутчих людей над маломощными» и несоблюдении псковичами «гражданских законов». Исправить положение Ордин-Нащокин предлагал при помощи созыва «общего всенароднаго совету», который должен был бы пройти в земской избе при участии земских старост и «лутчих людей»[425 - Козляков В. Н. Царь Алексей Тишайший. С. 389.].
Косвенные доказательства республиканской традиции в средневековом Новгороде и Пскове звучат также в предыстории казачества на Волге, Яике и Тереке – и в обсуждаемой в связи с этим роли ушкуйников. Впрочем, как отмечал критик этой точки зрения Виктор Брехуненко, первые упоминания казаков в названных регионах относятся к более позднему времени и связаны вовсе не с ушкуйниками, а главным образом с ордынскими, мещерскими и рязанскими казаками, «тогда как вероятные мигранты из Пскова и Новгорода конца XV в. ничем себя не выдают»[426 - Брехуненко В. Козаки на Степовому Кордонi Європи: Типологiя козацьких спiльнот XVI – першо? половини XVII ст. Ки?в, 2011. С. 58–61, 186–187.]. Демократизм самоуправления казаков исследователь связывает со спецификой Великого Кордона, развивая концепцию «фронтира» Фредерика Тернера. Новгородцы и псковичи, как и носители коронных и литовских политических традиций, не могли, по мнению В. Брехуненко, определить развитие местных свободолюбивых традиций украинского казачества и его анклавов. Впрочем, с одной стороны, нельзя исключать, что миграции приносили в Степь носителей республиканских традиций. Учитывая связь между обсуждаемым республиканством северных русских земель и монархическими тенденциями XV – начала XVI в., вернее было бы говорить не о перенесении древних традиций в Степь или Поволжье, а разве что об отдельных диссидентах, бежавших в эти регионы в ходе противостояния монархических и, условно, тираноборческих сил в Новгороде Великом и Пскове. С другой стороны, сама концепция Ф. Тернера и его последователей акцентирует вольность как основу политического устройства, тогда как монархические, равно как и анархические, традиции позволяет выявить в гораздо меньшей мере, о чем будет сказано ниже[427 - См. также: Чорновол I. Компаративнi фронтири. Свiтовий i вiтчизняний вимiр. Ки?в, 2015. С. 163–186.].
Историческая культура Московской Руси не раз затрагивает республиканские формы правления и, несомненно, знакома с республиками в древности и современности. Летописная история Руси начинается с того, как новгородцы в поисках наряда, т. е. верховного управления, приглашают к себе трех братьев – Рюрика, Синеуса и Трувора. Образы трех братьев воспроизводят мифологическую схему триединой власти, которая воплощалась в библейских сыновьях Ноя, в братских триумвиратах русских князей, в триумвиратах скандинавских конунгов саг XII–XIII вв., в «Великопольской хронике» конца XIV в. в триединстве Чеха, Леха и Руса. Конечно, это тройное управление, как и более поздний идеал великокняжеского дуумвирата, ослабляло единодержавное звучание монархической идеи[428 - О триумвирах в политической культуре раннего Средневековья см.: Белова О. В., Петрухин В. Я. Фольклор и книжность: миф и исторические реалии. М., 2008. С. 39–43.]. Однако правление князей, сколько бы единовременно их ни было, не было идентично республике и не мыслилось как таковая вплоть до российской драматургии XVIII в. Нигде в русской книжности ранее эпохи Просвещения не возникло идей соправления или конкуренции между тремя братьями, противостояния за власть или расхождений в политических идеалах. Дуумвираты Ивана IV и его брата князя Юрия Васильевича (1533–1563 гг.) или Ивана V и Петра I (1682–1696 гг.) не обрели ни политических обоснований и предысторий, ни законодательного подкрепления. Не были допустимы в Москве и так называемые регентства, хотя временные замещения верховных правителей их матерями, сестрами, шуринами и духовными главами предпринимались неоднократно (1533–1538, 1584–1598, 1605–1606, 1619–1633, 1654–1658, 1682–1689 гг.)[429 - Назаров В. Д. Институт соправительства в Московском великом княжестве (конец XIV – нач. XVI вв.) // Верховная власть, элита и общество в России XIV – первой половины XIX века. Российская монархия в контексте европейских и азиатских монархий и империй. Вторая международная научная конференция. Тезисы докладов. М., 2009. С. 113; Солодкин Я. Г. Существовал ли институт соправительства в Московском государстве на рубеже XVI–XVII веков? // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 6. М.; СПб., 2014. С. 8–15.].
Любой шаг к «смуте» и «мятежу» рассматривался как опасное нарушение божественного порядка. В сознании одного из составителей «Повести временных лет» наряд является спасением от разногласий, а следовательно, летописец мыслит в категориях княжеско-имперской власти. Летописание не рассматривает междуцарствия как периоды особого – например, коллективного – правления, а видит в них лишь временные неурядицы. Как правило, язык летописания сохраняет представление о верховенстве церковной или светской власти даже после кончины ее носителя. Исключения возникают на заре XVI в. и почти всегда лишь подтверждают правило. Рассказ о смерти Вадима (Храброго) Новгородского от рук Рюрика возник не ранее XV в. Имперская версия происхождения Рюрика относится ко времени не ранее конца 1510?х – начала 1520?х гг. и, скорее всего, возникла в контексте дипломатического союза с Ливонским орденом против Ягеллонов. До этого времени Рюрик не мыслился как самодержец, а его противостояние с Вадимом никак не охарактеризовано и является, по всей видимости, вымыслом книжников XV – начала XVI в., породившим позднее бурные просветительские и романтические республиканские фикции. Впрочем, образ Вадима в новгородско-московской книжности мог возникнуть по аналогии с образом княгини Ванды – свободолюбивой польской правительницы, покончившей жизнь самоубийством, чтобы не идти против воли замуж за германского правителя. После ее смерти, в отличие от московской летописной нормы, в Польше установилось близкое к республике правление «совета двенадцати», тогда как после смерти Вадима Рюрик продолжил самодержавное правление. Правление 12 знатных, назначаемых раз в год в общинах-пагах, упоминается применительно к саксонским племенам еще в житии святого Лебуина, составленном в 840?х гг. – первой трети X в.[430 - Лукин П. В. Новгородское вече. С. 56–57.] Не исключено, что этот или подобный рассказ оказал опосредованное влияние на московскую знать. Князь Андрей Курбский в «Истории» рассказывал, что изначальной формой управления Русской землей было соправление Рюрика и «шести мужей», имперских (решских) князей, от которых произошли наиболее знатные нетитулованные боярские роды в Московском государстве. Аналогов этой идеи в русской и московской книжности не обнаруживается, если не считать сообщений о предках московских бояр на великокняжеской службе в Житии Александра Невского. Однако важно, что для Курбского первенство московской ветви русских княжат в правах на власть над Великой Русью было под вопросом, и в «Истории» приведены различные версии совместного правления всего рода потомков Рюрика в Русской земле, а затем и в Святорусской империи. Их летописные и агиографические источники прочитаны князем Андреем Михайловичем в республиканском ключе[431 - О республиканских идеалах кн. А. М. Курбского см. здесь ниже.].
«Русская земля» выступает в летописных текстах как владение всех русских князей, и этот взгляд сохраняет еще князь Андрей Курбский, когда говорит о «всех русских князьях» (в истории утверждения единой русской митрополии) и, вслед за древнерусским летописным идеалом, о «сынах русских» (оплакиваемых в братоубийственной войне между Москвой и Великим княжеством Литовским). Впрочем, уже поверхностный взгляд на события общерусской истории из «Повести временных лет» показывает, что общее дело в летописи – это дело именно князей, и Русскую землю они называют не чьей-то общей, а – как в Любече в 1097 г. – «нашей», княжеской. Князь Михаил Ярославич, согласно его Житию, по примеру Дмитрия Солунского спасает свою вотчину, отчество и город Тверь и весь христианский народ в битве против московско-татарского войска. По мысли М. М. Крома, идея нашего государства возникает лишь к рубежу XVI–XVII вв. и отражается в памятниках Смутного времени – например, в «Новой повести о преславном Московском царстве» (1610 г.). Впрочем, даже в этом памятнике мобилизация направлена на борьбу за Смоленск против короля Сигизмунда III под лозунгом защиты православия. Король между тем также апеллировал в своих универсалах к православию и не отрицал православную веру своих соперников, призывая их в свое подданство.
С другой стороны, к середине XVI в. претензии на «всю Русь» высказывали уже не только великие князья московские, но и ряд княжеских отпрысков Великого княжества Литовского, и шведские власти, и особенно польско-литовские монархи. Король Стефан Баторий называл Ивана Грозного господарем не всея Руси, а лишь своея Руси. Как отмечал М. М. Кром, в Слове о погибели земли Русской понятие вся земля обозначает широкую этно-конфессиональную христианскую общность, противостоящую язычникам. Взгляд московских книжников эпохи Псковского похода 1581–1582 гг. или Смуты на свое общее дело предполагает, что книжник обсуждает общность в ее противостоянии с иноверцами, по сути – со всеми европейскими странами, наемники из которых опустошали Русскую землю под командованием польского короля.
Было бы неверно вслед за рядом исследователей полагать, что политическая идентификация в Московском государстве строилась от незнания о республиканских формах. Как отмечали исследователи «Русского Хронографа», внимание составителя этого масштабного памятника в XV – начале XVI в. сосредоточено на царствах как носителях единодержавия, в отличие от других форм правления, которые рассматривались как признак упадка. В Хронографе так, например, характеризуется устройство бриттов до начала их подчинения Римской империи при императоре Септимии Севере: «Живут сии на горах дивиих и в полях пустых, не имуть бо ни градов, ни жилищ, ни землю делают, но паством и ловом и овощием питаються и ходять от места на место нази и необувени. И жены все обще имуть, не имать кождо своеа жены, и отрочата вместе питають. Ни началника имуть, но общими людми обладаеми суть, воиньствуют колесницами четверными и кони их и копи их мали. И терпять глад и зиму, в блатах крыющеся многи дни, точию вне дръжаще главы от воды, питаються тинами и корением и корою древеною»[432 - ПСРЛ. Т. 22. М., 2005. С. 257. В основе данного отрывка текст, заимствованный из Хроники Иоанна Зонары (около 1118 г.), известный на Руси к началу XVI в. Этот текст, известный как «Паралипомен Зонарин», содержит чуть более обширный отрывок, в котором в числе прочего говорится о бриттах: «ни началника имут, но общими людми обладаеми сут». На месте всего указанного отрывка в хронике Зонары читается: ???????????????. См.: ??????? ??? ?????? ??????? ???????? / Ioannis Zonarae epitome historiarum / Cum Caroli Ducangii suisque annotationibus ed. L. Dindorfius. Vol. 3. Lipsiae, 1870. P. 105 (Lib. XII. Cap. X); Паралипомен Зонарин / Подг. О. Бодянский // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских (далее – ЧОИДР). Год третий. № 1. М., 1847. С. 74–75 (кириллическая пагинация); Творогов О. В. Древнерусские хронографы. С. 182.]. Этот образ жизни московский книжник назвал бы диким, считая признаком цивилизации его противоположность – т. е. жизнь в городах и в домах, возделывание земли в одетом виде и в обуви, отдельные моногамные семьи и раздельное воспитание детей. Ненормально и прятаться от холода в болотах, и воевать без войска на колесницах с маленькими копьями. Наконец, показательное утверждение: «Ни началника имуть, но общими людми обладаеми суть». Республиканская, согласно греческому источнику – демократическая, форма (общие люди) воспринимается как безначалие и дикость, что не могло выпасть из поля зрения и при обращении к более поздним республиканским формам.
Прямые ссылки на европейские республиканские традиции встречаются в Московской Руси при посольском ведомстве в тот же исторический момент, когда создавался «Русский Хронограф». Так, 27 июля 1518 г. имперский посол Франческо да Колло произнес в Кремле речь, в которой призвал великого князя Василия III присоединиться к защите «общего христианского дела» (лат. res publica christiana, ит. tutta la republica christiana) и к антитурецкой коалиции[433 - Синицына Н. В. Максим Грек. М., 2008. С. 107.]. В 1520–1530?х гг. кальками «д?ло народное» (res publica) и «дело опщее человеческое» пользовался ученый дипломат Ф. И. Карпов в переписке с митрополитом Даниилом. Рассуждение о том, что полезнее для государства, правда или страдание, начинается в послании с вопроса: «…или д?ло народное, или царьство, или владычьство, к своей в?чности паче приемлет правду или тръп?ние?»[434 - Библиотека литературы Древней Руси (далее – БЛДР). Т. 9. Конец XV – первая половина XVI века. СПб., 2006. С. 350 (подг. текста – Д. М. Буланин).]. По словам Карпова, опасным для республики является долготерпение «без правды и закона общества». Несмотря на звучание «республиканских» калек в сочинениях ученого великокняжеского советника, он не противопоставляет республики царствам и любым прочим владычествам, а упоминает д?ло народное (или общество) как гражданское действие в царстве или граде, подчиненное в идеале «грозе правды и закона» (на страже которых должны быть начальники) и «милости» евангельской благодати (на стражу которой призывает адресата своего послания)[435 - Там же. С. 346–359.]. Излагая эту доктрину, Карпов ссылается на Аристотеля, Святое Писание и Овидия. Его вопрос лишь метафорически относится к России, однако понимание политического единства как правления, царства и народного дела одновременно – новация в российской культуре и в то же время попытка привить ей язык античной теории «всякого градского дела» (т. е. о теории гражданства)[436 - Буланин Д. М. Сочинения Федора Ивановича Карпова // БЛДР. Т. 9. С. 546–548 (здесь же библиография). См. также: Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1996. С. 207–218 (здесь акцент сделан почему-то на античной теории, которая вне единства с этикой благодати не позволяет понять мысль Ф. И. Карпова); Кром М. М. Рождение государства. С. 210; Halperin Ch. Ivan the Terrible: Free to Reward and Free to Punish. Pittsburg, Pa, 2019. P. 26–28.].
Понятие речь посполитая появляется в документации, исходящей из Вильно, Кракова и Варшавы, и в таком виде оно доходит до Москвы и откладывается, формируя знания о скрытой за ним политической форме. Но видны ли в них следы рецепции? Слово «посполито» в значении совместно, совместными усилиями звучит в московской дипломатии этого направления еще до объединения Короны Польской и Великого княжества Литовского в единую Республику. Московские читатели могли его встретить еще в XV – начале XVI в. в переводе послания кн. Конрада Мазовецкого (1493 г.)[437 - Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной Коллегии иностранных дел. Ч. 5. М., 1894. С. 15.] или в сообщении о переходе кн. М. Л. Глинского на московскую службу «с своею братьею, и с приятели, и с посполитыми людьми со многими» (1508 г.)[438 - Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. Т. 1. СПб., 1851. С. 153–154.]. В послании Ивана Грозного Сигизмунду II Августу в начале Ливонской войны говорится: «И ты, брат нашь, полож на своем разуме, что не токмо Богу или господарем пограничным, но посполито вс?х земел народу о Ливонской земл? в?домо, коим обычаем та земля по се время стояла и нам даню подлежала»[439 - РГАДА. Ф. 79 (Сношения России с Польшей). Оп. 1. № 5. Л. 147–147 об.; Ф. 389 (Литовская Метрика). Оп. 1. № 591. Л. 232 (Иван IV – Сигизмунду II Августу. Москва, апрель 1560 г.).]. Всеобщность знания о зависимости Ливонии от Москвы царь стремится обосновать, прибегнув к формуле всеобщего признания (посполито всех земель народу). Использование в данном случае слова «народ» указывает в московской языковой практике XVI в. на всех христиан вообще, однако слово «посполито» является заимствованием из польско-литовской деловой практики и вне такого контекста в России не использовалось.
Уже после Люблинского сейма 1569 г. в Москве неоднократно звучало название нового соседнего государства. 31 декабря 1601 г. посольство М. Г. Салтыкова услышало от Сената: «…также и господарь наш наяснейший Жигимонт король и Паны рада обоих господарств Коруны Польские и Великого княжества Литовского и вся Речь Посполитая, за помочью Божьею, хотим и радеем всего добра хрестьянству»[440 - Сборник Императорского Российского исторического общества (далее – СИРИО). Т. 137. М., 1912. С. 112–113.]. После чего понятие речь посполитая звучало на переговорах еще неоднократно в значении, которое приближенно можно раскрыть: представительство Короны Польской и Великого княжества Литовского на сейме. Спустя неделю, 6 января 1602 г., в словах Л. И. Сапеги это понятие приобрело дополнительные смыслы: «А вперед мы, Паны-рада, и рыцерство, и вся Речь Посполитая просим у Бога милости, чтоб меж великих господарей наших утвердилась сердечная крепкая братская любовь и дружба…»[441 - Там же. С. 155.]. В данном случае восполнена вся шляхта как народ единой Речи Посполитой, а в словах литовского канцлера Льва Сапеги мирное отношение к московским партнерам и готовность заключить мирный договор отличали всех подданных короля и граждан республики. Еще сильнее акцент на шляхте сделан в речи Сапеги перед Салтыковым со товарищи 7 января о стремлении польско-литовской стороны к миру: «И господарь наш Жигимонт король и Паны-рада и вся Речь Посполитая Коруны Польские и Великого княжества Литовского того вперед не отставливают…»[442 - Там же. С. 160.]. Переход от короля к сенаторам, а от них ко всей республике говорит о сближении идеи республики со шляхтой как представительным народом[443 - Республиканизм в польской культуре XVI–XVIII вв. неоднократно изучался в наши дни. Впрочем, недостает сравнений с рецепцией классической традиции в приграничном с Московским государством Великом княжестве Литовском. См., например: Grzeskowiak-Krwawicz A. Regina libertas: Wolnosc w polskiej mysli politycznej XVIII wieku. Gdansk, 2006; Pietrzyk-Reeves D. Lad Rzeczypospolitej: Polska mysl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja republikanska. Krakоw, 2012; Owczarska M. Zalozenia i rozwоj polskiej mysli republikanskiej w XVI wieku // Tendencje rozwojowe mysli politycznej i prawnej / Pod red. M. Maciejowskiego et al. Wroclaw, 2014. S. 389–407.].
Как показывают исследования польско-литовского парламентаризма, политика мыслилась локальной шляхтой и парламентариями (в Посольской избе и Сенате) как право всего политического народа (т. е. шляхты) на власть в стране, на все отечество и на малое отечество (т. е. поветы)[444 - См. подробнее: Kriegseisen W. Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku. Warszawa, 1991; Choinska-Mika J. Sejmiki mazowieckie w dobie Wazоw. Warszawa, 1998; Achremczyk S. Zycie sejmikowe Prus Krоlewskich w latach 1647–1772. Olsztyn, 1999; Zakrzewski A. B. Sejmiki Wielkiego Ksiestwa Litewskiego XVI–XVIII w. Ustrоj i funkcjonowanie: sejmik trocki. Warszawa, 2000; Rachuba A. Wielkie Ksiestwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569–1763. Warszawa, 2002; Mazur K. W strone integracji z Korona: Sejmiki Wolynia i Ukrainy w latach 1569–1648. Warszawa, 2006; Ambroziak T. Rzeczpospolita w litewskich instrukcjach sejmikowych w latach 1587–1648. Prоba analizy terminologicznej // Czasopismo Prawno-Historyczne. T. 65 (2013). № 2. S. 191–214; «Прикладом сво?х предкiв…». Iсторiя парламентаризму на укра?нських землях в 1386–1648 рр.: Польське королiвство та Рiч Посполита / За ред. В. Михайловського. Ки?в, 2018; Михайловський В. Бiблiографiя парламентаризму на укра?нських землях до 1648 року: Польське королiвство, Велике князiвство Литовське, Рiч Посполита. Ки?в, 2018 и др.]. Самосознание шляхты отразилось на московской культуре особенно в эпоху Смуты, когда города и выбор по городам составили оплот движения служилых людей за восстановление единства России, а ополчения наследовали польско-литовским традициям всеобщих военных сборов (pospolite ruszenie). Избрание Михаила Романова на Соборе 1613 г. в техническом смысле напоминает работу Посольской избы Сейма Речи Посполитой. Встреча российских представителей с английскими парламентскими традициями в середине XVII в. подчинялась уже логикам возобновленной монархии, и не следовало бы видеть в реакции гонца Г. С. Дохтурова в 1645 г. на Гражданскую войну что-то большее, чем покорный отчет царского слуги. Но даже для такого бездумного описания перед нами не вполне адекватный взгляд, уподобляющий «думных людей» парламентариям, а короля – любым государям, которые везде стремятся владеть «своими государствы»[445 - Рогинский З. И. Поездка Герасима Семеновича Дохтурова в 1645–1646 гг. (из истории англо-русских отношений в период английской революции XVII века). Ярославль, 1959. С. 24–25.]. Статус гонца и характер посольского изложения в статейных списках заставляют не вполне согласиться с выводом М. А. Киселева: «Такая ситуация была зафиксирована в московском политическом глоссарии: привычная власть государей в государствах и непривычное господство думных»[446 - Киселев М. А. Форма правления и социальная иерархия в российской политической мысли XVII – первой четверти XVIII века. С. 22–23.]. Самостоятельное правление «думных» в России XVI–XVII вв. вязалось с боярским многомятежным хотением и безгосударством, однако уподобление английского парламента Государевой думе свидетельствовало о крайне упрощенном видении дел в Англии московским гонцом. Ему и не по чину было рассуждать – гонцам предписывалось срочно исполнять поручение, собирать подручные сведения и как можно меньше сообщать о себе и российских делах, отговариваясь низким статусом (я у государя человек молодой…).
Понятие республика в приложении к московской истории встречается в сочинениях кн. А. М. Курбского. Сочинения мятежного князя московского и польско-литовского периодов разительно отличаются между собой в терминологии, кругозоре и идейных построениях. В «Истории о князя великого московского делех» и связанных с ней сочинениях эмигрантского периода (около 1570?х – начала 1580?х гг.) князь отстаивал образ единой христианской республики, которую впервые в русской книжности называл Святорусской империей[447 - Граля Х. Была ли «Святая Русь» «местом памяти» Руси Речи Посполитой? // «Места памяти» Руси конца XV – середины XVIII в. М., 2019. С. 261–262.]. Республиканский идеал выражен князем в различных формах. Прежде всего в идее доброго и полезного общего – это общее упоминается в том же контексте и подразумевает общую вещь, которая является буквальной калькой для обозначения республики[448 - Курбский А. М. История о делах великого князя московского / Отв. ред. Ю. Д. Рыков; сост. К. Ю. Ерусалимский; пер. с древнерусск. А. А. Алексеев. М., 2015. С. 835. Прим. 132–2. В московской рукописной традиции конца XVII–XVIII в. глосса к общей вещи, которая читается в ранних списках: посполитой речи, была устранена уже из общего протографа подавляющего большинства копий II–V изводов (т. е. в списке ОР ГИМ, собр. А. С. Уварова № 301, л. 132). Помимо польской и русской кальки Курбский использует и транслитерацию рез публика, однако предпочитает в основном тексте «Истории» использовать именно русскую кальку.]. Воплощением блага, пользы, ангельской чистоты и благодати Святого Духа был для князя Андрея Михайловича ближний советник Ивана IV Алексей Адашев[449 - Курбский А. М. История о делах великого князя московского. С. 24.]. Вера в общее всех воскресение и общежительный принцип северных отшельников объединяют в построениях князя религиозную жизнь и политику[450 - Там же. С. 194, 216.]. Этот взгляд на республику приближает идеал князя к проекту реформ во Флоренции Джироламо Савонаролы в конце XV в., сторонником которых применительно к Московскому государству был, по всей видимости, Максим Грек[451 - Враги Избранной рады при дворе царя Ивана Васильевича при этом выступают и за свержение республики, будучи скрытыми сообщниками дьявола и сторонниками превращения христианского царя в тирана. Как республиканское правительство осуществляет общее христианское дело, так и «ласкатели» царя общуют со дияволом, как говорится в «Истории» еще о временах Василия III и неоднократно – о свержении Избранной рады. Общение с дьяволом также приносит пользу, но она представлена как прямая противоположность пользы для республики. См.: Курбский А. М. История о делах великого князя московского. С. 152.]. Впрочем, Россия в правление Избранной рады, согласно Курбскому, – именно общая вещь христианская, несущая Крест «аж до Каспийскаго моря и окрест»[452 - Курбский А. М. История о делах великого князя московского. С. 216.]. Это приближает идеал республики к поздней Римской империи (продолжением которой при дворе Василия III и Ивана Грозного и считали Российское царство)[453 - Возможно, но ничем прямо не доказано сближение представлений А. М. Курбского с современными ему католическими и реформационными учениями о государстве. Нет ни одного явного источника его доктрины среди европейских современников. Курбскому был бы близок современный ему университетский томизм с его via antiqua в отношении естественного закона, церковных полномочий в ограничении власти и борьбе с тиранией. Вместе с тем он поборник расширенной версии консилиаризма, когда рассуждает о роли духовенства в просвещении монарха и защите христианской республики от тирании (например, попа Сильвестра, предположительно митрополита Германа Полева, митрополита Филиппа, псковского игумена Корнилия и своего духовного отца Феодорита Кольского). При этом его взгляды на ересь и на право сопротивления богопротивной власти приближаются к реформационным тезисам. Ср., например: Скиннер К. Истоки современной политической мысли / Пер. с англ. А. А. Олейникова; под науч. ред. В. В. Софронова. Т. 2. М., 2018. С. 198–255.].
Гибрид доктрины общего дела с идеей богоспасаемой имперской власти дополнялся осмысленной метафорой политического тела, которое представляла Русская земля, когда в ее сердце правила «Избранная рада», возглавляла «тело» светлая и просвещенная голова – юный царь Иван Васильевич, а укрепляли прочие части тела («уды») – ангелоподобные и «добрые» советники и «всенародные» люди. Учение о corpus rei publicae восходило в европейской традиции к сочинениям Иоанна Солсберийского. Оно было унаследовано в Короне и Литве, составив риторическую основу унии двух государств, соединенных в единое тело. Еще одно возможное заимствование из европейской политической мысли – понятие всенародных человеков. Этот, судя по всему, гапакс для московской письменной культуры находит прямой аналог в латинской книжности XV в. у Павла Влодковица, который заимствовал его у Марсилия Падуанского: universitas civium, т. е. собрание граждан, имеющих право от лица народа решать ключевые вопросы республики[454 - Об этом см.: Frost R. Oksfordzka historia unii polsko-litewskiej: Powstanie i rozwоj 1385–1569 / Przel. T. Fiedorek. T. 1. Poznan, 2018. S. 209–210.]. Оно характеризует не демократизм либерального типа и не требует предположения об участии простых горожан, крестьян и челяди в управлении монархической республикой[455 - С. О. Шмидт допускал, что речь в данном случае идет именно о служилых людях, о «менее знатных феодалах». В таком случае выражение А. М. Курбского следовало бы рассматривать как развитие идеи шляхетского народа Московского государства. См.: Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. С. 211–213, 268–269. О концепции С. О. Шмидта см. также: Ерусалимский К. Ю. У истоков российской политической культуры: С. О. Шмидт в осмыслении абсолютизма // Археографический ежегодник за 2013 год. М., 2019. С. 176–214.]. Курбский намечает «чины» этого политического народа, когда говорит в подробностях о бессудных казнях Ивана Грозного. Это – ближние советники царя (Избранная рада), высшая княжеская аристократия, нетитулованные боярские роды и вся шляхта республики, духовенство и пустынножители. Избрание в ближний совет царя по государственным заслугам и пользе для республики возможно из любых слоев этого политического народа, и примеры такого участия представлены в «Истории» Курбского. Подобие парламента можно видеть скорее в Избранной раде, чем во всеобщих соборах, которым князь Андрей Михайлович не уделяет в своем построении никакого внимания, хоть и допускает их созыв для дел, касающихся всей республики.
Идея тела-республики в «Истории» Курбского дополнена неоплатоническими аллюзиями, почерпнутыми из учения Максима Грека, и медицинскими открытиями в духе Мигеля Сервета. Последнему принадлежит и разделяемое Курбским учение о ненасилии в отношении еретиков и заблуждающихся в религиозных воззрениях, которых князь считал необходимым перевоспитывать и убеждать духовным оружием, а не градским мечом. При всей архаичности этих взглядов в эпоху Люблинской унии, они были не только созвучны представлениям реформационных христиан, но и частью полемического пространства, в котором Курбский лично и вместе с православными Короны и Литвы выступил в защиту традиционного православия. «История» Курбского содержит также ряд параллелей с идеей универсального христианского народа. Царь Иван Васильевич после своего духовного падения и скатывания республики в опричный («кромешный», по словам Курбского) ад не уважает те естественные права, которые соблюдают даже скифы и сарматы. Пример античного прошлого обманчив – скифы и сарматы в сознании современников князя Андрея Михайловича были актуальными народами, населяющими Степь и земли Двух Сарматий. Вместе с тем естественные права были предметом бурного обсуждения на Констанцском соборе, где П. Влодковиц в 1416 г. подобным тезисом опровергал смысл крестоносной идеи и отстаивал права Жмуди самой выбирать себе веру. Это был шаг на пути к отказу от насильственной христианизации, фоном для которого послужил спор о причинах войны Тевтонского ордена с христианскими странами. Предки Курбского покоряли Югру, а сам он – Казань и поволжских язычников. Согласие с идеями Влодковица смягчает взгляд на задачи крестоносной войны, развитый им, видимо, в тех фрагментах «Истории», которые создавались еще в период его московской службы.
Князь Андрей Михайлович стремится выйти за пределы польской языковой стихии, когда рассуждает о всенародных человеках и сынах русских. Шляхта Муромского повета и Волынская шляхта в его «Истории» родственные понятия, и это знак общности в самосознании военного аристократа Московского царства и Короны Польской (и Великого княжества Литовского). При этом к польской шляхте Курбский относится критично, вменяя ей бездействие перед лицом турецкой и татарской угрозы; тогда как московскую шляхту считает гибнущей под ударами «дракона» высшей власти и внешнего, крымского «дракона». Следовательно, шляхта не в силах выполнять свои республиканские обязанности – противостоять внешней и внутренней тирании. В Москве понятие шляхты в отношении местного служилого сословия тем не менее тоже применялось, о чем говорят посольские материалы эпохи правления Лжедмитрия I. Бояре князья Ф. И. Мстиславский и И. М. Воротынский обращались к Юрию Мнишеку, отсылая понятием рыцарство к практике обозначать так польско-литовскую шляхту. До этого времени в посольской документации в приложении к московскому служилому классу это понятие не использовалось. В своем роде мы имеем дело с внутренним заимствованием, отсылающим к социальной реалии соседнего государства: «И мы его цесарского величества бояре думные и все рыцерство московское, грамоту твою приняв любительно, выслушали есмя и тебя в том похваляем»[456 - СИРИО. Т. 137. С. 188 (22 сентября 1605 г. Отправление Петра Чубарова к Юрию Мнишеку).].
С князя Андрея Курбского берет отсчет еще и дискурс общественных «чинов» в московской культуре. М. А. Киселев рассматривает проекты гражданского переустройства в XVII в. и подчеркивает попытку сословной реформы в челобитной «о четырех чинах» 1660 г. (церковный, служилый, торговый и земледельческий)[457 - Киселев М. А. Форма правления и социальная иерархия в российской политической мысли XVII – первой четверти XVIII века. С. 33–34.]. Можно отметить, что данная схема, к тому же выражающая только интересы провинциального дворянства, не была первой абстракцией в истории России. Уже в XVI в. предпринимались попытки разделения населения страны на чины. О «чинах» в сходном понимании писал в 1563 – начале 1564 г. кн. А. М. Курбский Вассиану Муромцеву. Во время реформы «сошного обложения» в России была частично проведена в жизнь реформа, близкая к «волочной помере» в Великом княжестве Литовском, позволившая разделить все оседлое владельческое население на три группы, близкие к сословным[458 - О троичном делении общества в Европе сохраняют свой вес исследования Жоржа Дюмезиля и Жоржа Дюби, однако применительно к российской культуре найти прямой аналог тринитарной структуры не удается. Андрей Курбский рассуждает о «чинах» еще до эмиграции, однако о «трех сословиях» ничего не знает, тогда как сошная реформа до нас дошла в своих практических последствиях и не оставила никаких теоретических обоснований. Почему именно три формы сох были предусмотрены, вкладывался ли в это какой-либо абстрактный смысл – данных на сей счет у нас нет. См.: Evergates Th. The Feudal Imaginary of Georges Duby // Journal of Medieval and Early Modern Studies. Vol. 27 (1997). No. 3. P. 641–660.]. Впрочем, ни в 1555 г., ни в 1660 г. никаких прав «чины» не получали, да и понятий какого-либо представительства от «чинов» не сложилось. Учения Епифания Славинецкого, Юрия Крижанича и Николая Спафария содержат слова о формах правления, но даже близкая к автохтонной идея Спафария о трех чинах градов (царственном, изрядном и народном) является рефлексом учения Аристотеля, а не переводом российских реалий на язык теории. В рассуждении А. А. Виниуса 1673 г. об английской форме правления схема смешанного правления в духе «Политики» Аристотеля предстает как вполне усвоенная русским дипломатом. Монарх единовластен, но без парламента «не может в великих делах никакого совершенства учинить». Парламент, или сейм, делится на верхний и нижний дома и обеспечивает единство монархической формы правления с аристократической и демократической[459 - Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Т. 12. М., 1961. С. 247–248; Лопатников В. А. Ордин-Нащокин. Опередивший время. М., 2017. С. 212. Ср.: Казакова Н. А. А. А. Виниус и статейный список его посольства в Англию, Францию и Испанию в 1672–1674 гг. // ТОДРЛ. Т. 39. Л., 1985. С. 359–360; Киселев М. А. Форма правления и социальная иерархия в российской политической мысли XVII – первой четверти XVIII века. С. 35–43 (в передаче Н. А. Казаковой и М. А. Киселева часть цитаты и финал о полномочиях короля выпущены).].
Дальний родич Курбского, князь Иван Хворостинин, отвоевав свое за юного царя Михаила Романова, попытался уехать из страны. Это было следствие душевного надлома и культурного разуверения. Когда из польского плена вернулся патриарх Филарет, на Хворостинина завели «слово и дело». Князь будто бы обзывал царя деспотом русским «не по достоинству», т. е., как чувствовали следователи, он имел в виду не исконное греческое значение слова, а какое-то обидное для царя[460 - Соловьев С. М. Соч.: В 18 кн. Кн. 5. М., 1990. С. 316–317.]. Но, помимо того, князь мечтал «отъехать в Литву», будто бы читал польские книги и высказывал неверие в Воскресение Христа. Он просил отпустить его «в Рим или в Литву» и оскорблял местных жителей: «…на Москве людей нет, все люд глупой, жити… не с кем»[461 - Lewitter L. R. Poland, the Ukraine and Russia in the 17th Century // The Slavonic and East European Review. Vol. 27 (1948). № 68. P. 157–171, здесь P. 158–159.]. Следственное дело сохранило его стих, который передан в пересказе, но в оригинале, видимо, представлял собой вполне складный трехстопный хорей: «Сеют землю рожью, а живут все ложью»[462 - Опарина Т. А. Иван Наседка и полемическое богословие киевской митрополии. Новосибирск, 1998. С. 144–145 (текст стиха цитируется в следственном деле, цитата здесь же на с. 145).]. Обвинения обернулись судом и пострижением, а по сути – заключением князя Ивана в монастырь в 1623–1624 гг., откуда он вернулся в Москву монахом, раскаявшись в грехах.
Спасение от казни и временное покаяние в монастыре были предметом тайной борьбы черного духовенства и оппозиционно настроенного дворянства с верховной властью. В XVI–XVII вв. расширилась практика расправ-пострижений жен в монастырь, а также политические обвинения в адрес придворных, приводившие к временному заточению в мужских обителях или пострижению в монахи[463 - Белякова Е. В., Белякова Н. А., Емченко Е. Б. Женщина в православии: церковное право и российская практика. М., 2011. С. 183–188, 222–225.]. По одному этому противостоянию можно судить о затаенной борьбе против всесилия светской власти. За добровольное пострижение выступали Вассиан Патрикеев еще при Василии III, а также князь Андрей Курбский, Тимофей Тетерин, монахи Кирилло-Белозерского монастыря в годы правления Ивана Грозного. Правление «расстриги» под именем царя Дмитрия Ивановича означало, что для верховной власти к началу XVII в. претензии на возвращение в мир из любого пострижения сами по себе представлялись преступными, тогда как в среде сопротивления принудительное монашество было показателем политического преследования[464 - Расстрижение из перспективы действующей власти может рассматриваться как нарушение божественного мироустройства, которое должно лишать прав на власть даже наследника престола, способного доказать свою подлинность «царскими знаками» на теле. Конечно, в популярной среде противников Бориса Годунова и Василия Шуйского факт предполагаемого расстрижения царевича Дмитрия Ивановича не был препятствием для его прославления и признания в качестве действующего царя. Подробнее об институте самозванства в российской политике см.: Ingerflom C.-S. Le tsar, c’est moi: L’ imposture permanente, d’ Ivan le Terrible ? Vladimir Poutine. Paris, 2015.]. Монахам (черной старице Марфе Жилиной) был приписан и опасный для Михаила Романова слух, распространившийся в 1633 г., о том, что царевича Алексея подменили вместо родившейся у царицы дочери[465 - Perrie M. Substituted Tsareviches and Enemy Agents: The Case of Archimandrite Fedorit (1635–1636) // Russian History. Vol. 34 (2007). No. 1/4. P. 368, 370–372.]. Родословный бунт в условиях династического кризиса грозил новой Смутой. И для власти, и для распространителей слухов этот тип мятежной борьбы представлялся опасным вызовом в адрес действующей власти. Иван Хворостинин понес наказание, которое смиряло его еретические и богохульные взгляды, но в первую очередь несло отпечаток демонстративного торжества власти над антимиром.
Польские слуги короля в Москве оставили ценные воспоминания о своем общении с московитами, среди которых были и политико-правовые расхождения. Литовский шляхтич Самуэль Маскевич записал диалоги соотечественников, литвинов и поляков, с местными жителями о холопстве и свободе. Отношение к европейским ценностям было скорее негативным. В обмен на свою несвободу (niewola) московиты согласны были получать справедливый суд царя, их «солнца праведного, светила русского», которому и «бесправие» разрешено самим Богом. Чтобы объяснить читателям эту позицию, мемуарист прибегает к сравнению: в Речи Посполитой «худшие» тратят годы жизни, если не всю жизнь, чтобы добиться справедливости в судах в споре с «сильнейшим», а царь судит по делам их равно и «худшего», и «сильнейшего». Свобода (wolnosc) поляка для московита – своеволие (swawola)[466 - Pamietniki Samuela i Boguslawa Maskiewiczоw (wiek XVII) / Oprac., wstep, przypisy A. Sajkowski; red., slowo wstepne W. Czaplinski. Wroclaw, 1961. S. 146.]. Даже в таком выпаде в пользу «тирании» для читателя было о чем задуматься. Во-первых, читатель в Короне и Литве должен был понять, что московская культура иная, ее нельзя присвоить и переделать. Во-вторых, тирания и для московитов не была оправдана и допустима, власть царя была тем более легитимна, даже в своей московской форме, благодаря недочетам истинной – для Маскевича – формы правления Речи Посполитой. Это, конечно, снижает ценность самого свидетельства: оно могло быть частично или полностью вымышлено. Однако верховная власть Москвы и в Смуту, и позднее шла на признание ценностей шляхты. Скорее исключением был выпад против польских свобод и вольностей в официальном обращении Федора Шереметева на переговорах с Львом Сапегой в Деулине в конце 1618 г.[467 - Majewski A.-A. Moskwa 1617–1618. Warszawa, 2011. S. 38.] С одной стороны, его подкрепляют разве что насмешливые выпады Ивана Грозного от имени бояр в адрес короля Сигизмунда II Августа: «Видиши ли, яко везде убо несвободно есть»[468 - РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. № 8. Л. 6 об. (Кн. И. Д. Бельский – Сигизмунду II Августу. Москва, 2 июля 1567 г.), 22 (Кн. И. Ф. Мстиславский – Сигизмунду II Августу. Москва, 5 июля 1567 г.), 40 об. (Кн. М. И. Воротынский – Сигизмунду II Августу. Москва, 15 июля 1567 г.).]. Это, как и другие провокационные высказывания от имени царя Ивана Васильевича или при его действительном участии, – крайне ненадежный источник для выводов о приемлемом для жителей Московской Руси политическом богословии. Пример можно найти в событиях 1634 г. Смертный приговор воеводе боярину М. Б. Шеину за Смоленскую кампанию сопровождался освобождением от ответственности двух дьяков, которые делали все по преступным приказам Шеина: «…то и делали все неволею»[469 - Акты Археографической экспедиции. Т. 3. СПб., 1836. № 251. См. также: Коллманн Н.-Ш. Преступление и наказание в России раннего Нового времени / Пер. с англ. П. И. Прудовского и др. М., 2016. С. 95, 427.]. Потеря воли, даже при всеобщей несвободе (в результате грехопадения и изгнания Адама и Евы из рая), не считалась в Москве благом.
Есть ли все же аналог государству как общему делу в московской риторике XVI – начала XVII в.? С одной стороны, уже в работах С. О. Шмидта и Ю. М. Эскина подчеркивалось участие высших сословий в формировании самодержавной формы управления, в которой новацией, а не пережитком был институт местничества и связанные с ним иерархии, ограничивающие права монархов[470 - Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. С. 330–380; Эскин Ю. М. Очерки истории местничества в России XVI–XVII вв. М., 2009. С. 13–14, 95–122, 378–404. См. также: Berelowitch A. La hiеrarchie des еgaux. La noblesse russe d’ Ancien Rеgime (XVI
–XVII
si?cles). Paris, 2001; Коллманн Н.-Ш. Соединенные честью. С. 271–321.]. С. Н. Богатырев связал перемены в великокняжеской миссии с созданием московских чинов венчания на царство. В чинах венчания, памятниках летописания и делопроизводства появляется образ царя как заступника за бояр, вельмож, князей, княжат, детей боярских, а также за все христолюбивое воинство и всех православных христиан[471 - Bogatyrev S. Reinventing the Russian Monarchy in the 1550s: Ivan the Terrible, the Dynasty, and the Church // The Slavonic and East European Review. Vol. 85 (2007). No. 2. P. 271–293.]. Это также была новация, поскольку в текстах еще конца XV – начала XVI в. великие князья выступают в качестве заступников неопределенно за всех христиан и роль царского совета, воинов и жителей страны в подобных контекстах не оговаривается. М. М. Кром развивает концепцию служения «неким высшим общим интересам» в понимании монархов, начиная с Ивана III (впервые – в его послании московскому воинству под Смоленск в 1502 г.). Формула дело наше и земское от лица великого князя московского является, с точки зрения исследователя, аналогом республиканской терминологии, а в Смутное время на ее основе развилось представление о земских и о всяких делах и идеологическая программа всей земли[472 - Кром М. М. Рождение государства. С. 209–217.]. Эта программа служила точкой опоры и для самодержавной власти, и для правительств во время междуцарствий. Всплеск земской риторики приходится на опричнину 1565–1572 гг., что говорит в пользу мобилизационной версии ее применения. Для земцев это была травма, и сама неприемлемость обезглавленной «республики» для государственного управления – свидетельство в пользу прямых монархических интерпретаций формулы. Развитие идеи земского дела и земли как субъекта политики относится к эпохе Смуты. В текстах этой эпохи появляется идея божественного наказания «за умножение наших согрешений» («Иное сказание»), «безсловеснаго ради молчания» (Иван Тимофеев), «за всего мира безумное молчание» (Авраамий Палицын), позволившее злу одержать верх над страной[473 - Яковлев А. И. «Безумное молчание»: (причины Смуты по взглядам русских современников ее) // Сборник статей, посвященных Василию Осиповичу Ключевскому. Ч. 2. М., 1909. С. 651–678; Rowland D. The Problem of Advice in Muscovite Tales about the Time of Troubles. P. 270–271.]. От имени всей земли выступают и московские бояре в июле 1610 г., и Ополчения в 1611–1613 гг. Наконец, во время Соляного бунта 3 июня 1648 г. царь Алексей Михайлович обязался на иконе Спаса перед повстанцами найти виновных в злоупотреблениях, после чего «и миром и всею землею положили на его государьскую волю»[474 - Платонов С. Ф. Статьи по русской истории (1883–1902). СПб., 1903. С. 88; Козляков В. Н. Царь Алексей Тишайший. С. 51–53, 56, 59–60.]. Эти мир и вся земля в указах, исходящих от царя в те же дни, названы всякими людьми, всей чернью и всем народом, а когда царь вымаливает жизнь для Б. И. Морозова, то повстанцы принимают просьбу и бьют челом царю вновь миром и всей землею. Влияние всей земли или мира на государеву волю – формула легитимности, а не политического устройства. Она не противоречит смирению перед высшей властью царя, а легитимность этого влияния снижается за счет сопутствующей ему смуты великой, и задача власти в том, чтобы ее усмирять, а не включать в государственный строй. В целом данный отдаленный аналог республиканизма, в своем роде монархический республиканизм, звучит в источниках нечасто в качестве экстраординарного политического фактора, хотя и чаще, чем кальки и транслитерации общего дела в духе Хронографа, послания Карпова и эмигрантских сочинений Курбского, и с большей аудиторией, чем документы Посольского приказа.