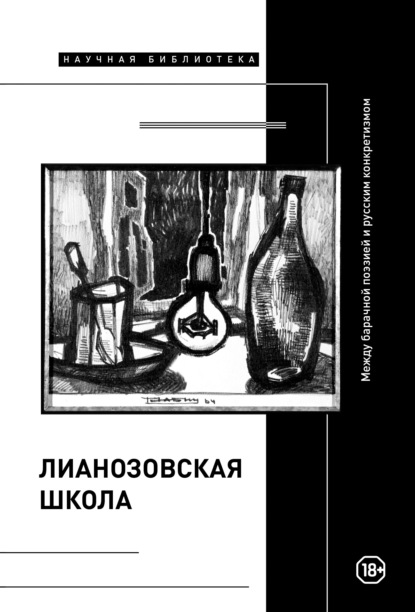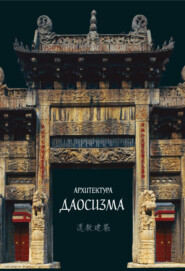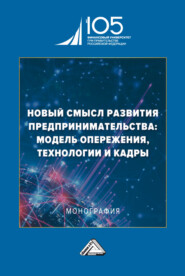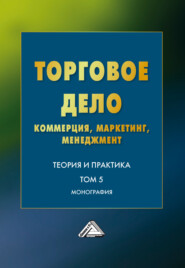По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
«Лианозовская школа». Между барачной поэзией и русским конкретизмом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мне будни серые страшны,
Страшны с живых сдиранье шкуры
(«Триолет», 1915; С. 512)[184 - Здесь и далее тексты Е. Л. Кропивницкого цитируется по: Кропивницкий Е. Избранное: 736 стихотворений + другие материалы. М.: Культурный слой, 2004, – с указанием страницы в скобках после текста.].
В иных случаях они соотносятся скорее с «персонажной» поэзией (см. ниже).
Поэтика Кропивницкого «основного» периода творчества (вторая половина 1930-х – 1970-е годы) постоянно интерпретируется именно как примитивистская[185 - См., напр.: Васильев И. А. Русский поэтический авангард ХХ века. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2000. С. 184; Орлицкий Ю. Б. Стратегия выживания литературы: Евгений Кропивницкий // Кропивницкий Е. 2004, С. 12.; Кулаков В. 1999. С. 17 и др. Полностью данной теме посвящена содержательная диссертация (Бурков О. А. Поэзия Евгения Кропивницкого: примитивизм и классическая традиция: Дисс. … канд. филол. наук. Новосибирск, 2012), с подавляющим большинством положений которой мы вполне солидарны.]. Тематический ряд неразрывно связан со стилистическим; так, постоянное обращение Кропивницкого к твердым формам (триолет, секстина, сонет) деавтоматизирует их с помощью тематического наполнения низовым материалом. «Вторжение быта и иронии способствует своего рода стилевому снижению, «одомашниванию» традиционных высоких форм, их семантической деформации»[186 - Орлицкий Ю. Б. 2004. С. 9.]; исследователь отмечает «намеренное смешение высокого и низкого, бытового и философского»[187 - Там же.] как одну из доминант поэтики Кропивницкого. Смешение высокого и низкого происходит не только в отношении «взлома» возвышенного поэтического статуса твердых форм, но и в целом на уровне столкновения речевых пластов, подчас выступающих как остраняющий прием: «Без коварства. Без затей / Кормят матери детей. / Ах как много у грудей / Присосалося детей // Дети нежутся, сосут. / О, младенчества сосуд! / Цвет их кожи нежно бел, / Чуть коснешься – покраснел…» («Младенчество», 1948; С. 305); «Покойника приятно видеть – / Он отстрадал, и вот он прах – / Ему не надо ненавидеть / И чувствовать тоску и страх. // Не надо уж ему бороться, / Испытывать земную боль. / Он никогда не улыбнется / На остроумья злую соль» («Покойник», 1978; С. 423); «Вот и январь, опять январь / И новый год опять. / И граждане опять, как встарь, / Почли его встречать. // Коньяк, портвейн, мадера, ром – / Опять, опять как встарь. / Да, новый год – январь притом, – / Как встарь – опять январь…» («Новый год», 1953; С. 360). Мы сознательно взяли примеры (которые можно множить и множить), не вполне или совсем не совпадающие с собственно «барачной» лирикой Кропивницкого, вроде хрестоматийного «У забора проститутка, / Девка белобрысая. / В доме 9 – ели утку / И капусту кислую. // Засыпала на постели / Пара новобрачная. / В 112 артели / Жизнь была невзрачная. // Шел трамвай. Киоск косился. // Болт торчал подвешенный. / Самолет, гудя, носился / В небе, словно бешеный» (1944; С. 131). Именно здесь в наибольшей степени проявляется то свойство, которое делает поэтику Кропивницкого шире «барачной», позволяя соотнестись с совершенно иными регистрами примитивизма.
Ю. Б. Орлицкий отмечает, анализируя один из текстов поэта:
С точки зрения литконсультанта советской газеты, стихотворение это – в самом прямом смысле графомания. Но, похоже, Е. Кропивницкий ничуть не боялся этого ярлыка, напротив, словно бы постоянно провоцировал своего вероятного критика на его приклеивание к собственной литературной репутации[188 - Орлицкий Ю. «Для выражения чувства…»: Стихи Е. Л. Кропивницкого // Новое литературное обозрение. № 5. 1993. С. 188.].
Действительно, для Кропивницкого архаическая лексика, «неуклюжие словечки», будто бы просто заполняющие метрические пустоты, да и собственно набор метрических ореолов, очевидным образом восходящих к символизму и даже к «малым» поэтам досимволистской эпохи (например, к Константину Фофанову), наконец, нескрываемая сентиментальная интонация – все это вполне сознательный набор художественных средств, применимых ко всякому материалу (в том числе «барачному»). Но суть примитивизма Кропивницкого именно в ориентации на «стертые» поэтические линии, которые даже в годы его ранних публикаций в разного рода второстепенных дореволюционных изданиях могли восприниматься на фоне разного рода постсимволистских течений как незамысловатая архаика. Однако остраняющая, сознательная работа Кропивницкого с этим рядом позволяет его видеть внутри вполне значимой, хотя обыкновенно и забываемой постсимволистской поэтической линии, а именно «сатириконовской» – именно в ней остраненно-ироническое и сентиментальное начала находят максимально яркое выражение (здесь же мы обнаружим и параллели с ролевой лирикой).
«Сатириконовцев» обыкновенно не соотносят с примитивистской поэтикой – хотя бы потому, что наиболее известен среди этой группы авторов Саша Черный, в самом деле не вполне имеющий отношение к данному вопросу: и ирония, и снижение высокого – вполне для него характерные черты, но нет деформации формы, тех подчернутых, сознательных «неправильностей», что кажутся необходимым признаком примитивизма. Но такие авторы, как Петр Потемкин или Валентин Горянский, в примитивистском контексте прочитываемы без всякой натяжки.
С другой стороны, для Евгения Кропивницкого важной предстает фигура поэта Филарета Чернова (1877–1940), полностью встроенного в парадигму «стертой» традиции позднего постромантизма, отчасти пропущенного через декадентские фильтры[189 - А с другой стороны, явственно демонстрирующего девиантную поведенческую модель, характеризующую в массовой культурной мифологии «подлинного», «стихийного» поэта.]: «…Кто слыша крик новорожденных / Не содрогается душой / За них, невинно обреченных / Принять великий плен земной?» (1916; С. 253)[190 - Цит. здесь и далее по публикации: Чернов Ф. Из сборника «В темном круге» // Новое литературное обозрение. № 5. 1993. С. 252–255) с указанием страниц в скобках. См. также отдельное издание: Чернов Ф. В темном круге. Рудня; Смоленск: Мнемозина, 2011.]; «…Ты ушел от меня в бесконечность, / Ты забыл, ты оставил меня. / Не зажжет эта страшная вечность / Путеводного в сердце огня» (1920; там же); «…Я чувственно смотрел, я чувственно алкал, / Я слушал чувственно, не утончая слуха, / Я грубо чувствовал, я грубо постигал, / В твою земную плоть не проникая духом» (1926; С. 234). Кропивницкий в своем мемуаре о Чернове подчеркивает «силу», «подлинность» и т. д. этого поэта; характеристика поэтики Чернова дается из констатации его субъективно-лирической установки: «Сущность его поэзии заключается в глубине его „Я“. Объективность им воспринимается как нечто синтетическое, и на долю его анализа падает его „Я“. В анализе своего „Я“ Чернов неистощим – он в этом своем „Я“ усматривает все новые и новые грани и оттенки»[191 - Кропивницкий Е. 2004. С. 595.]. Бессознательность попадания Чернова в некий «стиховой поток» также вполне осознается и подчеркивается Кропивницким: «Филарет Чернов редко кому подражал, он боялся подражания, но часто, почти независимо от себя, он как бы имитировал настроения и звучанья таких поэтов, которых любил и которыми увлекался»[192 - Кропивницкий Е. 2004. С. 596.] (чуть выше Кропивницкий приводит список авторов, таким образом «отражаемых» у Чернова: Блок, Есенин, Клюев, Фет, Тютчев, Лермонтов и «даже» Надсон). Парадоксальность фигуры Чернова в ее не вполне ясном статусе: никак не сознательный примитивист, но и не примитив (пусть во многом самоучка, но все же – человек культуры), Чернов мог бы быть назван оценочно «эпигоном», но мы воздержимся от такого определения. Перед нами скорее представитель своего рода «вневременной», не соответствующей господствующей эстетической парадигме культуры, сохраняющей (пускай и в «стертом» виде) некоторые ценности «поэтического возвышенного». Для Кропивницкого, возможно, именно это (помимо очевидного человеческого влияния) было поводом считать Чернова значительной фигурой, делавшей в некоем «поточном» варианте то же, что Кропивницкий делал осознанно и отрефлексированно.
Нельзя не отметить у самого Кропивницкого и акцентирование тех черт символистской поэтики, которые можно интерпретировать в контексте примитивизма (при этом должны учитываться преимущественно Блок и Сологуб, как раз относившиеся к наиболее важным для Кропивницкого авторам). Уже отмечалось:
Взыскуя простоты, Блок апеллировал к детскому и первобытному. Ребенок или дикарь – это традиционные культурно-антропологические персонификации вожделенного рая наивности, к которому стремится вернуться обремененный грузом культуры европеец. Смещение субъектной перспективы литературного слова к подобным персонификациям и ведет к наивной поэтике[193 - Абашев В. В. Блок и «наивное письмо» // Славянские чтения. Вып. III. Даугавпилс; Резекне, 2003. С. 135], —
именно эти черты (пусть и второстепенные) символистской поэтики (а не, скажем, теургические или демонические) Кропивницкий учитывал в качестве ориентира.
Обыкновенно принято говорить о том, что схожий материал Евгений Кропивницкий рассматривает доброжелательно, в то время как другой важнейший для «барачной лирики» автор, Игорь Холин, подходит к нему с максимальной, ледяной нейтральностью:
Видно, что «барачный» Холин целиком вышел из Кропивницкого. Но даже в процитированном выше[194 - Процитировано стихотворение Кропивницкого «Полночь. Шумно. Тротуар…» (1938).] стихотворении Е. Кропивницкого, отличающемся особой синтаксической лапидарностью, все равно, конечно, ощущается характерная мягкая интонация – «печально улыбнуться». Холин же совершенно непроницаем. Он не улыбается, не иронизирует. Он информирует, «доводит до сведения»[195 - Кулаков В. Указ. соч. С. 18–19.].
Эта трактовка может быть, с нашей точки зрения, дополнена и отчасти скорректирована таким соображением: Кропивницкий остраняет материал, делая «низкий» быт неожиданно поэтическим (и, одновременно «высокие» поэтические формы приземляя до бытового уровня); сама остраняющая ирония позволяет увидеть комизм, а за ним и сентиментальность обыденности. Холина же можно соотнести с так называемой «поэтикой неостранения»:
Если остранение показывает обыденное как незнакомое, заново, то неостранение – это отказ признать, что незнакомое или новое необыкновенно, причём сам этот отказ признать необыкновенность часто приобретает вопиющие формы и уж, во всяком случае, никогда не бывает эстетически нейтрален[196 - Меерсон О. «Свободная вещь»: Поэтика неостранения у Андрея Платонова. 2-е изд., испр. Новосибирск: Наука, 2001. С. 8.]
Страшны с живых сдиранье шкуры
(«Триолет», 1915; С. 512)[184 - Здесь и далее тексты Е. Л. Кропивницкого цитируется по: Кропивницкий Е. Избранное: 736 стихотворений + другие материалы. М.: Культурный слой, 2004, – с указанием страницы в скобках после текста.].
В иных случаях они соотносятся скорее с «персонажной» поэзией (см. ниже).
Поэтика Кропивницкого «основного» периода творчества (вторая половина 1930-х – 1970-е годы) постоянно интерпретируется именно как примитивистская[185 - См., напр.: Васильев И. А. Русский поэтический авангард ХХ века. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2000. С. 184; Орлицкий Ю. Б. Стратегия выживания литературы: Евгений Кропивницкий // Кропивницкий Е. 2004, С. 12.; Кулаков В. 1999. С. 17 и др. Полностью данной теме посвящена содержательная диссертация (Бурков О. А. Поэзия Евгения Кропивницкого: примитивизм и классическая традиция: Дисс. … канд. филол. наук. Новосибирск, 2012), с подавляющим большинством положений которой мы вполне солидарны.]. Тематический ряд неразрывно связан со стилистическим; так, постоянное обращение Кропивницкого к твердым формам (триолет, секстина, сонет) деавтоматизирует их с помощью тематического наполнения низовым материалом. «Вторжение быта и иронии способствует своего рода стилевому снижению, «одомашниванию» традиционных высоких форм, их семантической деформации»[186 - Орлицкий Ю. Б. 2004. С. 9.]; исследователь отмечает «намеренное смешение высокого и низкого, бытового и философского»[187 - Там же.] как одну из доминант поэтики Кропивницкого. Смешение высокого и низкого происходит не только в отношении «взлома» возвышенного поэтического статуса твердых форм, но и в целом на уровне столкновения речевых пластов, подчас выступающих как остраняющий прием: «Без коварства. Без затей / Кормят матери детей. / Ах как много у грудей / Присосалося детей // Дети нежутся, сосут. / О, младенчества сосуд! / Цвет их кожи нежно бел, / Чуть коснешься – покраснел…» («Младенчество», 1948; С. 305); «Покойника приятно видеть – / Он отстрадал, и вот он прах – / Ему не надо ненавидеть / И чувствовать тоску и страх. // Не надо уж ему бороться, / Испытывать земную боль. / Он никогда не улыбнется / На остроумья злую соль» («Покойник», 1978; С. 423); «Вот и январь, опять январь / И новый год опять. / И граждане опять, как встарь, / Почли его встречать. // Коньяк, портвейн, мадера, ром – / Опять, опять как встарь. / Да, новый год – январь притом, – / Как встарь – опять январь…» («Новый год», 1953; С. 360). Мы сознательно взяли примеры (которые можно множить и множить), не вполне или совсем не совпадающие с собственно «барачной» лирикой Кропивницкого, вроде хрестоматийного «У забора проститутка, / Девка белобрысая. / В доме 9 – ели утку / И капусту кислую. // Засыпала на постели / Пара новобрачная. / В 112 артели / Жизнь была невзрачная. // Шел трамвай. Киоск косился. // Болт торчал подвешенный. / Самолет, гудя, носился / В небе, словно бешеный» (1944; С. 131). Именно здесь в наибольшей степени проявляется то свойство, которое делает поэтику Кропивницкого шире «барачной», позволяя соотнестись с совершенно иными регистрами примитивизма.
Ю. Б. Орлицкий отмечает, анализируя один из текстов поэта:
С точки зрения литконсультанта советской газеты, стихотворение это – в самом прямом смысле графомания. Но, похоже, Е. Кропивницкий ничуть не боялся этого ярлыка, напротив, словно бы постоянно провоцировал своего вероятного критика на его приклеивание к собственной литературной репутации[188 - Орлицкий Ю. «Для выражения чувства…»: Стихи Е. Л. Кропивницкого // Новое литературное обозрение. № 5. 1993. С. 188.].
Действительно, для Кропивницкого архаическая лексика, «неуклюжие словечки», будто бы просто заполняющие метрические пустоты, да и собственно набор метрических ореолов, очевидным образом восходящих к символизму и даже к «малым» поэтам досимволистской эпохи (например, к Константину Фофанову), наконец, нескрываемая сентиментальная интонация – все это вполне сознательный набор художественных средств, применимых ко всякому материалу (в том числе «барачному»). Но суть примитивизма Кропивницкого именно в ориентации на «стертые» поэтические линии, которые даже в годы его ранних публикаций в разного рода второстепенных дореволюционных изданиях могли восприниматься на фоне разного рода постсимволистских течений как незамысловатая архаика. Однако остраняющая, сознательная работа Кропивницкого с этим рядом позволяет его видеть внутри вполне значимой, хотя обыкновенно и забываемой постсимволистской поэтической линии, а именно «сатириконовской» – именно в ней остраненно-ироническое и сентиментальное начала находят максимально яркое выражение (здесь же мы обнаружим и параллели с ролевой лирикой).
«Сатириконовцев» обыкновенно не соотносят с примитивистской поэтикой – хотя бы потому, что наиболее известен среди этой группы авторов Саша Черный, в самом деле не вполне имеющий отношение к данному вопросу: и ирония, и снижение высокого – вполне для него характерные черты, но нет деформации формы, тех подчернутых, сознательных «неправильностей», что кажутся необходимым признаком примитивизма. Но такие авторы, как Петр Потемкин или Валентин Горянский, в примитивистском контексте прочитываемы без всякой натяжки.
С другой стороны, для Евгения Кропивницкого важной предстает фигура поэта Филарета Чернова (1877–1940), полностью встроенного в парадигму «стертой» традиции позднего постромантизма, отчасти пропущенного через декадентские фильтры[189 - А с другой стороны, явственно демонстрирующего девиантную поведенческую модель, характеризующую в массовой культурной мифологии «подлинного», «стихийного» поэта.]: «…Кто слыша крик новорожденных / Не содрогается душой / За них, невинно обреченных / Принять великий плен земной?» (1916; С. 253)[190 - Цит. здесь и далее по публикации: Чернов Ф. Из сборника «В темном круге» // Новое литературное обозрение. № 5. 1993. С. 252–255) с указанием страниц в скобках. См. также отдельное издание: Чернов Ф. В темном круге. Рудня; Смоленск: Мнемозина, 2011.]; «…Ты ушел от меня в бесконечность, / Ты забыл, ты оставил меня. / Не зажжет эта страшная вечность / Путеводного в сердце огня» (1920; там же); «…Я чувственно смотрел, я чувственно алкал, / Я слушал чувственно, не утончая слуха, / Я грубо чувствовал, я грубо постигал, / В твою земную плоть не проникая духом» (1926; С. 234). Кропивницкий в своем мемуаре о Чернове подчеркивает «силу», «подлинность» и т. д. этого поэта; характеристика поэтики Чернова дается из констатации его субъективно-лирической установки: «Сущность его поэзии заключается в глубине его „Я“. Объективность им воспринимается как нечто синтетическое, и на долю его анализа падает его „Я“. В анализе своего „Я“ Чернов неистощим – он в этом своем „Я“ усматривает все новые и новые грани и оттенки»[191 - Кропивницкий Е. 2004. С. 595.]. Бессознательность попадания Чернова в некий «стиховой поток» также вполне осознается и подчеркивается Кропивницким: «Филарет Чернов редко кому подражал, он боялся подражания, но часто, почти независимо от себя, он как бы имитировал настроения и звучанья таких поэтов, которых любил и которыми увлекался»[192 - Кропивницкий Е. 2004. С. 596.] (чуть выше Кропивницкий приводит список авторов, таким образом «отражаемых» у Чернова: Блок, Есенин, Клюев, Фет, Тютчев, Лермонтов и «даже» Надсон). Парадоксальность фигуры Чернова в ее не вполне ясном статусе: никак не сознательный примитивист, но и не примитив (пусть во многом самоучка, но все же – человек культуры), Чернов мог бы быть назван оценочно «эпигоном», но мы воздержимся от такого определения. Перед нами скорее представитель своего рода «вневременной», не соответствующей господствующей эстетической парадигме культуры, сохраняющей (пускай и в «стертом» виде) некоторые ценности «поэтического возвышенного». Для Кропивницкого, возможно, именно это (помимо очевидного человеческого влияния) было поводом считать Чернова значительной фигурой, делавшей в некоем «поточном» варианте то же, что Кропивницкий делал осознанно и отрефлексированно.
Нельзя не отметить у самого Кропивницкого и акцентирование тех черт символистской поэтики, которые можно интерпретировать в контексте примитивизма (при этом должны учитываться преимущественно Блок и Сологуб, как раз относившиеся к наиболее важным для Кропивницкого авторам). Уже отмечалось:
Взыскуя простоты, Блок апеллировал к детскому и первобытному. Ребенок или дикарь – это традиционные культурно-антропологические персонификации вожделенного рая наивности, к которому стремится вернуться обремененный грузом культуры европеец. Смещение субъектной перспективы литературного слова к подобным персонификациям и ведет к наивной поэтике[193 - Абашев В. В. Блок и «наивное письмо» // Славянские чтения. Вып. III. Даугавпилс; Резекне, 2003. С. 135], —
именно эти черты (пусть и второстепенные) символистской поэтики (а не, скажем, теургические или демонические) Кропивницкий учитывал в качестве ориентира.
Обыкновенно принято говорить о том, что схожий материал Евгений Кропивницкий рассматривает доброжелательно, в то время как другой важнейший для «барачной лирики» автор, Игорь Холин, подходит к нему с максимальной, ледяной нейтральностью:
Видно, что «барачный» Холин целиком вышел из Кропивницкого. Но даже в процитированном выше[194 - Процитировано стихотворение Кропивницкого «Полночь. Шумно. Тротуар…» (1938).] стихотворении Е. Кропивницкого, отличающемся особой синтаксической лапидарностью, все равно, конечно, ощущается характерная мягкая интонация – «печально улыбнуться». Холин же совершенно непроницаем. Он не улыбается, не иронизирует. Он информирует, «доводит до сведения»[195 - Кулаков В. Указ. соч. С. 18–19.].
Эта трактовка может быть, с нашей точки зрения, дополнена и отчасти скорректирована таким соображением: Кропивницкий остраняет материал, делая «низкий» быт неожиданно поэтическим (и, одновременно «высокие» поэтические формы приземляя до бытового уровня); сама остраняющая ирония позволяет увидеть комизм, а за ним и сентиментальность обыденности. Холина же можно соотнести с так называемой «поэтикой неостранения»:
Если остранение показывает обыденное как незнакомое, заново, то неостранение – это отказ признать, что незнакомое или новое необыкновенно, причём сам этот отказ признать необыкновенность часто приобретает вопиющие формы и уж, во всяком случае, никогда не бывает эстетически нейтрален[196 - Меерсон О. «Свободная вещь»: Поэтика неостранения у Андрея Платонова. 2-е изд., испр. Новосибирск: Наука, 2001. С. 8.]