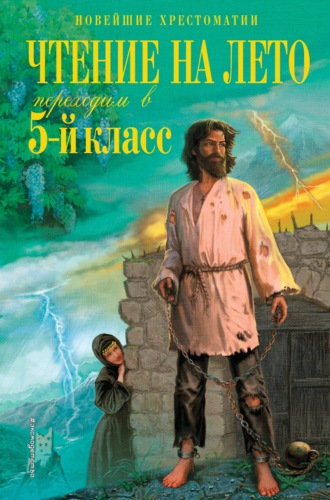
Чтение на лето. Переходим в 5-й класс
Но Сашка не поклонился ни ей, ни лысому господину. Красивая дама не подозревала, что он знает многое. Знает, что жалкий отец его любил её, а она вышла за другого, и, хотя это случилось после того, как он женился сам, Сашка не мог простить измены.
– Дурная кровь, – вздохнула Софья Дмитриевна. – Вот не можете ли, Платон Михайлович, устроить его? Муж говорит, что ремесленное ему больше подходит, чем гимназия. Саша, хочешь в ремесленное?
– Не хочу, – коротко ответил Сашка, слышавший слово «муж».
– Что же, братец, в пастухи хочешь? – спросил господин.
– Нет, не в пастухи, – обиделся Сашка.
– Так куда же?
Сашка не знал, куда он хочет.
– Мне всё равно, – ответил он, подумав, – хоть и в пастухи.
Лысый господин с недоумением рассматривал странного мальчика. Когда с заплатанных сапог он перевёл глаза на лицо Сашки, последний высунул язык и опять спрятал его так быстро, что Софья Дмитриевна ничего не заметила, а пожилой господин пришёл в непонятное ей раздражительное состояние.
– Я хочу и в ремесленное, – скромно сказал Сашка.
Красивая дама обрадовалась и подумала, вздохнув, о той силе, какую имеет над людьми старая любовь.
– Но едва ли вакансия найдётся, – сухо заметил пожилой господин, избегая смотреть на Сашку и приглаживая поднявшиеся на затылке волосики. – Впрочем, мы ещё посмотрим.
Дети волновались и шумели, нетерпеливо ожидая ёлки. Опыт с ружьём, проделанный мальчиком, внушавшим к себе уважение ростом и репутацией испорченного, нашёл себе подражателей, и несколько кругленьких носиков уже покраснело. Девочки смеялись, прижимая обе руки к груди и перегибаясь, когда их рыцари, с презрением к страху и боли, но морщась от ожидания, получали удары пробкой. Но вот открылись двери, и чей-то голос сказал:
– Дети, идите! Тише, тише!
Заранее вытаращив глазёнки и затаив дыхание, дети чинно, по паре, входили в ярко освещённую залу и тихо обходили сверкающую ёлку. Она бросала сильный свет, без теней, на их лица с округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся хором восторженных восклицаний. Одна из девочек не в силах была овладеть охватившим её восторгом и упорно и молча прыгала на одном месте; маленькая косичка со вплетённой голубой ленточкой хлопала по её плечам. Сашка был угрюм и печален, – что-то нехорошее творилось в его маленьком изъязвлённом сердце. Ёлка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг неё чистенькие, красивые дети, и ему хотелось толкнуть её так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. Забившись за рояль, Сашка сел там в углу, бессознательно доламывал в кармане последние папиросы и думал, что у него есть отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти. Он пытался представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменял и очень сильно любил, но ножичек стал очень плохой, с тоненьким сточенным лезвием и только с половиной жёлтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, и тогда у него уже ничего не останется.
Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На обращённой к нему стороне ёлки, которая была освещена слабее других и составляла её изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще тёмных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно сделанными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у Коли. Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все другие лица и вещи. Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нём печать иного чувства, не передаваемого словами, не определяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил, любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца, и больше, чем всё остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятного восторга, Сашка сложил руки у груди и шептал:
– Милый… милый ангелочек!
И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось выражение ангелочка. Он был бесконечно далёк и непохож на всё, что его здесь окружало. Другие игрушки как будто гордились тем, что они висят, нарядные, красивые, на этой сверкающей ёлке, а он был грустен и боялся яркого назойливого света, и нарочно скрылся в тёмной зелени, чтобы никто не видел его. Было бы безумной жестокостью прикоснуться к его нежным крылышкам.
– Милый… милый! – шептал Сашка.
Голова Сашкина горела. Он заложил руки за спину и в полной готовности к смертельному бою за ангелочка прохаживался осторожными и крадущимися шагами; он не смотрел на ангелочка, чтобы не привлечь на него внимания других, но чувствовал, что он ещё здесь, не улетел. В дверях показалась хозяйка – важная высокая дама с светлым ореолом седых, высоко зачёсанных волос. Дети окружили её с выражением своего восторга, а маленькая девочка, та, что прыгала, утомлённо повисла у неё на руке и тяжело моргала сонными глазками. Подошёл и Сашка. Горло его перехватывало.
– Тётя, а тётя, – сказал он, стараясь говорить ласково, но выходило ещё более грубо, чем всегда. – Тё… Тётечка.
Она не слыхала, и Сашка нетерпеливо дёрнул её за платье.
– Чего тебе? Зачем ты дёргаешь меня за платье? – удивилась седая дама. – Это невежливо.
– Тё… тётечка. Дай мне одну штуку с ёлки – ангелочка.
– Нельзя, – равнодушно ответила хозяйка. – Ёлку будем на Новый год разбирать. И ты уже немаленький и можешь звать меня по имени, Марьей Дмитриевной.
Сашка чувствовал, что он падает в пропасть, и ухватился за последнее средство.
– Я раскаиваюсь. Я буду учиться, – отрывисто говорил он.
Но эта формула, оказывавшая благотворное влияние на учителей, на седую даму не произвела впечатления.
– И хорошо сделаешь, мой друг, – ответила она так же равнодушно.
Сашка грубо сказал:
– Дай ангелочка.
– Да нельзя же! – говорила хозяйка. – Как ты этого не понимаешь?
Но Сашка не понимал, и, когда дама повернулась к выходу, Сашка последовал за ней, бессмысленно глядя на её чёрное, шелестящее платье. В его горячечно работавшем мозгу мелькнуло воспоминание, как один гимназист его класса просил учителя поставить тройку, а когда получил отказ, стал перед учителем на колени, сложил руки ладонь к ладони, как на молитве, и заплакал. Тогда учитель рассердился, но тройку всё-таки поставил. Своевременно Сашка увековечил эпизод в карикатуре, но теперь иного средства не оставалось. Сашка дёрнул тётку за платье и, когда она обернулась, упал со стуком на колени и сложил руки вышеупомянутым способом. Но заплакать не мог.
– Да ты с ума сошёл! – воскликнула седая дама и оглянулась: по счастью, в кабинете никого не было. – Что с тобой?
Стоя на коленях, со сложенными руками, Сашка с ненавистью посмотрел на неё и грубо потребовал:
– Дай ангелочка!
Глаза Сашкины, впившиеся в седую даму и ловившие на её губах первое слово, которое они произнесут, были очень нехороши, и хозяйка поспешила ответить:
– Ну, дам, дам. Ах, какой ты глупый! Конечно, я дам тебе, что ты просишь, но почему же ты не хочешь подождать до Нового года? Да вставай же! И никогда, – поучительно добавила седая дама, – не становись на колени: это унижает человека. На колени можно становиться только перед Богом.
«Толкуй там», – думал Сашка, стараясь опередить тётку и наступая ей на платье.
Когда она сняла игрушку, Сашка впился в неё глазами, болезненно сморщил нос и растопырил пальцы. Ему казалось, что высокая дама сломает ангелочка.
– Красивая вещь, – сказала дама, которой стало жаль изящной и, по-видимому, дорогой игрушки. – Кто это повесил её сюда? Ну, послушай, зачем эта игрушка тебе? Ведь ты такой большой, что будешь ты с нею делать?.. Вон там книги есть, с рисунками. А это я обещала Коле отдать, он так просил, – солгала она.
Терзания Сашки становились невыносимыми. Он судорожно стиснул зубы и, показалось, даже скрипнул ими. Седая дама больше всего боялась сцен и потому медленно протянула к Сашке ангелочка.
– Ну, на уж, на, – с неудовольствием сказала она. – Какой настойчивый!
Обе руки Сашки, которыми он взял ангелочка, казались цепкими и напряжёнными, как две стальные пружины, но такими мягкими и осторожными, что ангелочек мог вообразить себя летящим по воздуху.
– А-ах! – вырвался продолжительный, замирающий вздох из груди Сашки, и на глазах его сверкнули две маленькие слезинки и остановились там, непривычные к свету. Медленно приближая ангелочка к своей груди, он не сводил сияющих глаз с хозяйки и улыбался тихой и кроткой улыбкой, замирая в чувстве неземной радости. Казалось, что когда нежные крылышки ангелочка прикоснутся к впалой груди Сашки, то случится что-то такое радостное, такое светлое, какого никогда ещё не происходило на печальной, грешной и страдающей земле.
– А-ах! – пронёсся тот же замирающий стон, когда крылышки ангелочка коснулись Сашки. И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разукрашенная, нагло горящая ёлка, – и радостно улыбнулась седая, важная дама, и дрогнул сухим лицом лысый господин, и замерли в живом молчании дети, которых коснулось веяние человеческого счастья. И в этот короткий момент все заметили загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворённым рукой неведомого художника личиком ангелочка.
Но в следующую минуту картина резко изменилась. Съёжившись, как готовящаяся к прыжку пантера, Сашка мрачным взглядом обводил окружающих, ища того, кто осмелится отнять у него ангелочка.
– Я домой пойду, – глухо сказал Сашка, намечая путь в толпе. – К отцу.
IIIМать спала, обессилев от целого дня работы и выпитой водки. В маленькой комнатке, за перегородкой, горела на столе кухонная лампочка, и слабый желтоватый свет её с трудом проникал через закопчённое стекло, бросая странные тени на лицо Сашки и его отца.
– Хорош? – спрашивал шёпотом Сашка.
Он держал ангелочка в отдалении и не позволял отцу дотрагиваться.
– Да, в нём есть что-то особенное, – шептал отец, задумчиво всматриваясь в игрушку.
Его лицо выражало то же сосредоточенное внимание и радость, как и лицо Сашки.
– Ты погляди, – продолжал отец, – он сейчас полетит.
– Видел уже, – торжествующе ответил Сашка. – Думаешь, слепой? А ты на крылышки глянь. Цыц, не трогай!
Отец отдёрнул руку и тёмными глазами изучал подробности ангелочка, пока Саша наставительно шептал:
– Экая, братец, у тебя привычка скверная за всё руками хвататься. Ведь сломать можешь!
На стене вырезывались уродливые и неподвижные тени двух склонившихся голов: одной большой и лохматой, другой маленькой и круглой. В большой голове происходила странная, мучительная, но в то же время радостная работа. Глаза, не мигая, смотрели на ангелочка, и под этим пристальным взглядом он становился больше и светлее, и крылышки его начинали трепетать бесшумным трепетаньем, а всё окружающее – бревенчатая, покрытая копотью стена, грязный стол, Сашка, – всё это сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света. И чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой брани, о тоскливой, слепо-жестокой борьбе эгоизмов; там не знают о муках человека, поднимаемого со смехом на улице, избиваемого грубыми руками сторожей. Там чисто, радостно и светло, и всё это чистое нашло приют в душе её, той, которую он любил больше жизни и потерял, сохранив ненужную жизнь. К запаху воска, шедшему от игрушки, примешивался неуловимый аромат, и чудилось погибшему человеку, как прикасались к ангелочку её дорогие пальцы, которые он хотел бы целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнёт его уста навсегда. Оттого и была так красива эта игрушечка, оттого и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, не передаваемое словами. Ангелочек спустился с неба, на котором была его душа, и внёс луч света в сырую, пропитанную чадом комнату и в чёрную душу человека, у которого было отнято всё: и любовь, и счастье, и жизнь. И рядом с глазами отжившего человека сверкали глаза начинающего жить и ласкали ангелочка. И для них исчезло настоящее и будущее: и вечно печальный и жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и чёрный мрак обид, жестокостей, унижений и злобствующей тоски. Бесформенны, туманны были мечты Сашки, но тем глубже волновали они его смятенную душу. Всё добро, сияющее над миром, всё глубокое горе и надежду тоскующей о Боге души впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким мягким божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетаньем его прозрачные стрекозиные крылышки. Отец и сын не видели друг друга; по-разному тосковали, плакали и радовались их больные сердца, но было что-то в их чувстве, что сливало воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым. Отец несознаваемым движением положил руку на шею сыну, и голова последнего так же невольно прижалась к чахоточной груди.
– Это она дала тебе? – прошептал отец, не отводя глаз от ангелочка.
В другое время Сашка ответил бы грубым отрицанием, но теперь в душе его сам собой прозвучал ответ, и уста спокойно произнесли заведомую ложь.
– А то кто же? Конечно, она.
Отец молчал; замолк и Сашка. Что-то захрипело в соседней комнате, затрещало, на миг стихло, и часы бойко и торопливо отчеканили: час, два, три.
– Сашка, ты видишь когда-нибудь сны? – задумчиво спросил отец.
– Нет, – сознался Сашка. – А, нет, раз видел: с крыши упал. За голубями лазили, я и сорвался.
– А я постоянно вижу. Чудные бывают сны. Видишь всё, что было, любишь и страдаешь, как наяву…
Он снова замолк, и Сашка почувствовал, как задрожала рука, лежавшая на его шее. Всё сильнее дрожала и дёргалась она, и чуткое безмолвие ночи внезапно нарушилось всхлипывающим, жалким звуком сдерживаемого плача. Сашка сурово задвигал бровями и осторожно, чтобы не потревожить тяжёлую, дрожащую руку, сковырнул с глаза слезинку. Так странно было видеть, как плачет большой и старый человек.
– Ах, Саша, Саша! – всхлипывал отец. – Зачем всё это?
– Ну, что ещё? – сурово прошептал Сашка. – Совсем, ну совсем как маленький.
– Не буду… не буду, – с жалкой улыбкой извинился отец. – Что уж… зачем?
Заворочалась на своей постели Феоктиста Петровна. Она вздохнула и забормотала громко и странно-настойчиво: «Дерюжку держи… держи, держи, держи». Нужно было ложиться спать, но до этого устроить на ночь ангелочка. На земле оставлять его было невозможно; он был повешен на ниточке, прикреплённой к отдушине печки, и отчётливо рисовался на белом фоне кафелей. Так его могли видеть оба – и Сашка и отец. Поспешно набросав в угол всякого тряпья, на котором он спал, отец так же быстро разделся и лёг на спину, чтобы поскорее начать смотреть на ангелочка.
– Что же ты не раздеваешься? – спросил отец, зябко кутаясь в прорванное одеяло и поправляя наброшенное на ноги пальто.
– Не к чему. Скоро встану.
Сашка хотел добавить, что ему совсем не хочется спать, но не успел, так как заснул с такой быстротой, точно пошёл ко дну глубокой и быстрой реки. Скоро заснул и отец. Кроткий покой и безмятежность легли на истомлённое лицо человека, который отжил, и смелое личико человека, который ещё только начинал жить.
А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопчённое стекло бросала печальный свет на картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжёлый запах топлёного воска. Вот ангелочек встрепенулся, словно для полёта, и упал с мягким стуком на горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь, вокруг бесформенного слитка, взобрался на стрекозиное крылышко и, дёрнув усиками, побежал дальше.
В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком зазябший водовоз.
Антон Чехов
Беглец
Это была длинная процедура. Сначала Пашка шёл с матерью под дождём то по скошенному полю, то по лесным тропинкам, где к его сапогам липли жёлтые листья, шёл до тех пор, пока не рассвело. Потом он часа два стоял в тёмных сенях и ждал, когда отопрут дверь. В сенях было не так холодно и сыро, как на дворе, но при ветре и сюда залетали дождевые брызги. Когда сени мало-помалу битком набились народом, стиснутый Пашка припал лицом к чьему-то тулупу, от которого сильно пахло солёной рыбой, и вздремнул. Но вот щёлкнула задвижка, дверь распахнулась, и Пашка с матерью вошёл в приёмную. Тут опять пришлось долго ждать. Все больные сидели на скамьях, не шевелились и молчали. Пашка оглядывал их и тоже молчал, хотя видел много странного и смешного. Раз только, когда в приёмную, подпрыгивая на одной ноге, вошёл какой-то парень, Пашке самому захотелось также попрыгать; он толкнул мать под локоть, прыснул в рукав и сказал:
– Мама, гляди: воробей!
– Молчи, детка, молчи! – сказала мать.
В маленьком окошечке показался заспанный фельдшер.
– Подходи записываться! – пробасил он.
Все, в том числе и смешной подпрыгивающий парень, потянулись к окошечку. У каждого фельдшер спрашивал имя и отчество, лета, местожительство, давно ли болен и проч. Из ответов своей матери Пашка узнал, что зовут его не Пашкой, а Павлом Галактионовым, что ему семь лет, что он неграмотен и болен с самой Пасхи.
Вскоре после записывания нужно было ненадолго встать; через приёмную прошёл доктор в белом фартуке и подпоясанный полотенцем. Проходя мимо подпрыгивающего парня, он пожал плечами и сказал певучим тенором:
– Ну и дурак! Что ж, разве не дурак? Я велел тебе прийти в понедельник, а ты приходишь в пятницу. По мне хоть вовсе не ходи, но ведь, дурак этакой, нога пропадёт!
Парень сделал такое жалостное лицо, как будто собрался просить милостыню, заморгал и сказал:
– Сделайте такую милость, Иван Миколаич!
– Тут нечего – Иван Миколаич! – передразнил доктор. – Сказано в понедельник, и надо слушаться. Дурак, вот и всё…
Началась приёмка. Доктор сидел у себя в комнатке и выкликал больных по очереди. То и дело из комнатки слышались пронзительные вопли, детский плач или сердитые возгласы доктора:
– Ну, что орёшь? Режу я тебя, что ли? Сиди смирно!
Настала очередь Пашки.
– Павел Галактионов! – крикнул доктор.
Мать обомлела, точно не ждала этого вызова, и, взяв Пашку за руку, повела его в комнатку. Доктор сидел у стола и машинально стучал по толстой книге молоточком.
– Что болит? – спросил он, не глядя на вошедших.
– У парнишки болячка на локте, батюшка, – ответила мать, и лицо её приняло такое выражение, как будто она в самом деле ужасно опечалена Пашкиной болячкой.
– Раздень его!
Пашка, пыхтя, распутал на шее платок, потом вытер рукавом нос и стал не спеша стаскивать тулупчик.
– Баба, не в гости пришла! – сказал сердито доктор. – Что возишься? Ведь ты у меня не одна тут.
Пашка торопливо сбросил тулупчик на землю и с помощью матери снял рубаху… Доктор лениво поглядел на него и похлопал его по голому животу.
– Важное, брат Пашка, ты себе пузо отрастил, – сказал он и вздохнул: – Ну, показывай свой локоть.
Пашка покосился на таз с кровяными помоями, поглядел на докторский фартук и заплакал.
– Ме-е! – передразнил доктор. – Женить пора баловника, а он ревёт! Бессовестный.
Стараясь не плакать, Пашка поглядел на мать, и в этом его взгляде была написана просьба: «Ты же не рассказывай дома, что я в больнице плакал!»
Доктор осмотрел его локоть, подавил, вздохнул, чмокнул губами, потом опять подавил.
– Бить тебя, баба, да некому, – сказал он. – Отчего ты раньше его не приводила? Рука-то ведь пропащая! Гляди-кась, дура, ведь это сустав болит!
– Вам лучше знать, батюшка… – вздохнула баба.
– Батюшка… Сгноила парню руку, да теперь и батюшка. Какой он работник без руки? Вот век целый и будешь с ним нянчиться. Небось как у самой прыщ на носу вскочит, так сейчас же в больницу бежишь, а мальчишку полгода гноила. Все вы такие.
Доктор закурил папироску. Пока папироска дымила, он распекал бабу и покачивал головой в такт песни, которую напевал мысленно, и всё думал о чём-то. Голый Пашка стоял перед ним, слушал и глядел на дым. Когда же папироса потухла, доктор встрепенулся и заговорил тоном ниже:
– Ну, слушай, баба. Мазями да каплями тут не поможешь. Надо его в больнице оставить.
– Ежели нужно, батюшка, то почему не оставить?
– Мы ему операцию сделаем. А ты, Пашка, оставайся, – сказал доктор, хлопая Пашку по плечу. – Пусть мать едет, а мы с тобой, брат, тут останемся. У меня, брат, хорошо, разлюли малина! Мы с тобой, Пашка, вот как управимся, чижей пойдём ловить, я тебе лисицу покажу! В гости вместе поедем! А? Хочешь? А мать за тобой завтра приедет! А?
Пашка вопросительно поглядел на мать.
– Оставайся, детка! – сказала та.
– Остаётся, остаётся! – весело закричал доктор. – И толковать нечего! Я ему живую лисицу покажу! Поедем вместе на ярмарку леденцы покупать! Марья Денисовна, сведите его наверх!
Доктор, по-видимому, весёлый и покладистый малый, рад был компании; Пашка захотел уважить его, тем более что отродясь не бывал на ярмарке и охотно бы поглядел на живую лисицу, но как обойтись без матери? Подумав немного, он решил попросить доктора оставить в больнице и мать, но не успел он раскрыть рта, как фельдшерица уже вела его вверх по лестнице. Шёл он и, разинув рот, глядел по сторонам. Лестница, полы и косяки – всё громадное, прямое и яркое – были выкрашены в великолепную жёлтую краску и издавали вкусный запах постного масла. Всюду висели лампы, тянулись половики, торчали в стенах медные краны. Но больше всего Пашке понравилась кровать, на которую его посадили, и серое шершавое одеяло. Он потрогал руками подушки и одеяло, оглядел палату и решил, что доктору живётся очень недурно.
Палата была невелика и состояла только из трёх кроватей. Одна кровать стояла пустой, другая была занята Пашкой, а на третьей сидел какой-то старик с кислыми глазами, который всё время кашлял и плевал в кружку. С Пашкиной кровати видна была в дверь часть другой палаты с двумя кроватями: на одной спал какой-то очень бледный, тощий человек с каучуковым пузырём на голове; на другой, расставив руки, сидел мужик с повязанной головой, очень похожий на бабу.
Фельдшерица, усадив Пашку, вышла и немного погодя вернулась, держа в охапке кучу одёжи.
– Это тебе, – сказала она. – Одевайся.
Пашка разделся и не без удовольствия стал облачаться в новое платье. Надевши рубаху, штаны и серый халатик, он самодовольно оглядел себя и подумал, что в таком костюме недурно бы пройтись по деревне. Его воображение нарисовало, как мать посылает его на огород к реке нарвать для поросёнка капустных листьев; он идёт, а мальчишки и девчонки окружили его и с завистью глядят на его халатик.
В палату вошла сиделка, держа в руках две оловянных миски, ложки и два куска хлеба. Одну миску она поставила перед стариком, другую – перед Пашкой.
– Ешь! – сказала она.
Взглянув в миску, Пашка увидел жирные щи, а в щах кусок мяса, и опять подумал, что доктору живётся очень недурно и что доктор вовсе не так сердит, каким показался сначала. Долго он ел щи, облизывая после каждого хлебка ложку, потом, когда, кроме мяса, в миске ничего не осталось, покосился на старика и позавидовал, что тот всё ещё хлебает. Со вздохом он принялся за мясо, стараясь есть его возможно дольше, но старания его ни к чему не привели: скоро исчезло и мясо. Остался только кусок хлеба. Невкусно есть один хлеб без приправы, но делать было нечего, Пашка подумал и съел хлеб. В это время вошла сиделка с новыми мисками. На этот раз в мисках было жаркое с картофелем.
– А где же хлеб-то? – спросила сиделка.
Вместо ответа Пашка надул щёки и выдыхнул воздух.
– Ну, зачем сожрал? – сказала укоризненно сиделка. – А с чем же ты жаркое есть будешь?
Она вышла и принесла новый кусок хлеба. Пашка отродясь не ел жареного мяса и, испробовав его теперь, нашёл, что оно очень вкусно. Исчезло оно быстро, и после него остался кусок хлеба больше, чем после щей. Старик, пообедав, спрятал свой оставшийся хлеб в столик; Пашка хотел сделать то же самое, но подумал и съел свой кусок.
Наевшись, он пошёл прогуляться. В соседней палате, кроме тех, которых он видел в дверь, находилось ещё четыре человека. Из них только один обратил на себя его внимание. Это был высокий, крайне исхудалый мужик с угрюмым волосатым лицом; он сидел на кровати и всё время, как маятником, кивал головой и махал правой рукой. Пашка долго не отрывал от него глаз. Сначала маятникообразные, мерные кивания мужика казались ему курьёзными, производимыми для всеобщей потехи, но когда он вгляделся в лицо мужика, ему стало жутко, и он понял, что этот мужик нестерпимо болен. Пройдя в третью палату, он увидел двух мужиков с тёмно-красными лицами, точно вымазанными глиной. Они неподвижно сидели на кроватях и со своими странными лицами, на которых трудно было различить черты, походили на языческих божков.