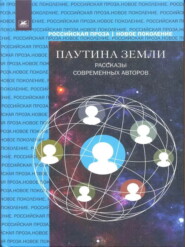По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Параллельные вселенные Давида Шраера-Петрова
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Шраер-Петров 2016 – Шраер-Петров Д. Кругосветное счастье: Избранные рассказы / Ред. Д. Шраер-Петров, М. Шраер. М.: Книжники, 2016.
Шраер-Петров, Вольтская 2016 – Шраер-Петров Д., Вольтская Т. Мерцание желтой звезды // Радио Свобода. 2016. 28 янв. URL: http://www. bigbook.ru/articles/detail.php?ID=25001 (дата обращения: 03.07.2020).
Shrayer-Petrov 2003 – Shrayer-Petrov D. Jonah and Sarah: Jewish Stories of Russia and America I ed. by M. D. Shrayer. Library of Modern Jewish Literature. Syracuse: Syracuse University Press, 2003.
Shrayer-Petrov 2006 – Shrayer-Petrov D. Autumn in Yalta: A Novel and Three Stories / ed., co-transl., and with an afterword by M. D. Shrayer. Library of Modern Jewish Literature. Syracuse: Syracuse University Press, 2006.
Shrayer-Petrov 2014 – Shrayer-Petrov D. Dinner with Stalin and Other Stories / ed., with notes, and commentary by M. D. Shrayer. Library of Modern Jewish Literature. Syracuse: Syracuse University Press, 2014.
Shrayer-Petrov 2018 – Shrayer-Petrov D. Doctor Levitin I ed. and with notes by M. D. Shrayer, transl. by A. B. Bronstein, A. I. Fleszar, M. D. Shrayer. Detroit: Wayne State University Press, 2018.
Библиография
Зальцберг 2017 – Русские евреи в Америке / под ред. Э. Зальцберга. Т. 15. СПб.: Гиперион, 2017.
Кацин 1997 – Кацин Л. Кого раздражает борода Цукермана и почему…? // Еврейский мир. 1997. 31 янв.
Шраер, Шраер-Петров 2004 – Шраер М. Д., Шраер-Петров Д. Генрих Сапгир: Классик авангарда. СПб.: Дмитрий Буланин, 2004.
Friedgut 2003 – Friedgut Т. Н. Nationalities Policy, the Soviet Regime, the Jews, and Emigration // Jewish Life after the USSR / ed. by Z. Gitelman, M. Giants, M. I. Goldman. Bloomington: Indiana University Press, 2003. P. 27–45.
Gitelman 1988 – Gitelman Z. A Century of Ambivalence. The Jews of Russia and the Soviet Union, 1881 to the Present. New York: Schocken, 1988.
Katsman et al. 2021 – The Parallel Universes of David Shrayer-Petrov. A Collection Published on the Occasion of the Writer s 85
Birthday I ed. by R. Katsman, M. D. Shrayer, K. Smola. Boston: Academic Studies Press, 2021.
Krupnik 1995 – Krupnik I. Soviet Cultural and Ethnic Policies toward Jews: A Legacy Reassessed // Jews and Jewish Life in Russia and The Soviet Union / ed. by Y. Ro’i. Ilford: Routledge, 1995. P. 67–86.
Krutikov 2002 – Krutikov M. The Jewish Future in Russia: Trends and Opportunities // East European Jewish Affairs. 2002. Vol. 1. P. 1–16.
Kyrchanoff 2019 – Kyrchanoff M. «Dark Shadows of the Past Will Forever Remain with Us», or Fathers and Sons: Boundaries and Frontiers, Walls and Bridges in Soviet and Post Soviet Literature // Журнал фронтирных исследований. 2019. T. 2. С. 11–33.
Shrayer 2006 – Shrayer М. D. Afterword: Voices of My Fathers Exile // Shrayer-Petrov D. Autumn in Yalta: A Novel and Three Stories / ed., co-transl., and with an afterword by M. D. Shrayer. Library of Modern Jewish Literature. Syracuse: Syracuse University Press, 2006. P. 205–234.
Shrayer 2007 – An Anthology of Jewish-Russian Literature: Two Centuries of Dual Identity in Prose and Poetry, 1801–2001. 2 vols. I ed. by M. D. Shrayer. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2007.
Shrayer 2018 – Voices of Jewish-Russian Literature: An Anthology I ed. by M. D. Shrayer. Boston: Academic Studies Press, 2018.
Tsigel’man 1991 – Tsigel’man L. The Impact of Ideological Changes in the USSR on Different Generations of the Soviet Jewish Intelligentsia // Jewish Culture and Identity in the Soviet Union / ed. by Y Ro’i, A. Beker. New York and London: New York University Press, 1991. P. 42–72.
Нонконформистская поэтика Давида Шраера-Петрова[12 - Copyright © 2021 by Roman Katsman. Автор благодарит Давида Шраера-Петрова и Максима Д. Шраера за предоставленные материалы и за помощь в работе над статьей. Впервые эта статья была опубликована на русском языке как [Кацман 2017].]
Роман Кацман
Некоторые критики отмечают, что на карте позднесоветской неофициальной или нонконформистской литературы не осталось «темных мест» [Ельшевская 2009]. Однако в этой обширной области исследований творчеству ленинградского и московского, а с 1987 года – американского поэта, прозаика и переводчика Давида Шраера-Петрова было уделено слишком мало внимания. Отчасти это связано с тем, что в нонконформистской литературе уже давно сложился свой неофициальный, но вполне гегемонный канон. С другой стороны, это связано с вопросом о том, как национальную, в частности еврейскую составляющую следует соотносить с дискурсом советского нонконформизма. Теоретическое осмысление последнего отнюдь не завершено, как и осмысление культурно-антропологических мотивов, лежащих в основании нонконформистской литературы.
В этой статье речь пойдет о текстах Давида Шраера-Петрова, большая часть которых была написана в период отказа. Я попытаюсь показать, что лежащую в основе нонконформистского воображения сцену конфликта, представленную символически и направленную на мобилизацию еврейской идентичности, можно описать в терминологии генеративной антропологии Эрика Ганса как сцену блокировки насильственного жеста, направленного на жертву [Gans 2011]. Еврейский нонконформизм тем самым осваивает и преодолевает виктимное сознание, характерное для эпохи после Холокоста. Начнем с рассмотрения понятия нонконформизма.
Нонконформизм – в каком-то смысле омоним, имеющий различные, хотя и близкие значения в художественной, социальной и культурно-психологической плоскостях. В социологии и риторике нонконформизм редуцируется к протесту и несогласию, а также иногда включается в манифесты анархизма, однако очевидно, что эти понятия не исчерпываются друг другом. В наиболее общем смысле нонконформизм понимается как сопротивление формам мышления, письма, поведения, навязанным властями, гегемонией или правительством, а также общепринятым мнениям, стереотипам и предубеждениям. Нонконформизм охватывает, по выражению Лидии Гинзбург, все «то, что непохожее» [Иванов 20006: 21].
Применительно к советской литературе нонконформизм становится еще более расплывчатым понятием, так как советская власть как никакая другая придавала огромное значение присвоению любых форм, как в эстетической, так и в социокультурной сферах, не оставляя пространства за пределами своей сцены присвоения. Проанализированная Алексеем Юрчаком как одна из социокультурных возможностей «позднего социализма» [Yurchak2006:126–157], наивная фантазия о существовании «вне» этой сцены, культивируемая в некоторых кругах, от стиляг до русского рока, не могла быть реализована. Даже те, кто «просто» были «творческими людьми, не вписывавшимися в систему», кто «не были активными борцами, просто хотели, чтобы их оставили в покое и не мешали самовыражению» [Никольская 2000: 93], неизбежно оказывались в конфликте с системой[13 - Для дальнейшего изучения данной темы см. статьи, недавно собранные Клавдией Смолой в тематическом номере журнала НЛО [Смола 2019].].
В силу этого советский нонконформизм мог существовать только в пространствах конфликтуализации и в борьбе за обладание самими этими пространствами. В этой борьбе создавалась воображаемая, гипотетическая, но в то же время ощутимая сцена конфликта, в которой жертва системы (политической или эстетической) переставала быть жертвой и становилась активной силой, то есть в которой историческое сознание выходило за пределы виктимной парадигмы. Основное усилие нахождения «вне» было приложено к взаимной символической перекодировке политического, религиозного, социального, метафизического, фольклорного, национального и других «форм». Этот метод был направлен на блокирование жестов присвоения и на откладывание насилия, из чего рождались новые знаки и новая, нонконформистская культура. Главным риторическим инструментом метода была «смелая речь» [Foucault 2001], состоящая из отдельных, иногда минималистских и разрозненных, высказываний. Такие высказывания воплощали суть нонконформизма: превращение беспомощности и слабости в силу (эстетическую, культурную и политическую) и формирование новой идентичности за пределами виктимной парадигмы.
В тех случаях, когда порождаемые этими высказываниями знаки носят еврейский характер, имеет смысл говорить об особой еврейской составляющей нонконформизма. Алек Рапопорт писал: «Быть художником-нонконформистом – уже остро. Быть при этом еще и “еврейским художником” – просто скандальная для СССР ситуация» [Рапопорт 2003: 28–29]. Это можно проиллюстрировать на примере хорошо известного стихотворения Иосифа Бродского «Еврейское кладбище около Ленинграда», где автор разворачивает пространство конфликтуализации в стенах еврейского кладбища, мобилизуя читателей самиздатского «Синтаксиса» 1960 года на восприятие «юристов, торговцев, музыкантов и революционеров» как идеалистов и толкователей Талмуда, а их жертвенности – как упорства легшего в землю зерна [Бродский 1960].
Наталья Иванова писала о нарушении тройного табу советской литературы в творчестве некоторых еврейских писателей: они писали о евреях; они были евреями, пишущими о России; они писали о православии (и еще шире – о христианстве), будучи евреями [Иванова 2001]. Относится ли это ко всем евреям-нонконформистам? Диагноз Ивановой нельзя не признать слишком эссенциалистским и несколько неточным. «Еврейским», в художественном смысле, был не столько автор, литература или письмо, сколько высказывание. Давид Шраер-Петров писал о литературной ситуации второй половины 50-х: «Мы не делились на евреев-неевреев» [Шраер-Петров 1989: 112][14 - См. также [Шраер-Петров 2007: 65].], и в еврейских дружбах и беседах чаще всего не было места для «еврейских проблем» [Шраер-Петров 1989: 167]. Позднее эта ситуация несколько изменилась, размышления о «евреях-писателях, чурающихся самой тяжелой для нас темы: ассимиляции в России или выезда в Израиль», приобрели существенное значение [Шраер-Петров 1989:203]. Но такие изменения мало повлияли на поэтические вкусы и привычки тех, чье творчество сформировалось в те годы. Поэтому еврейскую составляющую нонконформизма следует искать не столько в социальной и политической плоскостях, сколько в плоскости символической, несмотря на то, что социальное играет огромную роль во всем, что касается взаимоотношений между официальной сферой и неофициальной литературой, формирующейся и определяемой через отношение к первой.
Независимо от того, как решается сложный вопрос о взаимоотношении между официозом и неофициальной литературой, последняя, по справедливому замечанию Станислава Савицкого, не может быть сведена к социальному, «даже в случае, когда оно понимается в контексте философии действия» [Савицкий 2002: 89]. Евреи-нонконформисты не объединялись в поэтические сообщества как евреи, и потому ключом к пониманию их работы должна быть не столько социология сообществ писателей, сколько герменевтика воображаемых и символических «сообществ высказываний». Такой подход не противоречит представлению о «едином неконформистском культурном движении», о «неофициальной культуре как целостном явлении» [Долинин 2000: 13–14], и кажется в данном случае более продуктивным.
Далее я попытаюсь сформулировать те теоретические положения, на которых можно построить анализ нонконформистского высказывания. Как дискурсивная формация нонконформизм (как социально-политический, так и поэтический) представляет собой искреннее, справедливое и адекватное [Habermas 1984:275] высказывание перед лицом опасности (для успеха, карьеры, славы, благополучия), то есть «смелую речь» [Foucault 2001], рискованный проект с конфликтной предпосылкой, причем риск состоит не только во взаимодействии с государственными институциями, но и в поиске новых форм, истин и самоидентификаций. Недостаточно не быть конформистом, чтобы быть нонконформистом; для литературы недостаточно быть неофициальной, неподцензурной, «второй литературой» [Иванов, Рогинский 2000], чтобы быть нонконформистской. Нонконформизм следует понимать не как негативную теоретическую характеристику, а как позитивное, активное действие, происходящее не в контексте изолированной субкультуры, а в ответ на вызовы гегемонной культуры и ради решения духовных, культурных проблем, этой культурой порождаемых.
Можно выделить следующие культурно-прагматические составляющие нонконформизма: 1) воображение конфликта как данного; 2) символическое конструирование проекта как чего-то возможного и нового; 3) экономия риска как того единственного, что реально, подлинно, истинно[15 - Структура конфликта как проблематизация отношения «я – другой» воспроизводит психоаналитическую структуру Жака Лакана [Lacan 2002].]. В этой трехсоставной конфигурации легко угадывается структура мифа: 1) вскрытие или создание конфликта; 2) снятие конфликта при помощи рискованного или трансгрессивного проекта (война, путешествие, метаморфоза, преступление, жертвоприношение); 3) реализация личности как трансцендентального, нуминозного[16 - Я опираюсь на предложенное А. Ф. Лосевым определение мифа как «в словах данной чудесной личностной истории» [Лосев 1991: 169].]. Итак, письмо нонконформизма гомологично мифотворчеству (мифопоэзису). В нонконформизме, как и в мифе, возможное и невозможное сливаются, с тем чтобы позволить субъекту трансцендировать из конфликта в реальное (например, в осознание собственной аутентичной идентичности). Благодаря изначальному конфликту это письмо становится, по определению Эрика Ганса, генеративной сценой знако- и культуропорождения [Gans 2011]. В этом свете проявляется и суть самого конфликта как следствия треугольника миметического желания обладания символами [Girard 1979], в то время как благодаря риску, связанному с этим конфликтом, нонконформистское высказывание приобретает перформативный характер, превращается в своего рода культовую, ритуальную, магическую формулу, необратимо меняющую культурный и, иногда, социальный статус автора[17 - См. [Мосс 2000; Austin 1975].], и как следствие – состояние культурной, интеллектуальной, социальной и, возможно, политической действительности. Это превращение имеет мифическую, даже эпико-героическую природу: автор символически становится культурным героем, зачастую – мучеником культуры, вне зависимости от его личных мотивов и отношений с официальными институтами.
Поэтому нонконформисты зачастую «проживали сказанное», «строили свою жизнь по слову» в особом «социально-космическом протесте», а «любое жизненное обстоятельство <…> воспринималось символически» [Кривулин 2000: 103–104]. И наконец, в силу задействованных коммуникативных механизмов (например, неформальные или подпольные мероприятия), то же перформативное изменение статуса распространяется и на публику. Нонконформистская литература всегда мифопоэтична, концептуальна и перформативна по сути, вне зависимости от конкретного стиля и жанра того или иного произведения, даже вне зависимости от намерений автора. Другими словами, Бродскому совсем не обязательно было читать Поля Тиллиха, чтобы видеть в поэзии проявление «мужества быть» [Гордин 2010: 85-101]. Нонконформизм – это поступок, который делает личность автора «публичным знаком» [Иванов 2000а: 49]. Более того, даже выпадая из пространства политической конфликтуализации (как в случае эмиграции), подлинный нонконформизм «остается», по выражению Алека Рапопорта; и нонконформистская литература часто остается, как, например, в случае Ильи Бокштейна, «образом жизни» [Вайман 2010].
Теперь можно указать на то, что формирует специфически еврейское высказывание в рамках нонконформистского дискурса, в соответствии с выделенными здесь тремя его прагматическими компонентами или измерениями. В еврейском нонконформистском высказывании 1) воображение конфликта имеет еврейский характер (вовлеченность евреев в конфликт – условие необходимое, но не достаточное); 2) проект возможного или нового конструируется при помощи еврейских сюжетов, образов и символов; 3) обнаруженное и воплощенное «реальное» касается еврейской идентичности. Другими словами, «еврейское» в этом дискурсе представляет собой специфически еврейскую (культурно, национально или религиозно обусловленную) перекодировку экономии риска «смелого» знакопорождения в описанном выше мифопоэзисе. Такая формально-прагматическая конфигурация неизбежно оказывает влияние и на идейное содержание высказывания. Благодаря переходу от конфликтной сцены смыслопорождения, где «священным» объектом насилия, то есть жертвой, является еврей, к реальной сцене самоосознания, где еврей становится равноправным участником борьбы за присвоение реального «священного», рождается новая, невиктимная или, в терминологии Ганса, первоначальная («originary») парадигма еврейского существования.
Вектор преодоления виктимности появляется в советской литературе в конце 1960-х и в начале 1970-х, во многом в связи с израильскими войнами и в то же время почти одновременно с усилением проявлений самой парадигмы советско-еврейской виктимности (вне контекста Холокоста, осознанного и освоенного еще в сороковых-пятидесятых [Shrayer 2013]). То есть евреи всё больше пишут о себе как о жертвах системы, но также и осознают себя способными не быть жертвой. В дальнейшем эта динамика усиливается, вплоть до отказнической литературы 1970-80-х, о чем и свидетельствуют произведения Шраера-Петрова, которые я рассмотрю ниже.
* * *
Давид Шраер-Петров (Давид Пейсахович [Петрович] Шраер) родился в 1936 году в Ленинграде. В своих мемуарах он пишет о том круге, в котором складывался его литературный путь. Он познакомился с будущим режиссером Ильей Авербахом в 1955–1956 годах и вступил в литобъединение (ЛИТО) 1-го Ленинградского мединститута, в котором участвовал также Василий Аксенов. В 1959 году Давид Дар через Льва Озерова показал его стихи и стихи Александра Кушнера Борису Пастернаку, и тот, по словам Шраера-Петрова, лестно о них отозвался, «высказал дельные советы» и пожелал сам познакомиться с молодыми поэтами [Шраер-Петров 1989: 252]. В литературном объединении при Дворце культуры Промкооперации (позднее переименован в Дворец культуры Ленсовета) он близко сошелся с Дмитрием Бобышевым, Анатолием Найманом, Михаилом Ереминым, Евгением Рейном и другими [Шраер-Петров 1989: 103][18 - См. также [Шраер-Петров 2007: 64–81, 90–99, 167–176].]. Несколькими годами позже Шраер-Петров познакомился и подружился с писателем и китаеведом Борисом Вахтиным (пасынком Дара и сыном Веры Пановой) и участвовал в его литературных «четвергах» [Шраер-Петров 1989: 249]. Он не раз попадал в поле притяжения Анны Ахматовой, ее близких и знакомых, при этом сохраняя свой особый путь. Шраер-Петров занимался переводами под покровительством Ефима Эткинда и участвовал в его устных альманахах, а также в семинаре переводчиков Татьяны Гнедич [Шраер-Петров 1989: 259–268]. Он восхищался стихами Иосифа Бродского; дружба и встречи и с ним в Ленинграде 1960-х годов оставили неизгладимый след в его душе [Шраер-Петров 1989: 273–283], сравнимый только, пожалуй, с его литературной дружбой с Генрихом Сапгиром, впоследствии увенчавшейся его (совместно с Максимом Д. Шраером) книгой о Сапгире [Шраер, Шраер-Петров 2004][19 - См. также главу, посвященную Сапгиру, «Тигр снегов», в [Шраер-Петров 2007: 177–217].]. В 1964 году Шраер-Петров переехал в Москву.
Писатель вспоминает, что зимой 1977/78 года Аксенов предлагал ему принять участие в неофициальном «грандиозном альманахе», но он отказался: всего за год до этого, в 1976-м, он «с кровью» был принят в Союз писателей, и ему «не хотелось рисковать» [Шраер-Петров 1989:143] в 1979 году; однако в том же году, после того как он и его семья подали заявление на выезд в Израиль, он поддержал позицию участников «Метрополя». Он был исключен из Союза писателей в 1980-м. Находясь в отказе до поздней весны 1987 года, Шраер-Петров много писал и вел литературный семинар-салон для отказников. В годы существования семинара-салона неподцензурные авторы, среди которых были Генрих Сапгир и Юрий Карабчиевский, выступали с чтениями [Шраер-Петров 2007: 212–213][20 - См. также [Shrayer 2007: 1056–1057].]. Шраер-Петров также общался с иностранными дипломатами, участвовал в просмотрах фильмов в посольстве Великобритании [Шраер-Петров 2010:216], протестовал против призыва в армию своего студента – евангельского христианина-баптиста, который отказался брать в руки оружие [Шраер-Петров 2010: 228], участвовал в протестных демонстрациях отказников, давал интервью каналам АВС и CBS, передавал письма протеста через иностранных журналистов [Шраер-Петров 2010: 253], писал и подписывал открытые протестные обращения (в частности, к съезду Союза писателей в 1986 году) [Шраер-Петров 1989: 208] – словом, соединял в себе черты сиониста-отказника и диссидента. Писатель подвергался преследованиям, превентивным арестам и остракизму в советской печати. Его сочинения появлялись в еврейском самиздате. В 1985 году микрофильм с первой частью его романа об отказниках был нелегально вывезен из СССР в Израиль и стал центральной частью сборника об отказниках издательства «Библиотека-Алия» в 1986 году [Шраер-Петров 1986]. Первые две части трилогии об отказниках были впервые напечатаны в Москве в 1992 году под названием «Герберт и Нэлли» и впоследствии дважды переиздавались в России. Этот роман о жизни в отказе, и в частности его первая публикация в Израиле, дал мощный толчок развитию в творчестве Шраера-Петрова еврейской темы – развитию, начавшемуся значительно раньше.
Сын писателя, литературовед, прозаик и поэт Максим Д. Шраер, пишет: «Начиная с самых ранних стихов, ставших известными в самиздате с 1950-1960-х годов, Шраер-Петров исследовал природу еврейского самосознания, антисемитизма и отношений между евреями и русскими в условиях советского тоталитарного режима» [Шраер 2010: 384]. Еврейская идентичность Шраера-Петрова складывалась под влиянием семьи. «Еврейские гены», по его словам, всю жизнь мешали ему жить «нормально» [Шраер-Петров 1989: 11]. В доме бабушки он зачитывался «еврейской Библией с параллельным русским переводом» [Шраер-Петров 2010: 12][21 - См. также [Шраер-Петров 1999: 173].], а образ дяди Моисея (Моше Шарира), покинувшего дом в 1924 году ради Земли Израиля и строительства еврейского государства [Шраер-Петров 2010: 66, 200], привнес в эту идентичность теплую привязанность к Израилю и связанную с ней тоску по правдолюбию, справедливости и свободе[22 - См. также версию этой истории в рассказе «Мимозы на могилу бабушки» [Шраер-Петров 2016: 183] и в романе «Французский коттедж» [Шраер-Петров 1999: 166].]. Его отец «мечтал когда-нибудь сойти с трапа самолета, приземлившегося на земле Израиля» [Шраер-Петров 2010:123]. Рассказывая о «счастливых» 60-х, Шраер-Петров пишет:
Жизнь казалась вполне интересной и многообещающей. Если бы не вечные терзания, свойственные молодым интеллигентам моего поколения! Они, пожалуй, были связаны с мыслями о возможной эмиграции. Как бы я ни внушал себе, что все идет хорошо для моей «маленькой, но семьи», никуда и никогда не могли исчезнуть из памяти литературные события прошедшего десятилетия: разгром романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым» (1956), гражданская казнь Бориса Пастернака за издание за границей романа «Доктор Живаго» (1958), суд и ссылка Иосифа Бродского (1964) и многое другое. Катализатором тайных крамольных мыслей была встреча с теткой моей жены Милы – Цилей Поляк, приехавшей в Москву из Израиля навестить родню [Шраер-Петров 2010: 82–83].
Так наконец в 1979 году семья Шраеров начала жить жизнью отказников-активистов:
Мы постоянно встречались с другими отказниками и диссидентами (Владимир Слепак, Иосиф Бегун, Юрий Медведков, Александр Лернер и др.), открывали двери нашего дома представителям еврейских организаций США, Канады, Англии, Франции, которые активно боролись за наше освобождение из этого «новоегипетского плена» [Шраер-Петров 2010: 242].
Поэтому неудивительно, что большая часть прозы и поэзии Шраера-Петрова не была издана в Советском Союзе. В своих воспоминаниях он пишет, что набор его первой книги стихов был снят с публикации в Ленинграде «за дружбу с Иосифом Бродским»; в 1979–1980 годах за попытку эмигрировать был изъят из типографии и уничтожен сборник стихотворений «Зимний корабль», книга переводов с литовского и книга прозы «Охота на рыжего дьявола» были рассыпаны, причем уже на последних этапах перед публикацией [Шраер-Петров 1989]. (См. также статьи Максима Д. Шраера и Яна Пробштейна в данном сборнике.) К концу 1970-х его «конфликт с официальной советской культурой» [Шраер-Петров 2010: 175] усилился. Как уже было сказано, с 1979 года, когда было подано заявление на выезд и получен отказ, и до эмиграции в 1987-м он много пишет, и часть его прозаических работ этого периода являются яркими образцами отказнической литературы. К этому периоду относится, прежде всего, трилогия об отказниках, первая часть которой была написана в 1979–1980 годах [Шраер-Петров 1986: 242], а вторая – в 1982-1984-м [Шраер-Петров 1992: 588]; к этому периоду относится и «роман-фантелла» «Искупление Юдина», начатый в отказе (1981–1982) и впоследствии дописанный для первоначальной публикации в Соединенных Штатах (1992–1993) [Шраер-Петров 2005]. (См. статью Леонида Кациса об «Искуплении Юдина» в данном сборнике.) В эти годы написаны также цикл «Невские стихи», поэмы на еврейские темы, рассказы, трагикомедия в стихах «Вакцина. Эд Теннер» [Шраер-Петров 2021], а также «Друзья и тени» – книга воспоминаний о Ленинграде и ленинградских писателях 1950-х и ранних 1960-х годов. Я подробней остановлюсь здесь в основном на отказнических текстах в надежде, что творчество Шраера-Петрова будет рассмотрено во всей его полноте в дальнейших исследованиях.
Отказническая литература перекодирует конфликт с властью из политической сферы в культурную и духовную. Подача заявления в ОВИР на выезд в Израиль уже сама по себе была актом-высказыванием «смелой речи», необратимо меняющим социальный статус соискателя, инициирующим его новую идентичность, трансцендирующим его за пределы советской действительности и действительности вообще – на ту изначальную сцену генеративного конфликта, где рождается означивание и идет борьба за смысл. Не столько желание уехать, сопровождаемое отказом власти в разрешении, в свободе, сколько отказ личности смириться с отказом, протест является нонконформистским элементом в этом акте-высказывании [Шраер-Петров 1992: 154]. Это был протест против еврейской покорности и беспомощности, зависимости и вторичности, символическое воплощение которых герои трилогии об отказниках находят в восточноевропейских травах, «тянущихся под косу крестьянина», или в древесных грибах «на русском стволе», который «нас вспоил и позволил развиться» [Шраер-Петров 1992: 381–382]. Более того, основа нонконформизма здесь – не только протест против решения властей, но и протест против правил игры, «законов жанра», по которым разыгрывалась эта драма. В коротком романе Шраера-Петрова «Странный Даня Раев», события которого разворачиваются в эвакуации на Урале во время Второй мировой войны, еврейская женщина смело дает отпор антисемиту на глазах у всех, посреди базара. Ее молодой сын выкрикивает «слова справедливости, преданности и протеста» в лицо другому обидчику, по случайности еврею, пытающемуся занять место его отца-фронтовика и унизить его и его мать, называя присланную отцом с фронта для сына военную форму «маскарадом» [Шраер-Петров 2004].
И однако не протестующие подданные, а именно советская власть разыгрывала зловещий карнавал. Отказники переворачивали советский карнавал с головы на ноги, распрямляли искривленное и ставили подлинную драму. Карнавал лишал смысла все индивидуальное, присваивал себе и опустошал момент настоящего, заполняя его фантомами и кошмарами, нивелировал все культурно значимое, уникальное и целесообразное. Деятельность отказников была направлена в диаметрально противоположную сторону – на восстановление механизмов культуротворчества и становление подлинного бытия личности в «сейчас» истории, с его, в терминологии Бахтина, «заданностью» и ответственностью письма-поступка [Бахтин 2003]. В этой связи показательна особая приверженность отказников празднованию Пурима и пуримшпилю. Несмотря на внешнюю, поздно приобретенную маскарадность, этот традиционно-субверсивный праздник победы над тиранией не карнавален по сути: его содержание не имеет отношения к бахтинской «народной культуре смеха», и в его основе лежит не забвение себя, а, напротив, воспоминание народа о собственных корнях.
Отказнические тексты Давида Шраера-Петрова убедительно демонстрируют эту общую направленность. Его сценарий пурим-шпиля [Шраер-Петров 2007: 208]
и руководство (вместе с его женой Эмилией Шраер) литературным семинаром-салоном сами по себе были актами «смелой речи» для него и его семьи, как и для многих других отказников. Позднее, уже живя в США и осмысляя прошлое, писатель указал на то, что можно считать смыслопорождающим событием, основным мифом его жизни – образ-событие смерти Сталина, «когда, как в сказке, умирает Злой Колдун и побеждает Справедливость» [Шраер-Петров 2010: 8]. Сталин умер в Пурим, не успев осуществить свои худшие замыслы в от- [23 - См. также: Шраер-Петров Д. Пуримшпиль (сценарий). Видеозапись. Режиссер постановки Роман Спектор. Москва, 1987. URL: https://www.youtube.com/ watch?v=CxW_RNscgTQ (дата обращения: 08.04.2021).] ношении евреев («дело врачей» и массовые депортации), поэтому победа Справедливости приобрела личное, национальное и мифологическое значение[24 - См. [Shrayer 2016].]. И потому пуримшпиль для Шраера-Петрова – это праздник инициации и реализации личности в истории. Смерть Сталина стала символом разрешения конфликта, откладывания насилия, пусть и временного, и рождения новой жизни и нового типа сознания. Для Шраера-Петрова, как и для многих его современников, ресталинизация[25 - Страх перед ресталинизацией был одним из основных топосов прежде всего диссидентского движения. См., например, «От издателей» в «Белой книге» Гинзбурга [Гинзбург 1967]; письмо Якира, Кима и Ильи Габая «К деятелям науки, культуры и искусства» (январь 1968 года); «Последнее слово Ильи Габая на процессе 19–20 января 1970 года в Ташкентском городском суде» [Габай 2015: 8]. См. также многочисленные материалы на эту тему в «Хронике текущих событий», самиздатовском информационном бюллетене, выходившем в 1968–1983 годах. URL: http://hts.memo.ru (дата обращения: 08.04.2021).], воскрешение Сталина представляется худшим из кошмаров, символом насилия, утраты своей индивидуальности и человечности[26 - См. поздний рассказ Шраера-Петрова «Обед с вождем» в [Шраер-Петров 2016: 196–215].].
Символ как осознание себя через другого является центральным компонентом структуры нонконформизма, соединяющим два других: воображение конфликта и «реальное» подлинной идентичности. Как свидетельствуют произведения Шраера-Петрова, данный компонент может быть и минималистским. Эта черта проявляется уже в стихотворениях конца 1950-х и 1960-х годов, о которых Лев Озеров написал: «Он [Шраер-Петров] живет в поисках точности» [Озеров 1967: 116]. Тем более это верно относительно стихов 1970-х, касающихся в той или иной степени еврейской тематики и поисков автором своей идентичности, и уже в одном этом – нонконформистских. Шраер-Петров пишет:
На празднике «Весна Поэзии» в 1978 году в Вильнюсе, куда я взял с собой Максима, я прочитал стихотворение «Моя славянская душа в еврейской упаковке». Передача шла прямой трансляцией в эфир. В Москве меня вызвали на секретариат Союза Писателей, и я впервые получил проработку за публичное чтение стихов с «сионистским душком» [Шраер-Петров 2010: 160].
Шраер-Петров, Вольтская 2016 – Шраер-Петров Д., Вольтская Т. Мерцание желтой звезды // Радио Свобода. 2016. 28 янв. URL: http://www. bigbook.ru/articles/detail.php?ID=25001 (дата обращения: 03.07.2020).
Shrayer-Petrov 2003 – Shrayer-Petrov D. Jonah and Sarah: Jewish Stories of Russia and America I ed. by M. D. Shrayer. Library of Modern Jewish Literature. Syracuse: Syracuse University Press, 2003.
Shrayer-Petrov 2006 – Shrayer-Petrov D. Autumn in Yalta: A Novel and Three Stories / ed., co-transl., and with an afterword by M. D. Shrayer. Library of Modern Jewish Literature. Syracuse: Syracuse University Press, 2006.
Shrayer-Petrov 2014 – Shrayer-Petrov D. Dinner with Stalin and Other Stories / ed., with notes, and commentary by M. D. Shrayer. Library of Modern Jewish Literature. Syracuse: Syracuse University Press, 2014.
Shrayer-Petrov 2018 – Shrayer-Petrov D. Doctor Levitin I ed. and with notes by M. D. Shrayer, transl. by A. B. Bronstein, A. I. Fleszar, M. D. Shrayer. Detroit: Wayne State University Press, 2018.
Библиография
Зальцберг 2017 – Русские евреи в Америке / под ред. Э. Зальцберга. Т. 15. СПб.: Гиперион, 2017.
Кацин 1997 – Кацин Л. Кого раздражает борода Цукермана и почему…? // Еврейский мир. 1997. 31 янв.
Шраер, Шраер-Петров 2004 – Шраер М. Д., Шраер-Петров Д. Генрих Сапгир: Классик авангарда. СПб.: Дмитрий Буланин, 2004.
Friedgut 2003 – Friedgut Т. Н. Nationalities Policy, the Soviet Regime, the Jews, and Emigration // Jewish Life after the USSR / ed. by Z. Gitelman, M. Giants, M. I. Goldman. Bloomington: Indiana University Press, 2003. P. 27–45.
Gitelman 1988 – Gitelman Z. A Century of Ambivalence. The Jews of Russia and the Soviet Union, 1881 to the Present. New York: Schocken, 1988.
Katsman et al. 2021 – The Parallel Universes of David Shrayer-Petrov. A Collection Published on the Occasion of the Writer s 85
Birthday I ed. by R. Katsman, M. D. Shrayer, K. Smola. Boston: Academic Studies Press, 2021.
Krupnik 1995 – Krupnik I. Soviet Cultural and Ethnic Policies toward Jews: A Legacy Reassessed // Jews and Jewish Life in Russia and The Soviet Union / ed. by Y. Ro’i. Ilford: Routledge, 1995. P. 67–86.
Krutikov 2002 – Krutikov M. The Jewish Future in Russia: Trends and Opportunities // East European Jewish Affairs. 2002. Vol. 1. P. 1–16.
Kyrchanoff 2019 – Kyrchanoff M. «Dark Shadows of the Past Will Forever Remain with Us», or Fathers and Sons: Boundaries and Frontiers, Walls and Bridges in Soviet and Post Soviet Literature // Журнал фронтирных исследований. 2019. T. 2. С. 11–33.
Shrayer 2006 – Shrayer М. D. Afterword: Voices of My Fathers Exile // Shrayer-Petrov D. Autumn in Yalta: A Novel and Three Stories / ed., co-transl., and with an afterword by M. D. Shrayer. Library of Modern Jewish Literature. Syracuse: Syracuse University Press, 2006. P. 205–234.
Shrayer 2007 – An Anthology of Jewish-Russian Literature: Two Centuries of Dual Identity in Prose and Poetry, 1801–2001. 2 vols. I ed. by M. D. Shrayer. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2007.
Shrayer 2018 – Voices of Jewish-Russian Literature: An Anthology I ed. by M. D. Shrayer. Boston: Academic Studies Press, 2018.
Tsigel’man 1991 – Tsigel’man L. The Impact of Ideological Changes in the USSR on Different Generations of the Soviet Jewish Intelligentsia // Jewish Culture and Identity in the Soviet Union / ed. by Y Ro’i, A. Beker. New York and London: New York University Press, 1991. P. 42–72.
Нонконформистская поэтика Давида Шраера-Петрова[12 - Copyright © 2021 by Roman Katsman. Автор благодарит Давида Шраера-Петрова и Максима Д. Шраера за предоставленные материалы и за помощь в работе над статьей. Впервые эта статья была опубликована на русском языке как [Кацман 2017].]
Роман Кацман
Некоторые критики отмечают, что на карте позднесоветской неофициальной или нонконформистской литературы не осталось «темных мест» [Ельшевская 2009]. Однако в этой обширной области исследований творчеству ленинградского и московского, а с 1987 года – американского поэта, прозаика и переводчика Давида Шраера-Петрова было уделено слишком мало внимания. Отчасти это связано с тем, что в нонконформистской литературе уже давно сложился свой неофициальный, но вполне гегемонный канон. С другой стороны, это связано с вопросом о том, как национальную, в частности еврейскую составляющую следует соотносить с дискурсом советского нонконформизма. Теоретическое осмысление последнего отнюдь не завершено, как и осмысление культурно-антропологических мотивов, лежащих в основании нонконформистской литературы.
В этой статье речь пойдет о текстах Давида Шраера-Петрова, большая часть которых была написана в период отказа. Я попытаюсь показать, что лежащую в основе нонконформистского воображения сцену конфликта, представленную символически и направленную на мобилизацию еврейской идентичности, можно описать в терминологии генеративной антропологии Эрика Ганса как сцену блокировки насильственного жеста, направленного на жертву [Gans 2011]. Еврейский нонконформизм тем самым осваивает и преодолевает виктимное сознание, характерное для эпохи после Холокоста. Начнем с рассмотрения понятия нонконформизма.
Нонконформизм – в каком-то смысле омоним, имеющий различные, хотя и близкие значения в художественной, социальной и культурно-психологической плоскостях. В социологии и риторике нонконформизм редуцируется к протесту и несогласию, а также иногда включается в манифесты анархизма, однако очевидно, что эти понятия не исчерпываются друг другом. В наиболее общем смысле нонконформизм понимается как сопротивление формам мышления, письма, поведения, навязанным властями, гегемонией или правительством, а также общепринятым мнениям, стереотипам и предубеждениям. Нонконформизм охватывает, по выражению Лидии Гинзбург, все «то, что непохожее» [Иванов 20006: 21].
Применительно к советской литературе нонконформизм становится еще более расплывчатым понятием, так как советская власть как никакая другая придавала огромное значение присвоению любых форм, как в эстетической, так и в социокультурной сферах, не оставляя пространства за пределами своей сцены присвоения. Проанализированная Алексеем Юрчаком как одна из социокультурных возможностей «позднего социализма» [Yurchak2006:126–157], наивная фантазия о существовании «вне» этой сцены, культивируемая в некоторых кругах, от стиляг до русского рока, не могла быть реализована. Даже те, кто «просто» были «творческими людьми, не вписывавшимися в систему», кто «не были активными борцами, просто хотели, чтобы их оставили в покое и не мешали самовыражению» [Никольская 2000: 93], неизбежно оказывались в конфликте с системой[13 - Для дальнейшего изучения данной темы см. статьи, недавно собранные Клавдией Смолой в тематическом номере журнала НЛО [Смола 2019].].
В силу этого советский нонконформизм мог существовать только в пространствах конфликтуализации и в борьбе за обладание самими этими пространствами. В этой борьбе создавалась воображаемая, гипотетическая, но в то же время ощутимая сцена конфликта, в которой жертва системы (политической или эстетической) переставала быть жертвой и становилась активной силой, то есть в которой историческое сознание выходило за пределы виктимной парадигмы. Основное усилие нахождения «вне» было приложено к взаимной символической перекодировке политического, религиозного, социального, метафизического, фольклорного, национального и других «форм». Этот метод был направлен на блокирование жестов присвоения и на откладывание насилия, из чего рождались новые знаки и новая, нонконформистская культура. Главным риторическим инструментом метода была «смелая речь» [Foucault 2001], состоящая из отдельных, иногда минималистских и разрозненных, высказываний. Такие высказывания воплощали суть нонконформизма: превращение беспомощности и слабости в силу (эстетическую, культурную и политическую) и формирование новой идентичности за пределами виктимной парадигмы.
В тех случаях, когда порождаемые этими высказываниями знаки носят еврейский характер, имеет смысл говорить об особой еврейской составляющей нонконформизма. Алек Рапопорт писал: «Быть художником-нонконформистом – уже остро. Быть при этом еще и “еврейским художником” – просто скандальная для СССР ситуация» [Рапопорт 2003: 28–29]. Это можно проиллюстрировать на примере хорошо известного стихотворения Иосифа Бродского «Еврейское кладбище около Ленинграда», где автор разворачивает пространство конфликтуализации в стенах еврейского кладбища, мобилизуя читателей самиздатского «Синтаксиса» 1960 года на восприятие «юристов, торговцев, музыкантов и революционеров» как идеалистов и толкователей Талмуда, а их жертвенности – как упорства легшего в землю зерна [Бродский 1960].
Наталья Иванова писала о нарушении тройного табу советской литературы в творчестве некоторых еврейских писателей: они писали о евреях; они были евреями, пишущими о России; они писали о православии (и еще шире – о христианстве), будучи евреями [Иванова 2001]. Относится ли это ко всем евреям-нонконформистам? Диагноз Ивановой нельзя не признать слишком эссенциалистским и несколько неточным. «Еврейским», в художественном смысле, был не столько автор, литература или письмо, сколько высказывание. Давид Шраер-Петров писал о литературной ситуации второй половины 50-х: «Мы не делились на евреев-неевреев» [Шраер-Петров 1989: 112][14 - См. также [Шраер-Петров 2007: 65].], и в еврейских дружбах и беседах чаще всего не было места для «еврейских проблем» [Шраер-Петров 1989: 167]. Позднее эта ситуация несколько изменилась, размышления о «евреях-писателях, чурающихся самой тяжелой для нас темы: ассимиляции в России или выезда в Израиль», приобрели существенное значение [Шраер-Петров 1989:203]. Но такие изменения мало повлияли на поэтические вкусы и привычки тех, чье творчество сформировалось в те годы. Поэтому еврейскую составляющую нонконформизма следует искать не столько в социальной и политической плоскостях, сколько в плоскости символической, несмотря на то, что социальное играет огромную роль во всем, что касается взаимоотношений между официальной сферой и неофициальной литературой, формирующейся и определяемой через отношение к первой.
Независимо от того, как решается сложный вопрос о взаимоотношении между официозом и неофициальной литературой, последняя, по справедливому замечанию Станислава Савицкого, не может быть сведена к социальному, «даже в случае, когда оно понимается в контексте философии действия» [Савицкий 2002: 89]. Евреи-нонконформисты не объединялись в поэтические сообщества как евреи, и потому ключом к пониманию их работы должна быть не столько социология сообществ писателей, сколько герменевтика воображаемых и символических «сообществ высказываний». Такой подход не противоречит представлению о «едином неконформистском культурном движении», о «неофициальной культуре как целостном явлении» [Долинин 2000: 13–14], и кажется в данном случае более продуктивным.
Далее я попытаюсь сформулировать те теоретические положения, на которых можно построить анализ нонконформистского высказывания. Как дискурсивная формация нонконформизм (как социально-политический, так и поэтический) представляет собой искреннее, справедливое и адекватное [Habermas 1984:275] высказывание перед лицом опасности (для успеха, карьеры, славы, благополучия), то есть «смелую речь» [Foucault 2001], рискованный проект с конфликтной предпосылкой, причем риск состоит не только во взаимодействии с государственными институциями, но и в поиске новых форм, истин и самоидентификаций. Недостаточно не быть конформистом, чтобы быть нонконформистом; для литературы недостаточно быть неофициальной, неподцензурной, «второй литературой» [Иванов, Рогинский 2000], чтобы быть нонконформистской. Нонконформизм следует понимать не как негативную теоретическую характеристику, а как позитивное, активное действие, происходящее не в контексте изолированной субкультуры, а в ответ на вызовы гегемонной культуры и ради решения духовных, культурных проблем, этой культурой порождаемых.
Можно выделить следующие культурно-прагматические составляющие нонконформизма: 1) воображение конфликта как данного; 2) символическое конструирование проекта как чего-то возможного и нового; 3) экономия риска как того единственного, что реально, подлинно, истинно[15 - Структура конфликта как проблематизация отношения «я – другой» воспроизводит психоаналитическую структуру Жака Лакана [Lacan 2002].]. В этой трехсоставной конфигурации легко угадывается структура мифа: 1) вскрытие или создание конфликта; 2) снятие конфликта при помощи рискованного или трансгрессивного проекта (война, путешествие, метаморфоза, преступление, жертвоприношение); 3) реализация личности как трансцендентального, нуминозного[16 - Я опираюсь на предложенное А. Ф. Лосевым определение мифа как «в словах данной чудесной личностной истории» [Лосев 1991: 169].]. Итак, письмо нонконформизма гомологично мифотворчеству (мифопоэзису). В нонконформизме, как и в мифе, возможное и невозможное сливаются, с тем чтобы позволить субъекту трансцендировать из конфликта в реальное (например, в осознание собственной аутентичной идентичности). Благодаря изначальному конфликту это письмо становится, по определению Эрика Ганса, генеративной сценой знако- и культуропорождения [Gans 2011]. В этом свете проявляется и суть самого конфликта как следствия треугольника миметического желания обладания символами [Girard 1979], в то время как благодаря риску, связанному с этим конфликтом, нонконформистское высказывание приобретает перформативный характер, превращается в своего рода культовую, ритуальную, магическую формулу, необратимо меняющую культурный и, иногда, социальный статус автора[17 - См. [Мосс 2000; Austin 1975].], и как следствие – состояние культурной, интеллектуальной, социальной и, возможно, политической действительности. Это превращение имеет мифическую, даже эпико-героическую природу: автор символически становится культурным героем, зачастую – мучеником культуры, вне зависимости от его личных мотивов и отношений с официальными институтами.
Поэтому нонконформисты зачастую «проживали сказанное», «строили свою жизнь по слову» в особом «социально-космическом протесте», а «любое жизненное обстоятельство <…> воспринималось символически» [Кривулин 2000: 103–104]. И наконец, в силу задействованных коммуникативных механизмов (например, неформальные или подпольные мероприятия), то же перформативное изменение статуса распространяется и на публику. Нонконформистская литература всегда мифопоэтична, концептуальна и перформативна по сути, вне зависимости от конкретного стиля и жанра того или иного произведения, даже вне зависимости от намерений автора. Другими словами, Бродскому совсем не обязательно было читать Поля Тиллиха, чтобы видеть в поэзии проявление «мужества быть» [Гордин 2010: 85-101]. Нонконформизм – это поступок, который делает личность автора «публичным знаком» [Иванов 2000а: 49]. Более того, даже выпадая из пространства политической конфликтуализации (как в случае эмиграции), подлинный нонконформизм «остается», по выражению Алека Рапопорта; и нонконформистская литература часто остается, как, например, в случае Ильи Бокштейна, «образом жизни» [Вайман 2010].
Теперь можно указать на то, что формирует специфически еврейское высказывание в рамках нонконформистского дискурса, в соответствии с выделенными здесь тремя его прагматическими компонентами или измерениями. В еврейском нонконформистском высказывании 1) воображение конфликта имеет еврейский характер (вовлеченность евреев в конфликт – условие необходимое, но не достаточное); 2) проект возможного или нового конструируется при помощи еврейских сюжетов, образов и символов; 3) обнаруженное и воплощенное «реальное» касается еврейской идентичности. Другими словами, «еврейское» в этом дискурсе представляет собой специфически еврейскую (культурно, национально или религиозно обусловленную) перекодировку экономии риска «смелого» знакопорождения в описанном выше мифопоэзисе. Такая формально-прагматическая конфигурация неизбежно оказывает влияние и на идейное содержание высказывания. Благодаря переходу от конфликтной сцены смыслопорождения, где «священным» объектом насилия, то есть жертвой, является еврей, к реальной сцене самоосознания, где еврей становится равноправным участником борьбы за присвоение реального «священного», рождается новая, невиктимная или, в терминологии Ганса, первоначальная («originary») парадигма еврейского существования.
Вектор преодоления виктимности появляется в советской литературе в конце 1960-х и в начале 1970-х, во многом в связи с израильскими войнами и в то же время почти одновременно с усилением проявлений самой парадигмы советско-еврейской виктимности (вне контекста Холокоста, осознанного и освоенного еще в сороковых-пятидесятых [Shrayer 2013]). То есть евреи всё больше пишут о себе как о жертвах системы, но также и осознают себя способными не быть жертвой. В дальнейшем эта динамика усиливается, вплоть до отказнической литературы 1970-80-х, о чем и свидетельствуют произведения Шраера-Петрова, которые я рассмотрю ниже.
* * *
Давид Шраер-Петров (Давид Пейсахович [Петрович] Шраер) родился в 1936 году в Ленинграде. В своих мемуарах он пишет о том круге, в котором складывался его литературный путь. Он познакомился с будущим режиссером Ильей Авербахом в 1955–1956 годах и вступил в литобъединение (ЛИТО) 1-го Ленинградского мединститута, в котором участвовал также Василий Аксенов. В 1959 году Давид Дар через Льва Озерова показал его стихи и стихи Александра Кушнера Борису Пастернаку, и тот, по словам Шраера-Петрова, лестно о них отозвался, «высказал дельные советы» и пожелал сам познакомиться с молодыми поэтами [Шраер-Петров 1989: 252]. В литературном объединении при Дворце культуры Промкооперации (позднее переименован в Дворец культуры Ленсовета) он близко сошелся с Дмитрием Бобышевым, Анатолием Найманом, Михаилом Ереминым, Евгением Рейном и другими [Шраер-Петров 1989: 103][18 - См. также [Шраер-Петров 2007: 64–81, 90–99, 167–176].]. Несколькими годами позже Шраер-Петров познакомился и подружился с писателем и китаеведом Борисом Вахтиным (пасынком Дара и сыном Веры Пановой) и участвовал в его литературных «четвергах» [Шраер-Петров 1989: 249]. Он не раз попадал в поле притяжения Анны Ахматовой, ее близких и знакомых, при этом сохраняя свой особый путь. Шраер-Петров занимался переводами под покровительством Ефима Эткинда и участвовал в его устных альманахах, а также в семинаре переводчиков Татьяны Гнедич [Шраер-Петров 1989: 259–268]. Он восхищался стихами Иосифа Бродского; дружба и встречи и с ним в Ленинграде 1960-х годов оставили неизгладимый след в его душе [Шраер-Петров 1989: 273–283], сравнимый только, пожалуй, с его литературной дружбой с Генрихом Сапгиром, впоследствии увенчавшейся его (совместно с Максимом Д. Шраером) книгой о Сапгире [Шраер, Шраер-Петров 2004][19 - См. также главу, посвященную Сапгиру, «Тигр снегов», в [Шраер-Петров 2007: 177–217].]. В 1964 году Шраер-Петров переехал в Москву.
Писатель вспоминает, что зимой 1977/78 года Аксенов предлагал ему принять участие в неофициальном «грандиозном альманахе», но он отказался: всего за год до этого, в 1976-м, он «с кровью» был принят в Союз писателей, и ему «не хотелось рисковать» [Шраер-Петров 1989:143] в 1979 году; однако в том же году, после того как он и его семья подали заявление на выезд в Израиль, он поддержал позицию участников «Метрополя». Он был исключен из Союза писателей в 1980-м. Находясь в отказе до поздней весны 1987 года, Шраер-Петров много писал и вел литературный семинар-салон для отказников. В годы существования семинара-салона неподцензурные авторы, среди которых были Генрих Сапгир и Юрий Карабчиевский, выступали с чтениями [Шраер-Петров 2007: 212–213][20 - См. также [Shrayer 2007: 1056–1057].]. Шраер-Петров также общался с иностранными дипломатами, участвовал в просмотрах фильмов в посольстве Великобритании [Шраер-Петров 2010:216], протестовал против призыва в армию своего студента – евангельского христианина-баптиста, который отказался брать в руки оружие [Шраер-Петров 2010: 228], участвовал в протестных демонстрациях отказников, давал интервью каналам АВС и CBS, передавал письма протеста через иностранных журналистов [Шраер-Петров 2010: 253], писал и подписывал открытые протестные обращения (в частности, к съезду Союза писателей в 1986 году) [Шраер-Петров 1989: 208] – словом, соединял в себе черты сиониста-отказника и диссидента. Писатель подвергался преследованиям, превентивным арестам и остракизму в советской печати. Его сочинения появлялись в еврейском самиздате. В 1985 году микрофильм с первой частью его романа об отказниках был нелегально вывезен из СССР в Израиль и стал центральной частью сборника об отказниках издательства «Библиотека-Алия» в 1986 году [Шраер-Петров 1986]. Первые две части трилогии об отказниках были впервые напечатаны в Москве в 1992 году под названием «Герберт и Нэлли» и впоследствии дважды переиздавались в России. Этот роман о жизни в отказе, и в частности его первая публикация в Израиле, дал мощный толчок развитию в творчестве Шраера-Петрова еврейской темы – развитию, начавшемуся значительно раньше.
Сын писателя, литературовед, прозаик и поэт Максим Д. Шраер, пишет: «Начиная с самых ранних стихов, ставших известными в самиздате с 1950-1960-х годов, Шраер-Петров исследовал природу еврейского самосознания, антисемитизма и отношений между евреями и русскими в условиях советского тоталитарного режима» [Шраер 2010: 384]. Еврейская идентичность Шраера-Петрова складывалась под влиянием семьи. «Еврейские гены», по его словам, всю жизнь мешали ему жить «нормально» [Шраер-Петров 1989: 11]. В доме бабушки он зачитывался «еврейской Библией с параллельным русским переводом» [Шраер-Петров 2010: 12][21 - См. также [Шраер-Петров 1999: 173].], а образ дяди Моисея (Моше Шарира), покинувшего дом в 1924 году ради Земли Израиля и строительства еврейского государства [Шраер-Петров 2010: 66, 200], привнес в эту идентичность теплую привязанность к Израилю и связанную с ней тоску по правдолюбию, справедливости и свободе[22 - См. также версию этой истории в рассказе «Мимозы на могилу бабушки» [Шраер-Петров 2016: 183] и в романе «Французский коттедж» [Шраер-Петров 1999: 166].]. Его отец «мечтал когда-нибудь сойти с трапа самолета, приземлившегося на земле Израиля» [Шраер-Петров 2010:123]. Рассказывая о «счастливых» 60-х, Шраер-Петров пишет:
Жизнь казалась вполне интересной и многообещающей. Если бы не вечные терзания, свойственные молодым интеллигентам моего поколения! Они, пожалуй, были связаны с мыслями о возможной эмиграции. Как бы я ни внушал себе, что все идет хорошо для моей «маленькой, но семьи», никуда и никогда не могли исчезнуть из памяти литературные события прошедшего десятилетия: разгром романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым» (1956), гражданская казнь Бориса Пастернака за издание за границей романа «Доктор Живаго» (1958), суд и ссылка Иосифа Бродского (1964) и многое другое. Катализатором тайных крамольных мыслей была встреча с теткой моей жены Милы – Цилей Поляк, приехавшей в Москву из Израиля навестить родню [Шраер-Петров 2010: 82–83].
Так наконец в 1979 году семья Шраеров начала жить жизнью отказников-активистов:
Мы постоянно встречались с другими отказниками и диссидентами (Владимир Слепак, Иосиф Бегун, Юрий Медведков, Александр Лернер и др.), открывали двери нашего дома представителям еврейских организаций США, Канады, Англии, Франции, которые активно боролись за наше освобождение из этого «новоегипетского плена» [Шраер-Петров 2010: 242].
Поэтому неудивительно, что большая часть прозы и поэзии Шраера-Петрова не была издана в Советском Союзе. В своих воспоминаниях он пишет, что набор его первой книги стихов был снят с публикации в Ленинграде «за дружбу с Иосифом Бродским»; в 1979–1980 годах за попытку эмигрировать был изъят из типографии и уничтожен сборник стихотворений «Зимний корабль», книга переводов с литовского и книга прозы «Охота на рыжего дьявола» были рассыпаны, причем уже на последних этапах перед публикацией [Шраер-Петров 1989]. (См. также статьи Максима Д. Шраера и Яна Пробштейна в данном сборнике.) К концу 1970-х его «конфликт с официальной советской культурой» [Шраер-Петров 2010: 175] усилился. Как уже было сказано, с 1979 года, когда было подано заявление на выезд и получен отказ, и до эмиграции в 1987-м он много пишет, и часть его прозаических работ этого периода являются яркими образцами отказнической литературы. К этому периоду относится, прежде всего, трилогия об отказниках, первая часть которой была написана в 1979–1980 годах [Шраер-Петров 1986: 242], а вторая – в 1982-1984-м [Шраер-Петров 1992: 588]; к этому периоду относится и «роман-фантелла» «Искупление Юдина», начатый в отказе (1981–1982) и впоследствии дописанный для первоначальной публикации в Соединенных Штатах (1992–1993) [Шраер-Петров 2005]. (См. статью Леонида Кациса об «Искуплении Юдина» в данном сборнике.) В эти годы написаны также цикл «Невские стихи», поэмы на еврейские темы, рассказы, трагикомедия в стихах «Вакцина. Эд Теннер» [Шраер-Петров 2021], а также «Друзья и тени» – книга воспоминаний о Ленинграде и ленинградских писателях 1950-х и ранних 1960-х годов. Я подробней остановлюсь здесь в основном на отказнических текстах в надежде, что творчество Шраера-Петрова будет рассмотрено во всей его полноте в дальнейших исследованиях.
Отказническая литература перекодирует конфликт с властью из политической сферы в культурную и духовную. Подача заявления в ОВИР на выезд в Израиль уже сама по себе была актом-высказыванием «смелой речи», необратимо меняющим социальный статус соискателя, инициирующим его новую идентичность, трансцендирующим его за пределы советской действительности и действительности вообще – на ту изначальную сцену генеративного конфликта, где рождается означивание и идет борьба за смысл. Не столько желание уехать, сопровождаемое отказом власти в разрешении, в свободе, сколько отказ личности смириться с отказом, протест является нонконформистским элементом в этом акте-высказывании [Шраер-Петров 1992: 154]. Это был протест против еврейской покорности и беспомощности, зависимости и вторичности, символическое воплощение которых герои трилогии об отказниках находят в восточноевропейских травах, «тянущихся под косу крестьянина», или в древесных грибах «на русском стволе», который «нас вспоил и позволил развиться» [Шраер-Петров 1992: 381–382]. Более того, основа нонконформизма здесь – не только протест против решения властей, но и протест против правил игры, «законов жанра», по которым разыгрывалась эта драма. В коротком романе Шраера-Петрова «Странный Даня Раев», события которого разворачиваются в эвакуации на Урале во время Второй мировой войны, еврейская женщина смело дает отпор антисемиту на глазах у всех, посреди базара. Ее молодой сын выкрикивает «слова справедливости, преданности и протеста» в лицо другому обидчику, по случайности еврею, пытающемуся занять место его отца-фронтовика и унизить его и его мать, называя присланную отцом с фронта для сына военную форму «маскарадом» [Шраер-Петров 2004].
И однако не протестующие подданные, а именно советская власть разыгрывала зловещий карнавал. Отказники переворачивали советский карнавал с головы на ноги, распрямляли искривленное и ставили подлинную драму. Карнавал лишал смысла все индивидуальное, присваивал себе и опустошал момент настоящего, заполняя его фантомами и кошмарами, нивелировал все культурно значимое, уникальное и целесообразное. Деятельность отказников была направлена в диаметрально противоположную сторону – на восстановление механизмов культуротворчества и становление подлинного бытия личности в «сейчас» истории, с его, в терминологии Бахтина, «заданностью» и ответственностью письма-поступка [Бахтин 2003]. В этой связи показательна особая приверженность отказников празднованию Пурима и пуримшпилю. Несмотря на внешнюю, поздно приобретенную маскарадность, этот традиционно-субверсивный праздник победы над тиранией не карнавален по сути: его содержание не имеет отношения к бахтинской «народной культуре смеха», и в его основе лежит не забвение себя, а, напротив, воспоминание народа о собственных корнях.
Отказнические тексты Давида Шраера-Петрова убедительно демонстрируют эту общую направленность. Его сценарий пурим-шпиля [Шраер-Петров 2007: 208]
и руководство (вместе с его женой Эмилией Шраер) литературным семинаром-салоном сами по себе были актами «смелой речи» для него и его семьи, как и для многих других отказников. Позднее, уже живя в США и осмысляя прошлое, писатель указал на то, что можно считать смыслопорождающим событием, основным мифом его жизни – образ-событие смерти Сталина, «когда, как в сказке, умирает Злой Колдун и побеждает Справедливость» [Шраер-Петров 2010: 8]. Сталин умер в Пурим, не успев осуществить свои худшие замыслы в от- [23 - См. также: Шраер-Петров Д. Пуримшпиль (сценарий). Видеозапись. Режиссер постановки Роман Спектор. Москва, 1987. URL: https://www.youtube.com/ watch?v=CxW_RNscgTQ (дата обращения: 08.04.2021).] ношении евреев («дело врачей» и массовые депортации), поэтому победа Справедливости приобрела личное, национальное и мифологическое значение[24 - См. [Shrayer 2016].]. И потому пуримшпиль для Шраера-Петрова – это праздник инициации и реализации личности в истории. Смерть Сталина стала символом разрешения конфликта, откладывания насилия, пусть и временного, и рождения новой жизни и нового типа сознания. Для Шраера-Петрова, как и для многих его современников, ресталинизация[25 - Страх перед ресталинизацией был одним из основных топосов прежде всего диссидентского движения. См., например, «От издателей» в «Белой книге» Гинзбурга [Гинзбург 1967]; письмо Якира, Кима и Ильи Габая «К деятелям науки, культуры и искусства» (январь 1968 года); «Последнее слово Ильи Габая на процессе 19–20 января 1970 года в Ташкентском городском суде» [Габай 2015: 8]. См. также многочисленные материалы на эту тему в «Хронике текущих событий», самиздатовском информационном бюллетене, выходившем в 1968–1983 годах. URL: http://hts.memo.ru (дата обращения: 08.04.2021).], воскрешение Сталина представляется худшим из кошмаров, символом насилия, утраты своей индивидуальности и человечности[26 - См. поздний рассказ Шраера-Петрова «Обед с вождем» в [Шраер-Петров 2016: 196–215].].
Символ как осознание себя через другого является центральным компонентом структуры нонконформизма, соединяющим два других: воображение конфликта и «реальное» подлинной идентичности. Как свидетельствуют произведения Шраера-Петрова, данный компонент может быть и минималистским. Эта черта проявляется уже в стихотворениях конца 1950-х и 1960-х годов, о которых Лев Озеров написал: «Он [Шраер-Петров] живет в поисках точности» [Озеров 1967: 116]. Тем более это верно относительно стихов 1970-х, касающихся в той или иной степени еврейской тематики и поисков автором своей идентичности, и уже в одном этом – нонконформистских. Шраер-Петров пишет:
На празднике «Весна Поэзии» в 1978 году в Вильнюсе, куда я взял с собой Максима, я прочитал стихотворение «Моя славянская душа в еврейской упаковке». Передача шла прямой трансляцией в эфир. В Москве меня вызвали на секретариат Союза Писателей, и я впервые получил проработку за публичное чтение стихов с «сионистским душком» [Шраер-Петров 2010: 160].