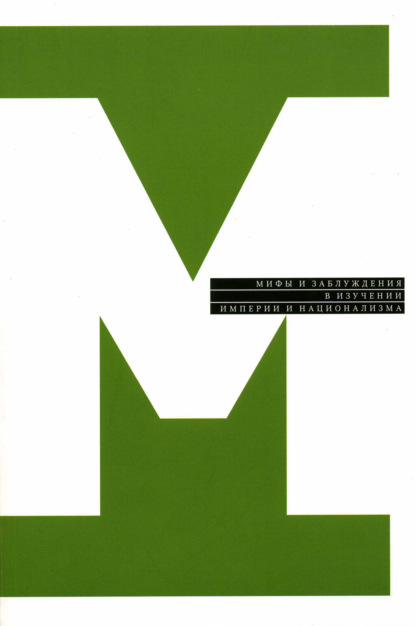По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
3
Таким образом, я рассмотрел два общих подхода к национальным конфликтам в регионе. Первый, оптимистический, предполагает, что эти конфликты можно разрешить посредством реорганизации политического пространства по национальным линиям. Второй, пессимистический, рассматривает конфликты как глубоко укорененные, всепроникающие и дестабилизирующие. Согласно этому подходу, конфликты в регионе постоянно угрожают перерасти в насилие.
Теперь мне хотелось бы обратиться к двум противоположным теориям источников и динамики возрождения национальных конфликтов. Первая – это теория «возвращения подавленного». Суть ее состоит в следующем: национальные идентичности и национальные конфликты были якобы глубоко укоренены в докоммунистической истории Восточной Европы, а затем заморожены или безжалостно подавлены антинациональными коммунистическими режимами. С падением коммунизма, согласно этой теории, докоммунистические идентичности и конфликты возобновились с удвоенной силой.
Эта теория может быть выражена в терминах квазифрейдистской идиомы (откуда она, вероятно, и черпает свое вдохновение). Не имея рационального управляющего «эго» в виде саморегулирующегося гражданского общества, коммунистические режимы подавляли исконно национальное «я» посредством грубого, карательного коммунистического «суперэго». С падением коммунистического «суперэго» подавленное этнонациональное «я» возвращается в полной силе, изливая гнев и месть, неподконтрольные регулирующему «эго». (Квазифрейдистская идиома демонстрирует ориенталистские корни этой теории и ее тесную связь с мифом о «паровом котле».)
Очевидно, что коммунистические режимы Восточной Европы и Советского Союза подавляли национализм. Но теория «возвращения подавленного» неправильно истолковывает способ, которым это делалось. Эта теория ошибочно полагает, что режимы подавляли не только национализм, но и национальное; что они были не только антинационалистическими, но и антинациональными. Кроме того, эта теория предполагает, что здоровое, исконное чувство национальности выжило в коммунистический период, невзирая на энергичные усилия режима, направленные на его искоренение и подмену интернационалистской и классовой солидарностью.
Подобный подход в корне ошибочен. Попробуем продемонстрировать вкратце, почему он ошибочен, на советском примере[68 - Для более полного представления о дискуссии вокруг этого аргумента см.: Brubaker R. Op. cit. Гл. 2.]. Рассматривать сегодняшние постсоветские национальные конфликты как борьбу наций, реальных и солидарных групп, которые каким-то образом выжили, несмотря на советские попытки сокрушить их; утверждать, что нации и национализм процветают сегодня, несмотря на безжалостно антинациональную политику советского режима, означает просто переворачивать вещи с ног на голову. Можно сформулировать проблему еще более остро: нации и национализм процветают сегодня благодаря политике режима. Будучи антинационалистической, эта политика никогда не была антинациональной. Вовсе не подавляя безжалостно национальность, советский режим повсюду стремился институциализировать ее. Режим, конечно, подавлял национализм; но в то же время он пошел дальше, чем какой-либо другой режим до или после него, институциализировав территориальную рамку национального и национальность как этническую принадлежность в качестве фундаментальных социальных категорий. Таким образом, режим неумышленно создал политическое поле, в высшей степени способствующее расцвету национализма.
Режим делал это двумя путями. С одной стороны, он нарезал советское государство на более чем пятьдесят национальных территорий, каждая из которых была ясно определена как родина для конкретной этнонациональной группы. Территории высшего уровня, те, которые сегодня являются независимыми государствами, были определены как квазинациональные государства, с собственными территориями, названиями, конституциями, законодательными собраниями, административным аппаратом, культурными и научными учреждениями и т. д.
С другой стороны, режим разделил всех граждан согласно исчерпывающей системе взаимно исключающих этнических национальностей, которых было более ста. Согласно этой государственной системе классификации, этнически определяемая национальность не только служила статистической категорией, фундаментальной единицей общественной бухгалтерии, но также, что еще более важно, означала обязательный и предписанный статус. Этот статус давался человеку государством при рождении, на основании его происхождения. Он был зарегистрирован в личных документах и практически во всех официальных бумагах, анкетах и так далее. Он использовался для контроля над доступом к высшему образованию и престижным рабочим местам, ограничивая возможности для одних национальностей, в частности, для евреев, и гарантируя доступ другим посредством политики льгот – например, для так называемых «титульных» национальностей в их «собственных» республиках.
Таким образом, задолго до эры Горбачева, территориальная и этническая национальность была повсеместно институциализирована как социальная и культурная форма. Несмотря на насмешки советологов, эта форма вовсе не являлась пустой. Безусловно, насмешки объяснялись тем, что режим последовательно и эффективно подавлял любые проявления открытого политического, а иногда даже и культурного национализма. И все же подавление национализма происходило параллельно с учреждением и консолидацией национальности как фундаментальной когнитивной и социальной формы.
Национальность как институциализированная форма располагала разработанной системой социальной классификации, а также организующим «принципом видения и разделения» социального мира, по выражению Пьера Бурдье. Она включала в себя стандартизированную систему социальной бухгалтерии, толковательные рамки общественной дискуссии, тесную организационную решетку, набор маркеров для проведения границ между группами, легитимные формы общественных и личных идентичностей. И когда общественное пространство резко расширилось при Горбачеве, эти повсеместно институциализированные формы были с готовностью политизированы. Они представляли собой элементарные формы политического сознания, политической риторики, политического интереса и политической идентичности. Согласно веберовской метафоре стрелочника, они определили колею, когнитивные рамки, по которым пошло действие, отражающее динамику материальных и идеальных интересов. Таким образом, национальность как социальная и культурная форма превратила коллапс режима в дезинтеграцию государства. Она продолжает формировать политическое сознание и политическое действие в государствах-преемниках СССР.
Похожей была ситуация в Югославии, хотя в других странах Центральной и Восточной Европы имелись отличия: там не наблюдалось такой степени общественной поддержки институционализации национальности[69 - Vujacic V., Zaslavsky V. The Causes of Disintegration in the USSR and Yugoslavia // Telos. Vol. 88 (1991).]. Тем не менее даже в этих государствах коммунистические режимы приспосабливались к национальности различными способами, пусть иногда и ограниченными. Подавление национальности, особенно в постсталинскую эпоху, вовсе не было таким последовательным, как это зачастую предполагается.
Подчеркивая кодификацию и распространенную институциализацию национальной рамки социального и политического опыта советским и югославским режимами, я вовсе не утверждаю что-либо о глубине или силе этнонациональных идентичностей, институциализированных этими режимами. Очень важно отличать друг от друга степень институциализации этнических и национальных категорий и психологическую глубину, овеществленность и практическую значимость подобных категориальных идентичностей. Степень институциализации в СССР была беспрецедентно высокой, тогда как психологическая глубина, овеществленность и практическая значимость сильно различались в зависимости от конкретной группы и в некоторых случаях были минимальны. В пределе, широко распространенные среди официально признанных малых народностей Российской Федерации институциализированные категориальные идентичности маскировали почти полное отсутствие отличительной культурной идентичности или особого этнонационального хабитуса. В крайних случаях члены различных «групп» отличались только по официальным этнонациональным отметкам, присвоенным им государством. Эти категорические отметки не подразумевали этнических или культурных отличий, а заменяли их[70 - В терминах Бурдье, две группы людей могут разделять один и тот же хабитус (или, более социологично, одно распределение хабитуса); они могут смотреть на мир одинаково, говорить на одном языке, одеваться одинаково, потреблять одни и те же товары и продукты и так далее; и тем не менее они все же могут существовать как две различные «группы» благодаря общественному категориальному признанию.]. Я не утверждаю, что именно такой вариант был типичен для СССР. Тем не менее это показательно. Чрезвычайно институциализированная система официальных этнонациональных идентичностей предоставляет в распоряжение общественным репрезентациям социальной реальности определенные категории. Таким же образом этими категориями пользуются при оформлении политических требований и организации политического действия. Сам по себе этот факт имеет большое значение. Но он не гарантирует, что эти категории будут играть существенную, структурирующую роль в оформлении представлений или ориентации людей в их ежедневной жизни. Институциализированные, категориальные наименования групп не могут быть приняты в качестве непроблематичных и безусловных индикаторов существования «реальных» групп или идентичностей.
Существует одна версия теории «возвращения подавленного», которая мне кажется более приемлемой. Она имеет особое значение для бывшей Югославии, так же как и для некоторых частей бывшего СССР. Версия эта состоит в том, что табуирование определенных тем – в Югославии это было табу на обсуждение братоубийственного насилия в годы Второй мировой войны – исключило любую форму Vergangenheitsbewaeltigung (овладения прошлым), в частности такую, которая имела место в Германии. Просто не было возможности публично обсуждать массовые убийства времен войны. Конечно, публичное обсуждение само по себе не разрешает проблем, а возможно, даже порождает острые конфликты. И все же открытые дискуссии могли бы лишить эти вопросы того взрывного потенциала, который проявился сорок лет спустя в обстановке общественной нестабильности и неуверенности.
В любом случае то, что «возвращается» в посткоммунистическом настоящем, возвращается не из докоммунистического прошлого; это возвращающееся порождено коммунистическим прошлым. В некоторых случаях, особенно в Советском Союзе и в его неевропейской части, собственно национальные идентичности были сконструированы при коммунизме. Но и в других частях Восточной Европы, где подобного не произошло, феномен национальности был отчасти, даже если и негативно, сформирован при коммунизме посредством подавления гражданского общества, подавления того общественного пространства, в котором можно было бы дискурсивно овладеть наследием прошлого.
4
Согласно теории «возвращения подавленного» то, что возвращается в виде национальных конфликтов, выражает нечто исконное, по меньшей мере глубоко укорененное в докоммунистической истории региона. Отсюда и постоянное обращение к «древней ненависти». Те же, кто заостряет внимание на беспринципных и манипуляторских элитах, придерживаются прямо противоположного мнения. Вовсе не считая национализм глубоко укорененным в исконных идентичностях или древних конфликтах, сторонники этого взгляда предполагают, что национализм подогревается в оппортунистической и циничной манере беспринципными политическими элитами. Очевидно, что этот подход содержит в себе много верного. Вряд ли кто-то усомнится в оппортунизме и цинизме политических элит или в их решающей роли (искренней или обусловленной тем же цинизмом) в процессе выражения национальных требований и в мобилизации людей для участия в национальных конфликтах. Тому есть немало классических примеров. Возможно, Слободан Милошевич является таким примером националиста скорее по практическим соображениям, чем по убеждению. Элитистский, инструменталистский фокус этого подхода безусловно верен в его отрицании того, что современная националистическая политика движима глубоко укорененными национальными идентичностями и древними конфликтами.
В качестве общей теории источников и динамики национализма в регионе теория манипуляции элит имеет по меньшей мере три проблематичные черты. Первая состоит в убеждении, что национализм выгоден как политическая стратегия, поэтому он является рациональной стратегией для элит, что для элит не составляет большего труда разжечь националистические страсти таким образом, чтобы это было политически выгодно. Второе проблематичное утверждение предполагает, что если разбуженная элитами массовая мобилизация вылилась в этнонациональную войну в Югославии, то это может случиться и в других местах (в наиболее сильной версии – в любом месте). Третье проблематичное заявление состоит в том, что подогреваемый элитами национализм есть, по существу, политика интересов, а поэтому должен рассматриваться исключительно в инструментальных терминах.
Я считаю, что все три утверждения ошибочны. Начать можно с того, что национализм – это вовсе не всегда субъективно рациональная или объективно успешная политическая стратегия. И не всегда возможно, не говоря уже о легкости, разжечь страх, недовольство, спровоцировать определенное восприятие и заблуждения, самоидентификации и идентификации другого – короче говоря, те диспозиции, то состояние сознания, при котором явная и рассчитанная националистическая позиция элит может приносить плоды[71 - Само выражение проблематично: предполагая, что националистические страсти уже имеются для «возбуждения», оно говорит о трудностях, связанных с тем, что можно назвать «работой национализации».]. И вовсе не всегда легко поддерживать подобное националистически направленное состояние сознания после его успешного пробуждения.
Слабо связанные между собой политические позиции и стратегии, которые мы называем «националистическими», сами по себе не гарантируют общего преимущества перед другими политическими позициями или стратегиями[72 - Нюансированное и полезное обсуждение противоположной точки зрения см.: Rothschild J. Ethnopolitics. N.Y., 1981. P. 41–66, особенно с. 64–65.]. Инвестировать в национализм в целом не более целесообразно, чем инвестировать в любую другую политическую позицию или идиому. В определенные моменты, разумеется, национализм приносит большие выгоды. Но определить, когда такие периоды заканчиваются, очень сложно. А когда такой момент наступает, политики и аналитики часто ошибаются, делая чрезмерные обобщения. Падение коммунистических режимов, и прежде всего таких, которые управляли много– или двунациональными государствами, было, очевидно, именно таким моментом. Но как мы можем определить его временные границы? Мне кажется, что политические дельцы, которые пытались получить выгоду от чрезмерных инвестиций в эту успешную (на данный момент) политическую стратегию, явно переоценили ее потенциал. Так же переоценили значение общей теории национализма и роли манипулирующих элит те исследователи, которые поспешили извлечь выгоду из ранних инвестиций в изучение национализма в посткоммунистическом мире[73 - В другом смысле, аналитики явно недостаточно инвестировали в изучение национализма, т. е. их инвестиции были краткосрочными, а не долгосрочными. В поисках быстрой прибыли аналитики инвестировали не столько в углубленное изучение национализма, сколько в скороспелые дискуссии и в раздувание значения самого феномена национализма.].
История посткоммунистической эпохи коротка. Но она достаточна для того, чтобы убедиться: националистические стратегии вовсе не всегда являются выгодными, даже в особых условиях посткоммунистического мира. Сегодня у нас есть уже довольно большой список проигранных националистами предвыборных компаний, включая Литву 1992 года, Венгрию 1994 года, Украину 1994 года, Беларусь 1994 года, Румынию 1996 года и другие страны[74 - Не следует заменять глобальную переоценку силы националистических политических призывов такой же глобальной недооценкой. Возвращение левых не означает, что национализм более не является реальной политической возможностью в регионе. Возвращение левых – в особенности тех левых, чья экономическая политика является гораздо более монетаристской и гораздо более приемлемой для МВФ, чем то, что предпринимали предшествующие правительства, – может вполне привести к возвращению правых. «Вернувшиеся левые» – вспомним коммунистов в России – так же способны к националистической политике, как и правые, если эти ярлыки вообще что-либо значат, в чем приходится сомневаться. У национализма не было фиксированного места в политическом спектре в те времена, когда еще имело смысл говорить о наличии такового. Сегодня же национализм локализован в еще меньшей степени.]. Особенно поразительной была неудача националистического лозунга, призывающего к необходимости защиты соплеменников, которые являются гражданами и жителями других государств. Хроническим источником крушения планов политических элит Венгрии являлось то, что рядовой венгр очень мало знает о судьбе соплеменников в Румынии, Словакии, в разрушенной Югославии или на Украине и еще меньше озабочен их судьбой. Рядовому венгру совсем не нравится, что венгерское правительство должно тратить «наши» деньги на «них» и что «они» приезжают в Венгрию и забирают «наши» рабочие места. «Их», безусловно, не признают за своих, и самое красноречивое свидетельство тому – то, что венгров, приезжающих на работу из Трансильвании, постоянно называют «румынами»[75 - Это не является, разумеется, венгерской спецификой: немцев, переселившихся из Казахстана в Германию, называют русскими, подобно тем российским или советским евреям, которые переселяются в Израиль.]. Похожим образом, неудачей окончились все попытки российских политиков организовать массовую поддержку русских, оставшихся в ближнем зарубежье. Организация, которая строила свою политическую программу вокруг этой проблемы, Конгресс русских общин, даже не смогла преодолеть пятипроцентный барьер на парламентских выборах 1995 года[76 - Отсутствие успеха на выборах у тех, кто пропагандирует защиту русских за пределами России, не означает, что эта тема исчезнет из российского политического дискурса. Даже если такие призывы и не находят отклика на внутренней арене, они могут с успехом использоваться на арене внешней, международной. Эта тема подробнее рассматривалась в работе: Brubaker R. Op. cit. Гл. 5.].
Второе проблематичное утверждение состоит в том, что если манипуляции элит довели Югославию до этнонационального варварства, то это может произойти и в других регионах. Я уже подверг критике верность заключения этого силлогизма, утверждая, что крупномасштабное насилие вряд ли случится между венграми и румынами в Трансильвании, невзирая на межэтническую напряженность. Теперь я хотел бы обратиться к посылке и рассмотреть ее.
Разумеется, манипуляции элит были важным элементом в развертывании югославской катастрофы. Тем не менее данный тезис не может определить те особые условия, которые обеспечили восприимчивость ключевых сегментов югославского населения к подобным манипуляциям в момент начала распада государства. В более широком смысле, он не объясняет, от чего зависит успешность мобилизирующих усилий элит, чрезмерно преувеличивая при этом силу и уровень этнических конфликтов. В югославском случае целый ряд особых факторов может помочь объяснить, почему люди оказались восприимчивы к циничным манипуляциям Белграда[77 - Для более детального обсуждения вопроса см.: Ibid. Р. 72 ff.]. Среди этих факторов – массовое межобщинное насилие времен Второй мировой войны; рассказы об этом насилии, которые, не будучи обсуждаемыми открыто, циркулировали в семьях, особенно в некоторых ключевых районах, таких, как населенная сербами Хорватская Крайна; страх, что это насилие повторится в условиях стремительного изменения системы контроля над средствами государственного насилия, в особенности когда контроль в Хорватии переходил в руки режима, который по меньшей мере неосторожно принял символы, ассоциировавшиеся для сербов с преступным режимом усташей времен войны. Разумеется, политики дают неверную картину прошлого. Но подобные картины резонировали в сознании югославского населения так, как нигде больше (за возможным исключением армяно-азербайджанского конфликта). И эти вариации в условиях восприимчивости к побуждающим призывам остаются вне теоретических объяснений концепции манипуляции элит.
Третье проблематичное утверждение, связанное с этой концепцией, состоит в том, что она понимает национализм как политику интереса, а не как политику идентичности и поэтому считает, что национализм необходимо объяснять в терминах инструментальности, фокусируясь на расчетах циничных оппортунистических элит, а не на исконных национальных идентичностях. Мы же в принципе не должны выбирать между инструментальным подходом и подходом, основанным на идентичности. Ошибочность этого противопоставления становится очевидной, если мы обратим внимание на когнитивное измерение национализма. С когнитивной точки зрения национализм – это способ видения мира, способ идентификации интересов или, еще точнее, способ определения единиц-носителей интереса или единиц, в отталкивании от которых происходит формулирование интересов. Национализм предоставляет модель видения и разделения мира, говоря словами Пьера Бурдье, модель социального учета и отчета. Таким образом, национализм внутренне связывает интерес и идентичность путем идентификации того, как мы должны определять свои интересы.
Разумеется, «интересы» лежат в центре националистической политики, в центре любой политики, в центре социальной жизни вообще. Ошибочность тезиса о манипуляции со стороны элит состоит не в том, что этот тезис не замечает интересов, а в том, что он слишком узко их понимает, фокусируясь в основном на расчетливом преследовании собственных интересов (прежде всего интересов политиков в приобретении и удержании власти). Считая подобное преследование интересов естественным и игнорируя более широкий вопрос о конституировании интересов, в частности вопрос о том, каким образом конституируются и идентифицируются общности, способные выступать носителями интересов (в особенности «нации», «этнические группы» и «классы»), сторонники тезиса о манипуляции со стороны элит слишком сужают поле исследования. Дискурс элит часто играет важную роль в конституировании интересов, однако же политические и культурные элиты не могут делать это по собственной воле, посредством применения пары манипулятивных трюков. Идентификация и конституирование интересов – в национальных или иных терминах – является сложным и многосторонним процессом, который не может быть сведен только лишь к манипуляции со стороны элит.
5
Пятое положение, которое я хотел бы разобрать, заключается в том «группизме», который до сих пор превалирует в изучении национализма и этничности. Под «группизмом», или, как я его еще называю, «реализмом группы», я понимаю социальную онтологию группы, которая приводит к пониманию этнических групп и наций как реальных сущностей, как субстанциальных, продолжающихся во времени, внутренне гомогенных и внешне отграниченных коллективов.
Похожий «реализм группы» в течение долгого времени господствовал во многих отраслях социологии и родственных ей дисциплин[78 - Этот аргумент берет свое начало (а также аргумент, развитый в следующем абзаце) и представлен в полном виде в работе: Ibid. Гл. I, особенно с. 13 и след.]. И тем не менее в последнее десятилетие совместное влияние по меньшей мере четырех различных тенденций подрывало представление о группах как о реальных субстанциальных сущностях. Первой тенденцией был рост интереса к феномену социальных сетей, расцвет теории «сети» и все увеличивающееся использовании термина «сеть» в качестве обобщающего и ориентирующего образа или метафоры в социальной теории. Второй тенденцией стала теория «рационального действия» с ее неустанным методологическим индивидуализмом, которая существенно подрывала реалистическое понимание группы. Третьим элементом явился переход от широкой структуралистской теории к ряду более конструктивистских позиций; если первый подход считал группы длящимися компонентами социальной структуры, то второй подчеркивал сконструированность, случайность и текучесть групп. Наконец, возникающая постмодернистская методология подчеркивает фрагментарность, эфемерность и эрозию фиксированных форм и ясных границ. Эти четыре тенденции различны, даже взаимно противоречивы. Но они сыграли совместную роль в проблематизации группы и в подрыве значения аксиомы стабильности группового бытия.
И все же уход от «реализма группы» в социальных науках был неравномерным. Особенно сильно он проявился в исследованиях класса, в частности рабочего класса. Термин «рабочий класс» невозможно сегодня использовать без кавычек или какого-либо другого дистанцирующего референта. И действительно, рабочий класс, понимаемый как реальная сущность или субстанциальное сообщество, сегодня растворился как объект анализа. В размывании этого понятия сыграли роль теоретические работы и детальные эмпирические исследования в области социальной истории, истории труда и повседневных представлений, а также социально-политической мобилизации. Исследование класса как культурной и политической идиомы, как способа существования конфликта, абстрактного измерения экономической структуры остается жизненно важным; но подобное исследование более не сопровождается пониманием класса как реальной, длящейся сущности.
В то же время понимание этнических групп и наций как реальных сущностей продолжает вдохновлять исследования в области этничности, национальности и национализма. В разговорной речи и в письменных текстах мы обычно «овеществляем» этнические и национальные группы, говоря о «сербах», «хорватах», «эстонцах», «русских», «венграх», «румынах», как если бы они были внутренне гомогенными и внешне отграниченными группами, в некотором смысле даже унитарными действующими лицами с общими целями. Мы представляем себе социальный и культурный мир в образах, напоминающих полотно Модильяни, как многоцветную мозаику, состоящую из одноцветных этнических или культурных блоков.
Хотелось бы остановиться на этом образе социального мира а-ля Модильяни. Я заимствую эту метафору у Геллнера. В конце своей книги «Нации и национализм» Геллнер прибегает к контрастирующим стилям письма двух художников – Кокошки и Модильяни (линии и переходы цвета и света – в первом случае, четкие, остро прорисованные цветовые блоки – во втором), чтобы охарактеризовать переход от культурного ландшафта донационального аграрного общества к культурному ландшафту общества индустриального, национально и культурно гомогенизированного[79 - Gellner E. Op. cit. Oxford, 1983. P. 139–140.].
Этот образ очень ярок, но, как мне кажется, он вводит в заблуждение. По сути, есть две версии «аргумента модильянизации». Первая – в том числе версия самого Геллнера – национальногосударственная. Ее аргумент состоит в том, что культура и политая постепенно смешиваются друг с другом. Геллнер был мастером сжатых характеристик громадных трансформаций всемирно-исторического масштаба. Без сомнения, в очень широкой исторической перспективе можно говорить о существенной культурной гомогенизации политий и о последующем совпадении культурных и политических границ. Тем не менее есть две трудности с подходом Геллнера.
Во-первых, упор, который делал Геллнер на гомогенизации, функционально требовавшейся для развития индустриального общества, как мне представляется, серьезно смещает смысл аргумента. Геллнер чрезмерно подчеркивает степень культурной гомогенизации, которая «требуется» для индустриального общества; обходит проблемы, которые ставит функционалистский анализ (заметить, что что-либо может «потребоваться» или может «быть полезным» для чего-либо, не значит объяснить происхождение феномена; нет механизма, который гарантировал бы, что «требуемое» произойдет на самом деле); уделяет мало внимания гомогенизирующему давлению межгосударственного соревнования, массового военного призыва и массового и национально ориентированного общего образования в классический век гражданской массовой армии. Все это, на мой взгляд, воздействия более мощные, чем те, которые были вызваны промышленным производством как таковым[80 - Геллнер, разумеется, уделял серьезное внимание образованию (см.: Ibid. Р. 3). Но он считал, что массовое «экзообразование» возникает по логике индустриального общества, а не по логике межгосударственного соревнования в век массовой войны.].
Во-вторых, Геллнер не уточнил, работают ли до сих пор гомогенизирующие силы индустриального общества или позднее индустриальное общество уже более не является гомогенизирующим. Ответ на этот вопрос должен быть дифференцированным. В некотором смысле, например, в распространении единой глобальной материальной культуры и диспозиций, с ней связанных, мощные гомогенизирующие силы все еще действуют. В других аспектах дело обстоит иначе. Например, сама логика постиндустриального общества создает давление, вынуждающее импортировать массы иммигрантского труда, что, в свою очередь, воссоздает культурную модель, напоминающую стиль Кокошки.
Тем не менее кажется бесспорным, что гомогенизирующие силы, созданные межгосударственным соревнованием в классический век массовой гражданской армии, достигли своего апогея (по меньшей мере в развитом индустриальном мире) в конце XIX – начале XX века. Я бы назвал его моментом а-ля Модильяни в максимуме: это был апогей гражданской армии, «нации, призванной к оружию», период распространения в высшей степени ассимиляционных, гомогенизирующих школьных систем, связанных, по стилю и идеологии, с гражданскими массовыми армиями. Это также был момент, когда звучали претензии национальных государств на абсолютный внутренний суверенитет, претензии, которые легитимизировали попытки «национализировать» территории этих государств «по собственной воле», порою жестоко. Когда этот момент а-ля Модильяни в максимуме прошел, произошло некоторое ослабление гомогенизирующих претензий, желаний и практик государств, по меньшей мере в тех регионах земного шара (наиболее яркий пример – Западная Европа), где государства освободились от необходимости участвовать в жесточайшем геополитическом и потенциально военном соревновании друг с другом.
Однако классическая, национально-государственная версия аргумента «карты Модильяни» сегодня не является превалирующей. Более или менее общепризнано, что культура и полития не совпадают и не смешиваются, что практически все существующие политии в некотором смысле «поликультурны» (multicultural). И все же поликультурные ландшафты поздней современности сами обычно описываются в терминах а-ля Модильяни, т. е. в образе противостоящих, четко очерченных монохромных блоков. Я утверждаю, что эта новейшая, постнациональная (или, что более точно, постнационально-государственная) версия карты Модильяни является настолько же проблематичной, насколько проблематичной являлась старая, классическая национально-государственная версия.
Можно предположить, что смешанные модели расселения, характеризующие большинство современных поликультурных государств, будут оказывать сопротивление репрезентациям а-ля Модильяни. Согласно этой логике, вызванная иммиграцией этническая гетерогенность, подобная той, что существует в США, должна особенно остро противостоять этим репрезентациям, так же как и тесно перемешанные этнодемографические ландшафты Восточной Европы (в особенности Восточной Центральной Европы), поскольку это locus classicus этнически и национально смешанного заселения.
Однако подобный ход мысли ошибочно оценивает природу и риторическую мощь карты Модильяни. Пространственный аспект этой репрезентации – вид протяженных и однородных блоков, расположенных один подле другого, а не взаимопроникающих – не должен интерпретироваться буквально; вовсе не обязательно, что это соответствует пространственным характеристикам того, что репрезентируется. Представленная в стиле Модильяни гетерогенность как противопоставление однородных блоков не означает, что эти блоки территориально локализованы. Они могут быть перемешаны в пространстве, поскольку их «отдельность» – ограниченность и внутренняя однородность – концептуально находится не в физическом пространстве, а в социальном и культурном[81 - Тем не менее даже смешанные модели заселения часто представляются в образах мозаики, как составленные из ограниченных, внутренне гомогенных блоков. «Гетерогенность», при таком способе воображения, – это всего лишь распределение гомогенных единиц. Гетерогенность все еще концептуализируется в группистских терминах. Иногда этому можно найти буквальное подтверждение в картах «этнической неоднородности», где эта неоднородность и смешение представлены в виде противопоставленных цветовых полей. Как представить этническую неоднородность на двухмерной карте, является непростым и с философской точки зрения интересным вопросом. В любом случае ясно, что простое противопоставление густых цветовых полей вводит в заблуждение, поскольку предполагает большую степень местной однородности, чем на самом деле существует, и поскольку относит гетерогенность и различие на уровень более высокой единицы. Например, подобные карты предполагают, что провинции отличаются друг от друга, а деревни или регионы – нет. Подобное предположение часто вводит в заблуждение.]. Но наша концептуальная карта остается группоориентированной; на ней все еще изображается население, состоящее из определенных и определяемых, ограниченных, внутренне гомогенных блоков (например, афроамериканцы, коренные американцы, латинос, американцы азиатского происхождения и евроамериканцы, согласно «пентагональной» мультикультуралистской схеме Америки)[82 - По поводу критического обсуждения концепций этого мультикультуралистского пятиугольника см.: Hollinger D. Post-Ethnic America. N.Y., 1995; Lind М. The Next American Nation. N.Y., 1995.]. Предполагаемый, если и не явный, образ общества состоит в изображении внутренне гомогенных, внешне резко очерченных, хотя и не обязательно территориально локализованных этнокультурных блоков.
Факт всепроникающего территориального смешения сам по себе еще не противоречит представлениям об этнокультурной гетерогенности а-ля Модильяни. Для того чтобы оспорить карту Модильяни, необходимо подвергнуть прямому сомнению групповую социальную онтологию, на которой основывается эта карта. На ней же основывается большинство дискуссий о мультикультурализме в Северной Америке и, разумеется, большинство работ о национализме и этничности по всему миру. На сегодняшний день имеется обширная и серьезная литература, которую можно призвать в союзники для подтверждения обоснованности подобных сомнений. Более того, как я уже отмечал выше, целый ряд тенденций в социальной теории последних десятилетий ставит под сомнение представления о существовании устойчивой и четко отграниченной «группности». И тем не менее эти существенные теоретические и эмпирические ресурсы серьезно не задели группизм, который продолжает превалировать и даже усиливается в последнее время в теоретических и практических дебатах о национализме и этничности. Это присутствие группизма, веры в «онтологию группы» поддерживается объединенными силами группистского обыденного языка, местными научными традициями (в особенности в области изучения рас, этничности, конкретных регионов), а сейчас и быстро распространяющейся дисциплиной изучения национализма. Этот группизм также поддерживают институциализация и кодификация групп и групповых идентичностей в общественной и политической сферах и усилия политических активистов от этнополитики по созданию и упрочению групп.
В Восточной Европе те силы, которые поддерживают и усиливают групповую социальную онтологию и группистский социальный анализ, являются более мощными, чем в Северной Америке. Институциализация и кодификация этнических и национальных групп, как было отмечено выше, зашла в коммунистических многонациональных государствах гораздо дальше, чем в Северной Америке. Более того, в Восточной Европе слабее представлены исследовательские традиции и интеллектуальные школы – от теории рационального выбора и анализа социальных сетей до конструктивизма и постмодернистской артикуляции переходного и фрагментарного в социальной жизни – чей вклад там много дал для переосмысления феномена «группности». Что еще более важно, в Восточной Европе нет индивидуалистических традиций Северной Америки, прежде всего фундаментально волюнтаристских концепций группности, которые берут свое начало в сектантском протестантизме, но ответвления которых видны повсюду в социальной и политической жизни, особенно в Соединенных Штатах.
Более того, можно утверждать, что превалирующий группистский язык социального анализа в Восточной Европе вполне удачно описывает этнонациональный ландшафт региона. В конце концов, в этом регионе долгое время существовало явное противоречие между границами национальными, упорно поддерживавшимися внутри государств и против государств, и государственными. Этот регион являлся locus classicus глубоко устоявшихся, неподатливых и относительно стабильных этнонациональных границ, соответствовавшим в большей части региона лингвистическим, а не политическим линиям раздела. Те самые силы, которые очевидно препятствовали конвергенции государственности и культуры в регионе, давая возможность этнонациональным группам поддерживать линии раздела, перерезавшие политические границы, могли бы свидетельствовать в пользу представлений а-ля Модильяни.
И действительно, в регионе встречаются впечатляющие примеры поддержания «группности», в частности примеры поддержания границ групп и групповых идентичностей вопреки гомогенизирующим, ассимиляционным устремлениям и практикам национализирующихся государств. Один из таких ярких примеров – поляки в Восточной Пруссии в конце XIX – начале XX века. Тем не менее, основываясь на этом примере, нельзя делать обобщения в масштабах всего региона. Более того, логику этого примера нельзя распространять на другие ситуации с поляками и немцами. В иных случаях границы и рубежи между поляками и немцами оказывались слабыми и неустойчивыми, и существенная ассимиляция происходила в обоих направлениях. Поддержание и усиление национальных рамок в этом случае нужно рассматривать как сложившееся под воздействием определенных сил и факторов в конкретных обстоятельствах, а не как результат качеств, имманентных полякам как таковым. В приведенном выше примере усиление «группности» произошло в виде динамичного, интерактивного и организованного ответа на вызов поспешных ассимиляторских практик германского государства и включало в себя высоко развитое сельскохозяйственное кооперативное движение, кредитные ассоциации, организации по закупке земли, школьные забастовки и мощную поддержку со стороны католической церкви. Это усиление группы поддерживалось мощной базой в лице католической церкви (откуда следует религиозная и этнолингвистическая эндогамия) в регионе, где лингвистические и религиозные границы часто совпадали (в тех районах, где немцы-католики вступали в отношения с поляками, национальные границы были гораздо слабее). «Группность», таким образом, была результатом политики и коллективного действия, а вовсе не их источником[83 - Cм. общую дискуссию по этому вопросу: Calhoun С. The Problem of Identity in Collective Action // Macro-Micro Linkages in Sociology / Ed. by J. Hubert. Newbury Park, 1991. P. 59.].
В других случаях границы оказывались гораздо слабее. Возьмем, к примеру, Украину периода последних лет существования СССР и первых лет после его распада. Как уже было отмечено выше, советский режим повсюду институциализировал национальность как фундаментальную социальную категорию. Ключевым выражением (и инструментом) этой институциализированной схемы являлась перепись, которая отмечала самоидентифицируемую этнокультурную национальность каждого человека. Во время переписи 1989 года около 11,4 миллиона жителей Украины определяли свою национальность как «русский». Но точность, которая является нам в данных переписи, даже при округлении до сотни тысяч, абсолютно обманчива. Сами категории «русский» и «украинец», которые означают предполагаемые и четко обособленные этнокультурные национальности, глубоко проблематичны в контексте Украины, где процент межэтнических браков необычайно высок и где почти два миллиона тех, кто определил свою национальность как «украинец (украинка)» при переписи 1989 года, признались, что не говорят на украинском как на своем родном языке или как на втором языке, которым владеют свободно. Поэтому следует скептически отнестись к иллюзии сплоченной и отграниченной группы, сотворенной переписью с ее всеохватывающими и взаимоисключающими категориями. Можно представить себе условия, при которых осознающее свою отдельность этнически русское меньшинство может возникнуть в Украине, но такая «группа» не может считаться данной или быть выведенной из результатов переписи[84 - Данные по национальности и языку приведены по изд.: Национальный состав населения СССР / Госкомстат СССР. М., 1991. С. 78–79.].
Граница между венграми и румынами в Трансильвании безусловно более четкая, чем между украинцами и русскими в Украине. Тем не менее даже в Трансильвании групповые границы гораздо более пористы и нестабильны, чем это обычно предполагается. Разумеется, язык повседневной жизни чрезвычайно категоричен. Он делит население согласно взаимоисключающим этнонациональным категориям, не допуская поправок на смешанные или неоднозначные формы. Но этот категорический код, важный в качестве основоопределяющего элемента социальных отношений, не может считаться верным и точным описанием этих отношений. Усиливаемый и воспроизводимый этнополитическими активистами с обеих сторон, этот категорический код в равной степени и раскрывает, и затемняет характер этнонациональной идентификации, скрывая текучесть и двусмысленность, которые возникают при межэтнических браках, в случаях двуязычия, при миграции, в ситуациях, когда венгерские дети ходят в румыноязычные школы или когда происходит ассимиляция (в обоих направлениях), связанная со сменой поколений, не говоря уже о таком простом случае, как обыкновенное равнодушие людей к притязаниям на этнокультурную национальность.
«Группность» и «сплоченность» должны, таким образом, рассматриваться как вариативные характеристики, как возникающие качества определенных структурных или конъюнктурных ситуаций; они не могут без должного основания рассматриваться как аксиоматичные или данные. Сравнительные исследования в области этничности и национализма дают этому тезису массу подтверждений, но сам тезис остается сравнительно мало оцененным вне этой специализированной исследовательской традиции. Сегодня этот тезис следует отметить особо, поскольку спонтанный группистский язык, господствующий в обыденной жизни, журналистике, политике и социальном анализе, язык, состоящий отчасти в привычке говорить в неопределенной форме о «румынах» или «венграх», как если бы они и вправду были внутренне гомогенными и внешне отграниченными группами, не только ослабляет социальный анализ, но и подрывает возможности либеральной политики в регионе.
6
Последняя идея, которую мне хотелось бы обсудить, – это манихейская теория того, что существует два типа национализма: хороший (гражданский) и плохой (этнический). Им соответствуют две концепции нации: хорошая, или гражданская, в логике которой национальная рамка считается соположенной общему гражданству, и плохая, или этническая, согласно которой национальная рамка основывается на этнической общности. Подобное деление часто связано с ориенталистской концепцией восточноевропейского национализма, поскольку в общем считается, что гражданский национализм характерен для Западной Европы, а этнический – для Восточной. Но различие между этническим и гражданским типами национализма часто можно встретить и внутри регионов – оно используется, нередко в идеологическом модусе, для разграничения между собственным, легитимным гражданским национализмом и нелегитимным этническим национализмом соседей. В научном или квазинаучном модусе эта оппозиция характеризует различные формы национализма и типы национального самосознания. Сегодня именно это различие является смыслообразующим в дебатах о новых государствах Восточной Европы и бывшего СССР и о процессах государственного и национального строительства в регионе. Оно предлагает удобное (даже слишком удобное, на мой взгляд) средство для классификации зачаточных процессов государственного или национального строительства в качестве этнических или гражданских.
Называя эту теорию манихейской, я изображаю ее, безусловно, в карикатурном виде, но не чрезмерно. Различие между этническим и гражданским национализмами, безусловно, имеет свои положительные аналитические и нормативные стороны (во всяком случае, более нюансированные формы этого различия). Я сам использовал схожее (хотя и не идентичное) различие между этнокультурным и государствоцентричным пониманием рамки национального сообщества в своей предыдущей работе[85 - Brubaker R. Citizenship and Nationhood in France and Germany. Cambridge, 1992.]. Тем не менее я считаю, что деление национализмов на этнические и гражданские, особенно в той упрощенной форме, в какой это деление обычно представляют, является проблематичным как в аналитическом, так и в нормативном смысле[86 - Yack B. The Myth of the Civic Nation // Critical Review. Vol. 10 (1996). Статья содержит критику дихотомии гражданского и этнического с точки зрения политической теории.].
Один из способов указать на аналитическую слабость этого манихейского взгляда состоит в том, чтобы отметить двусмысленность и неуверенность в концептуализации культурного измерения национальности и национализма. Грубо говоря, есть два способа наложения культурных параметров на схему разделения этнического и гражданского национализмов.
1. С одной стороны, этнический национализм можно толковать очень узко, подчеркивая его сфокусированность на происхождении и, в конечном итоге, на расе, на биологии. В таком случае мы найдем слишком мало этнических национализмов, так как, в рамках этого подхода, подчеркивание общей культуры (без отчетливого упоминания общего происхождения) должно считаться видом гражданского национализма. Но тогда категория гражданского национализма становится слишком гетерогенной, а категория этнического национализма теряет всякий смысл применительно к реальности (у нее не остается примеров), и использование этих терминов вообще становится невозможным.
2. С другой стороны, этнический национализм можно, наоборот, толковать слишком широко, как этнокультурный, а гражданский, будучи истолкованный узко, будет предполагать культурно-дистанцированную концепцию гражданства и строгое разграничение между гражданством, с одной стороны, и этнической и культурной национальностью – с другой. Но тогда мы имеем проблему, прямо противоположную той, что возникла у нас в первом случае: гражданский национализм стремительно теряет реальные очертания (т. е. невозможно будет вообще говорить о его существовании) и практически все виды национализма нужно будет определять как этнические или культурные. Даже парадигматические случаи гражданского национализма, такие как во Франции или Америке, перестают быть гражданскими, поскольку имеют решающий культурный компонент. (Любопытно, что две недавние работы утверждают существование американской культурной национальности: ее рамка, согласно этим исследованиям, – не просто политическая, основанная на идее, но культурная; Америка – это национальное государство, основанное на общей и обособленной американской культуре[87 - См.: Hollinger D. Post-Ethnic America. N.Y., 1995; Lind M. The Next American Nation. N.Y., 1995.].)
Таким образом, я рассмотрел два общих подхода к национальным конфликтам в регионе. Первый, оптимистический, предполагает, что эти конфликты можно разрешить посредством реорганизации политического пространства по национальным линиям. Второй, пессимистический, рассматривает конфликты как глубоко укорененные, всепроникающие и дестабилизирующие. Согласно этому подходу, конфликты в регионе постоянно угрожают перерасти в насилие.
Теперь мне хотелось бы обратиться к двум противоположным теориям источников и динамики возрождения национальных конфликтов. Первая – это теория «возвращения подавленного». Суть ее состоит в следующем: национальные идентичности и национальные конфликты были якобы глубоко укоренены в докоммунистической истории Восточной Европы, а затем заморожены или безжалостно подавлены антинациональными коммунистическими режимами. С падением коммунизма, согласно этой теории, докоммунистические идентичности и конфликты возобновились с удвоенной силой.
Эта теория может быть выражена в терминах квазифрейдистской идиомы (откуда она, вероятно, и черпает свое вдохновение). Не имея рационального управляющего «эго» в виде саморегулирующегося гражданского общества, коммунистические режимы подавляли исконно национальное «я» посредством грубого, карательного коммунистического «суперэго». С падением коммунистического «суперэго» подавленное этнонациональное «я» возвращается в полной силе, изливая гнев и месть, неподконтрольные регулирующему «эго». (Квазифрейдистская идиома демонстрирует ориенталистские корни этой теории и ее тесную связь с мифом о «паровом котле».)
Очевидно, что коммунистические режимы Восточной Европы и Советского Союза подавляли национализм. Но теория «возвращения подавленного» неправильно истолковывает способ, которым это делалось. Эта теория ошибочно полагает, что режимы подавляли не только национализм, но и национальное; что они были не только антинационалистическими, но и антинациональными. Кроме того, эта теория предполагает, что здоровое, исконное чувство национальности выжило в коммунистический период, невзирая на энергичные усилия режима, направленные на его искоренение и подмену интернационалистской и классовой солидарностью.
Подобный подход в корне ошибочен. Попробуем продемонстрировать вкратце, почему он ошибочен, на советском примере[68 - Для более полного представления о дискуссии вокруг этого аргумента см.: Brubaker R. Op. cit. Гл. 2.]. Рассматривать сегодняшние постсоветские национальные конфликты как борьбу наций, реальных и солидарных групп, которые каким-то образом выжили, несмотря на советские попытки сокрушить их; утверждать, что нации и национализм процветают сегодня, несмотря на безжалостно антинациональную политику советского режима, означает просто переворачивать вещи с ног на голову. Можно сформулировать проблему еще более остро: нации и национализм процветают сегодня благодаря политике режима. Будучи антинационалистической, эта политика никогда не была антинациональной. Вовсе не подавляя безжалостно национальность, советский режим повсюду стремился институциализировать ее. Режим, конечно, подавлял национализм; но в то же время он пошел дальше, чем какой-либо другой режим до или после него, институциализировав территориальную рамку национального и национальность как этническую принадлежность в качестве фундаментальных социальных категорий. Таким образом, режим неумышленно создал политическое поле, в высшей степени способствующее расцвету национализма.
Режим делал это двумя путями. С одной стороны, он нарезал советское государство на более чем пятьдесят национальных территорий, каждая из которых была ясно определена как родина для конкретной этнонациональной группы. Территории высшего уровня, те, которые сегодня являются независимыми государствами, были определены как квазинациональные государства, с собственными территориями, названиями, конституциями, законодательными собраниями, административным аппаратом, культурными и научными учреждениями и т. д.
С другой стороны, режим разделил всех граждан согласно исчерпывающей системе взаимно исключающих этнических национальностей, которых было более ста. Согласно этой государственной системе классификации, этнически определяемая национальность не только служила статистической категорией, фундаментальной единицей общественной бухгалтерии, но также, что еще более важно, означала обязательный и предписанный статус. Этот статус давался человеку государством при рождении, на основании его происхождения. Он был зарегистрирован в личных документах и практически во всех официальных бумагах, анкетах и так далее. Он использовался для контроля над доступом к высшему образованию и престижным рабочим местам, ограничивая возможности для одних национальностей, в частности, для евреев, и гарантируя доступ другим посредством политики льгот – например, для так называемых «титульных» национальностей в их «собственных» республиках.
Таким образом, задолго до эры Горбачева, территориальная и этническая национальность была повсеместно институциализирована как социальная и культурная форма. Несмотря на насмешки советологов, эта форма вовсе не являлась пустой. Безусловно, насмешки объяснялись тем, что режим последовательно и эффективно подавлял любые проявления открытого политического, а иногда даже и культурного национализма. И все же подавление национализма происходило параллельно с учреждением и консолидацией национальности как фундаментальной когнитивной и социальной формы.
Национальность как институциализированная форма располагала разработанной системой социальной классификации, а также организующим «принципом видения и разделения» социального мира, по выражению Пьера Бурдье. Она включала в себя стандартизированную систему социальной бухгалтерии, толковательные рамки общественной дискуссии, тесную организационную решетку, набор маркеров для проведения границ между группами, легитимные формы общественных и личных идентичностей. И когда общественное пространство резко расширилось при Горбачеве, эти повсеместно институциализированные формы были с готовностью политизированы. Они представляли собой элементарные формы политического сознания, политической риторики, политического интереса и политической идентичности. Согласно веберовской метафоре стрелочника, они определили колею, когнитивные рамки, по которым пошло действие, отражающее динамику материальных и идеальных интересов. Таким образом, национальность как социальная и культурная форма превратила коллапс режима в дезинтеграцию государства. Она продолжает формировать политическое сознание и политическое действие в государствах-преемниках СССР.
Похожей была ситуация в Югославии, хотя в других странах Центральной и Восточной Европы имелись отличия: там не наблюдалось такой степени общественной поддержки институционализации национальности[69 - Vujacic V., Zaslavsky V. The Causes of Disintegration in the USSR and Yugoslavia // Telos. Vol. 88 (1991).]. Тем не менее даже в этих государствах коммунистические режимы приспосабливались к национальности различными способами, пусть иногда и ограниченными. Подавление национальности, особенно в постсталинскую эпоху, вовсе не было таким последовательным, как это зачастую предполагается.
Подчеркивая кодификацию и распространенную институциализацию национальной рамки социального и политического опыта советским и югославским режимами, я вовсе не утверждаю что-либо о глубине или силе этнонациональных идентичностей, институциализированных этими режимами. Очень важно отличать друг от друга степень институциализации этнических и национальных категорий и психологическую глубину, овеществленность и практическую значимость подобных категориальных идентичностей. Степень институциализации в СССР была беспрецедентно высокой, тогда как психологическая глубина, овеществленность и практическая значимость сильно различались в зависимости от конкретной группы и в некоторых случаях были минимальны. В пределе, широко распространенные среди официально признанных малых народностей Российской Федерации институциализированные категориальные идентичности маскировали почти полное отсутствие отличительной культурной идентичности или особого этнонационального хабитуса. В крайних случаях члены различных «групп» отличались только по официальным этнонациональным отметкам, присвоенным им государством. Эти категорические отметки не подразумевали этнических или культурных отличий, а заменяли их[70 - В терминах Бурдье, две группы людей могут разделять один и тот же хабитус (или, более социологично, одно распределение хабитуса); они могут смотреть на мир одинаково, говорить на одном языке, одеваться одинаково, потреблять одни и те же товары и продукты и так далее; и тем не менее они все же могут существовать как две различные «группы» благодаря общественному категориальному признанию.]. Я не утверждаю, что именно такой вариант был типичен для СССР. Тем не менее это показательно. Чрезвычайно институциализированная система официальных этнонациональных идентичностей предоставляет в распоряжение общественным репрезентациям социальной реальности определенные категории. Таким же образом этими категориями пользуются при оформлении политических требований и организации политического действия. Сам по себе этот факт имеет большое значение. Но он не гарантирует, что эти категории будут играть существенную, структурирующую роль в оформлении представлений или ориентации людей в их ежедневной жизни. Институциализированные, категориальные наименования групп не могут быть приняты в качестве непроблематичных и безусловных индикаторов существования «реальных» групп или идентичностей.
Существует одна версия теории «возвращения подавленного», которая мне кажется более приемлемой. Она имеет особое значение для бывшей Югославии, так же как и для некоторых частей бывшего СССР. Версия эта состоит в том, что табуирование определенных тем – в Югославии это было табу на обсуждение братоубийственного насилия в годы Второй мировой войны – исключило любую форму Vergangenheitsbewaeltigung (овладения прошлым), в частности такую, которая имела место в Германии. Просто не было возможности публично обсуждать массовые убийства времен войны. Конечно, публичное обсуждение само по себе не разрешает проблем, а возможно, даже порождает острые конфликты. И все же открытые дискуссии могли бы лишить эти вопросы того взрывного потенциала, который проявился сорок лет спустя в обстановке общественной нестабильности и неуверенности.
В любом случае то, что «возвращается» в посткоммунистическом настоящем, возвращается не из докоммунистического прошлого; это возвращающееся порождено коммунистическим прошлым. В некоторых случаях, особенно в Советском Союзе и в его неевропейской части, собственно национальные идентичности были сконструированы при коммунизме. Но и в других частях Восточной Европы, где подобного не произошло, феномен национальности был отчасти, даже если и негативно, сформирован при коммунизме посредством подавления гражданского общества, подавления того общественного пространства, в котором можно было бы дискурсивно овладеть наследием прошлого.
4
Согласно теории «возвращения подавленного» то, что возвращается в виде национальных конфликтов, выражает нечто исконное, по меньшей мере глубоко укорененное в докоммунистической истории региона. Отсюда и постоянное обращение к «древней ненависти». Те же, кто заостряет внимание на беспринципных и манипуляторских элитах, придерживаются прямо противоположного мнения. Вовсе не считая национализм глубоко укорененным в исконных идентичностях или древних конфликтах, сторонники этого взгляда предполагают, что национализм подогревается в оппортунистической и циничной манере беспринципными политическими элитами. Очевидно, что этот подход содержит в себе много верного. Вряд ли кто-то усомнится в оппортунизме и цинизме политических элит или в их решающей роли (искренней или обусловленной тем же цинизмом) в процессе выражения национальных требований и в мобилизации людей для участия в национальных конфликтах. Тому есть немало классических примеров. Возможно, Слободан Милошевич является таким примером националиста скорее по практическим соображениям, чем по убеждению. Элитистский, инструменталистский фокус этого подхода безусловно верен в его отрицании того, что современная националистическая политика движима глубоко укорененными национальными идентичностями и древними конфликтами.
В качестве общей теории источников и динамики национализма в регионе теория манипуляции элит имеет по меньшей мере три проблематичные черты. Первая состоит в убеждении, что национализм выгоден как политическая стратегия, поэтому он является рациональной стратегией для элит, что для элит не составляет большего труда разжечь националистические страсти таким образом, чтобы это было политически выгодно. Второе проблематичное утверждение предполагает, что если разбуженная элитами массовая мобилизация вылилась в этнонациональную войну в Югославии, то это может случиться и в других местах (в наиболее сильной версии – в любом месте). Третье проблематичное заявление состоит в том, что подогреваемый элитами национализм есть, по существу, политика интересов, а поэтому должен рассматриваться исключительно в инструментальных терминах.
Я считаю, что все три утверждения ошибочны. Начать можно с того, что национализм – это вовсе не всегда субъективно рациональная или объективно успешная политическая стратегия. И не всегда возможно, не говоря уже о легкости, разжечь страх, недовольство, спровоцировать определенное восприятие и заблуждения, самоидентификации и идентификации другого – короче говоря, те диспозиции, то состояние сознания, при котором явная и рассчитанная националистическая позиция элит может приносить плоды[71 - Само выражение проблематично: предполагая, что националистические страсти уже имеются для «возбуждения», оно говорит о трудностях, связанных с тем, что можно назвать «работой национализации».]. И вовсе не всегда легко поддерживать подобное националистически направленное состояние сознания после его успешного пробуждения.
Слабо связанные между собой политические позиции и стратегии, которые мы называем «националистическими», сами по себе не гарантируют общего преимущества перед другими политическими позициями или стратегиями[72 - Нюансированное и полезное обсуждение противоположной точки зрения см.: Rothschild J. Ethnopolitics. N.Y., 1981. P. 41–66, особенно с. 64–65.]. Инвестировать в национализм в целом не более целесообразно, чем инвестировать в любую другую политическую позицию или идиому. В определенные моменты, разумеется, национализм приносит большие выгоды. Но определить, когда такие периоды заканчиваются, очень сложно. А когда такой момент наступает, политики и аналитики часто ошибаются, делая чрезмерные обобщения. Падение коммунистических режимов, и прежде всего таких, которые управляли много– или двунациональными государствами, было, очевидно, именно таким моментом. Но как мы можем определить его временные границы? Мне кажется, что политические дельцы, которые пытались получить выгоду от чрезмерных инвестиций в эту успешную (на данный момент) политическую стратегию, явно переоценили ее потенциал. Так же переоценили значение общей теории национализма и роли манипулирующих элит те исследователи, которые поспешили извлечь выгоду из ранних инвестиций в изучение национализма в посткоммунистическом мире[73 - В другом смысле, аналитики явно недостаточно инвестировали в изучение национализма, т. е. их инвестиции были краткосрочными, а не долгосрочными. В поисках быстрой прибыли аналитики инвестировали не столько в углубленное изучение национализма, сколько в скороспелые дискуссии и в раздувание значения самого феномена национализма.].
История посткоммунистической эпохи коротка. Но она достаточна для того, чтобы убедиться: националистические стратегии вовсе не всегда являются выгодными, даже в особых условиях посткоммунистического мира. Сегодня у нас есть уже довольно большой список проигранных националистами предвыборных компаний, включая Литву 1992 года, Венгрию 1994 года, Украину 1994 года, Беларусь 1994 года, Румынию 1996 года и другие страны[74 - Не следует заменять глобальную переоценку силы националистических политических призывов такой же глобальной недооценкой. Возвращение левых не означает, что национализм более не является реальной политической возможностью в регионе. Возвращение левых – в особенности тех левых, чья экономическая политика является гораздо более монетаристской и гораздо более приемлемой для МВФ, чем то, что предпринимали предшествующие правительства, – может вполне привести к возвращению правых. «Вернувшиеся левые» – вспомним коммунистов в России – так же способны к националистической политике, как и правые, если эти ярлыки вообще что-либо значат, в чем приходится сомневаться. У национализма не было фиксированного места в политическом спектре в те времена, когда еще имело смысл говорить о наличии такового. Сегодня же национализм локализован в еще меньшей степени.]. Особенно поразительной была неудача националистического лозунга, призывающего к необходимости защиты соплеменников, которые являются гражданами и жителями других государств. Хроническим источником крушения планов политических элит Венгрии являлось то, что рядовой венгр очень мало знает о судьбе соплеменников в Румынии, Словакии, в разрушенной Югославии или на Украине и еще меньше озабочен их судьбой. Рядовому венгру совсем не нравится, что венгерское правительство должно тратить «наши» деньги на «них» и что «они» приезжают в Венгрию и забирают «наши» рабочие места. «Их», безусловно, не признают за своих, и самое красноречивое свидетельство тому – то, что венгров, приезжающих на работу из Трансильвании, постоянно называют «румынами»[75 - Это не является, разумеется, венгерской спецификой: немцев, переселившихся из Казахстана в Германию, называют русскими, подобно тем российским или советским евреям, которые переселяются в Израиль.]. Похожим образом, неудачей окончились все попытки российских политиков организовать массовую поддержку русских, оставшихся в ближнем зарубежье. Организация, которая строила свою политическую программу вокруг этой проблемы, Конгресс русских общин, даже не смогла преодолеть пятипроцентный барьер на парламентских выборах 1995 года[76 - Отсутствие успеха на выборах у тех, кто пропагандирует защиту русских за пределами России, не означает, что эта тема исчезнет из российского политического дискурса. Даже если такие призывы и не находят отклика на внутренней арене, они могут с успехом использоваться на арене внешней, международной. Эта тема подробнее рассматривалась в работе: Brubaker R. Op. cit. Гл. 5.].
Второе проблематичное утверждение состоит в том, что если манипуляции элит довели Югославию до этнонационального варварства, то это может произойти и в других регионах. Я уже подверг критике верность заключения этого силлогизма, утверждая, что крупномасштабное насилие вряд ли случится между венграми и румынами в Трансильвании, невзирая на межэтническую напряженность. Теперь я хотел бы обратиться к посылке и рассмотреть ее.
Разумеется, манипуляции элит были важным элементом в развертывании югославской катастрофы. Тем не менее данный тезис не может определить те особые условия, которые обеспечили восприимчивость ключевых сегментов югославского населения к подобным манипуляциям в момент начала распада государства. В более широком смысле, он не объясняет, от чего зависит успешность мобилизирующих усилий элит, чрезмерно преувеличивая при этом силу и уровень этнических конфликтов. В югославском случае целый ряд особых факторов может помочь объяснить, почему люди оказались восприимчивы к циничным манипуляциям Белграда[77 - Для более детального обсуждения вопроса см.: Ibid. Р. 72 ff.]. Среди этих факторов – массовое межобщинное насилие времен Второй мировой войны; рассказы об этом насилии, которые, не будучи обсуждаемыми открыто, циркулировали в семьях, особенно в некоторых ключевых районах, таких, как населенная сербами Хорватская Крайна; страх, что это насилие повторится в условиях стремительного изменения системы контроля над средствами государственного насилия, в особенности когда контроль в Хорватии переходил в руки режима, который по меньшей мере неосторожно принял символы, ассоциировавшиеся для сербов с преступным режимом усташей времен войны. Разумеется, политики дают неверную картину прошлого. Но подобные картины резонировали в сознании югославского населения так, как нигде больше (за возможным исключением армяно-азербайджанского конфликта). И эти вариации в условиях восприимчивости к побуждающим призывам остаются вне теоретических объяснений концепции манипуляции элит.
Третье проблематичное утверждение, связанное с этой концепцией, состоит в том, что она понимает национализм как политику интереса, а не как политику идентичности и поэтому считает, что национализм необходимо объяснять в терминах инструментальности, фокусируясь на расчетах циничных оппортунистических элит, а не на исконных национальных идентичностях. Мы же в принципе не должны выбирать между инструментальным подходом и подходом, основанным на идентичности. Ошибочность этого противопоставления становится очевидной, если мы обратим внимание на когнитивное измерение национализма. С когнитивной точки зрения национализм – это способ видения мира, способ идентификации интересов или, еще точнее, способ определения единиц-носителей интереса или единиц, в отталкивании от которых происходит формулирование интересов. Национализм предоставляет модель видения и разделения мира, говоря словами Пьера Бурдье, модель социального учета и отчета. Таким образом, национализм внутренне связывает интерес и идентичность путем идентификации того, как мы должны определять свои интересы.
Разумеется, «интересы» лежат в центре националистической политики, в центре любой политики, в центре социальной жизни вообще. Ошибочность тезиса о манипуляции со стороны элит состоит не в том, что этот тезис не замечает интересов, а в том, что он слишком узко их понимает, фокусируясь в основном на расчетливом преследовании собственных интересов (прежде всего интересов политиков в приобретении и удержании власти). Считая подобное преследование интересов естественным и игнорируя более широкий вопрос о конституировании интересов, в частности вопрос о том, каким образом конституируются и идентифицируются общности, способные выступать носителями интересов (в особенности «нации», «этнические группы» и «классы»), сторонники тезиса о манипуляции со стороны элит слишком сужают поле исследования. Дискурс элит часто играет важную роль в конституировании интересов, однако же политические и культурные элиты не могут делать это по собственной воле, посредством применения пары манипулятивных трюков. Идентификация и конституирование интересов – в национальных или иных терминах – является сложным и многосторонним процессом, который не может быть сведен только лишь к манипуляции со стороны элит.
5
Пятое положение, которое я хотел бы разобрать, заключается в том «группизме», который до сих пор превалирует в изучении национализма и этничности. Под «группизмом», или, как я его еще называю, «реализмом группы», я понимаю социальную онтологию группы, которая приводит к пониманию этнических групп и наций как реальных сущностей, как субстанциальных, продолжающихся во времени, внутренне гомогенных и внешне отграниченных коллективов.
Похожий «реализм группы» в течение долгого времени господствовал во многих отраслях социологии и родственных ей дисциплин[78 - Этот аргумент берет свое начало (а также аргумент, развитый в следующем абзаце) и представлен в полном виде в работе: Ibid. Гл. I, особенно с. 13 и след.]. И тем не менее в последнее десятилетие совместное влияние по меньшей мере четырех различных тенденций подрывало представление о группах как о реальных субстанциальных сущностях. Первой тенденцией был рост интереса к феномену социальных сетей, расцвет теории «сети» и все увеличивающееся использовании термина «сеть» в качестве обобщающего и ориентирующего образа или метафоры в социальной теории. Второй тенденцией стала теория «рационального действия» с ее неустанным методологическим индивидуализмом, которая существенно подрывала реалистическое понимание группы. Третьим элементом явился переход от широкой структуралистской теории к ряду более конструктивистских позиций; если первый подход считал группы длящимися компонентами социальной структуры, то второй подчеркивал сконструированность, случайность и текучесть групп. Наконец, возникающая постмодернистская методология подчеркивает фрагментарность, эфемерность и эрозию фиксированных форм и ясных границ. Эти четыре тенденции различны, даже взаимно противоречивы. Но они сыграли совместную роль в проблематизации группы и в подрыве значения аксиомы стабильности группового бытия.
И все же уход от «реализма группы» в социальных науках был неравномерным. Особенно сильно он проявился в исследованиях класса, в частности рабочего класса. Термин «рабочий класс» невозможно сегодня использовать без кавычек или какого-либо другого дистанцирующего референта. И действительно, рабочий класс, понимаемый как реальная сущность или субстанциальное сообщество, сегодня растворился как объект анализа. В размывании этого понятия сыграли роль теоретические работы и детальные эмпирические исследования в области социальной истории, истории труда и повседневных представлений, а также социально-политической мобилизации. Исследование класса как культурной и политической идиомы, как способа существования конфликта, абстрактного измерения экономической структуры остается жизненно важным; но подобное исследование более не сопровождается пониманием класса как реальной, длящейся сущности.
В то же время понимание этнических групп и наций как реальных сущностей продолжает вдохновлять исследования в области этничности, национальности и национализма. В разговорной речи и в письменных текстах мы обычно «овеществляем» этнические и национальные группы, говоря о «сербах», «хорватах», «эстонцах», «русских», «венграх», «румынах», как если бы они были внутренне гомогенными и внешне отграниченными группами, в некотором смысле даже унитарными действующими лицами с общими целями. Мы представляем себе социальный и культурный мир в образах, напоминающих полотно Модильяни, как многоцветную мозаику, состоящую из одноцветных этнических или культурных блоков.
Хотелось бы остановиться на этом образе социального мира а-ля Модильяни. Я заимствую эту метафору у Геллнера. В конце своей книги «Нации и национализм» Геллнер прибегает к контрастирующим стилям письма двух художников – Кокошки и Модильяни (линии и переходы цвета и света – в первом случае, четкие, остро прорисованные цветовые блоки – во втором), чтобы охарактеризовать переход от культурного ландшафта донационального аграрного общества к культурному ландшафту общества индустриального, национально и культурно гомогенизированного[79 - Gellner E. Op. cit. Oxford, 1983. P. 139–140.].
Этот образ очень ярок, но, как мне кажется, он вводит в заблуждение. По сути, есть две версии «аргумента модильянизации». Первая – в том числе версия самого Геллнера – национальногосударственная. Ее аргумент состоит в том, что культура и политая постепенно смешиваются друг с другом. Геллнер был мастером сжатых характеристик громадных трансформаций всемирно-исторического масштаба. Без сомнения, в очень широкой исторической перспективе можно говорить о существенной культурной гомогенизации политий и о последующем совпадении культурных и политических границ. Тем не менее есть две трудности с подходом Геллнера.
Во-первых, упор, который делал Геллнер на гомогенизации, функционально требовавшейся для развития индустриального общества, как мне представляется, серьезно смещает смысл аргумента. Геллнер чрезмерно подчеркивает степень культурной гомогенизации, которая «требуется» для индустриального общества; обходит проблемы, которые ставит функционалистский анализ (заметить, что что-либо может «потребоваться» или может «быть полезным» для чего-либо, не значит объяснить происхождение феномена; нет механизма, который гарантировал бы, что «требуемое» произойдет на самом деле); уделяет мало внимания гомогенизирующему давлению межгосударственного соревнования, массового военного призыва и массового и национально ориентированного общего образования в классический век гражданской массовой армии. Все это, на мой взгляд, воздействия более мощные, чем те, которые были вызваны промышленным производством как таковым[80 - Геллнер, разумеется, уделял серьезное внимание образованию (см.: Ibid. Р. 3). Но он считал, что массовое «экзообразование» возникает по логике индустриального общества, а не по логике межгосударственного соревнования в век массовой войны.].
Во-вторых, Геллнер не уточнил, работают ли до сих пор гомогенизирующие силы индустриального общества или позднее индустриальное общество уже более не является гомогенизирующим. Ответ на этот вопрос должен быть дифференцированным. В некотором смысле, например, в распространении единой глобальной материальной культуры и диспозиций, с ней связанных, мощные гомогенизирующие силы все еще действуют. В других аспектах дело обстоит иначе. Например, сама логика постиндустриального общества создает давление, вынуждающее импортировать массы иммигрантского труда, что, в свою очередь, воссоздает культурную модель, напоминающую стиль Кокошки.
Тем не менее кажется бесспорным, что гомогенизирующие силы, созданные межгосударственным соревнованием в классический век массовой гражданской армии, достигли своего апогея (по меньшей мере в развитом индустриальном мире) в конце XIX – начале XX века. Я бы назвал его моментом а-ля Модильяни в максимуме: это был апогей гражданской армии, «нации, призванной к оружию», период распространения в высшей степени ассимиляционных, гомогенизирующих школьных систем, связанных, по стилю и идеологии, с гражданскими массовыми армиями. Это также был момент, когда звучали претензии национальных государств на абсолютный внутренний суверенитет, претензии, которые легитимизировали попытки «национализировать» территории этих государств «по собственной воле», порою жестоко. Когда этот момент а-ля Модильяни в максимуме прошел, произошло некоторое ослабление гомогенизирующих претензий, желаний и практик государств, по меньшей мере в тех регионах земного шара (наиболее яркий пример – Западная Европа), где государства освободились от необходимости участвовать в жесточайшем геополитическом и потенциально военном соревновании друг с другом.
Однако классическая, национально-государственная версия аргумента «карты Модильяни» сегодня не является превалирующей. Более или менее общепризнано, что культура и полития не совпадают и не смешиваются, что практически все существующие политии в некотором смысле «поликультурны» (multicultural). И все же поликультурные ландшафты поздней современности сами обычно описываются в терминах а-ля Модильяни, т. е. в образе противостоящих, четко очерченных монохромных блоков. Я утверждаю, что эта новейшая, постнациональная (или, что более точно, постнационально-государственная) версия карты Модильяни является настолько же проблематичной, насколько проблематичной являлась старая, классическая национально-государственная версия.
Можно предположить, что смешанные модели расселения, характеризующие большинство современных поликультурных государств, будут оказывать сопротивление репрезентациям а-ля Модильяни. Согласно этой логике, вызванная иммиграцией этническая гетерогенность, подобная той, что существует в США, должна особенно остро противостоять этим репрезентациям, так же как и тесно перемешанные этнодемографические ландшафты Восточной Европы (в особенности Восточной Центральной Европы), поскольку это locus classicus этнически и национально смешанного заселения.
Однако подобный ход мысли ошибочно оценивает природу и риторическую мощь карты Модильяни. Пространственный аспект этой репрезентации – вид протяженных и однородных блоков, расположенных один подле другого, а не взаимопроникающих – не должен интерпретироваться буквально; вовсе не обязательно, что это соответствует пространственным характеристикам того, что репрезентируется. Представленная в стиле Модильяни гетерогенность как противопоставление однородных блоков не означает, что эти блоки территориально локализованы. Они могут быть перемешаны в пространстве, поскольку их «отдельность» – ограниченность и внутренняя однородность – концептуально находится не в физическом пространстве, а в социальном и культурном[81 - Тем не менее даже смешанные модели заселения часто представляются в образах мозаики, как составленные из ограниченных, внутренне гомогенных блоков. «Гетерогенность», при таком способе воображения, – это всего лишь распределение гомогенных единиц. Гетерогенность все еще концептуализируется в группистских терминах. Иногда этому можно найти буквальное подтверждение в картах «этнической неоднородности», где эта неоднородность и смешение представлены в виде противопоставленных цветовых полей. Как представить этническую неоднородность на двухмерной карте, является непростым и с философской точки зрения интересным вопросом. В любом случае ясно, что простое противопоставление густых цветовых полей вводит в заблуждение, поскольку предполагает большую степень местной однородности, чем на самом деле существует, и поскольку относит гетерогенность и различие на уровень более высокой единицы. Например, подобные карты предполагают, что провинции отличаются друг от друга, а деревни или регионы – нет. Подобное предположение часто вводит в заблуждение.]. Но наша концептуальная карта остается группоориентированной; на ней все еще изображается население, состоящее из определенных и определяемых, ограниченных, внутренне гомогенных блоков (например, афроамериканцы, коренные американцы, латинос, американцы азиатского происхождения и евроамериканцы, согласно «пентагональной» мультикультуралистской схеме Америки)[82 - По поводу критического обсуждения концепций этого мультикультуралистского пятиугольника см.: Hollinger D. Post-Ethnic America. N.Y., 1995; Lind М. The Next American Nation. N.Y., 1995.]. Предполагаемый, если и не явный, образ общества состоит в изображении внутренне гомогенных, внешне резко очерченных, хотя и не обязательно территориально локализованных этнокультурных блоков.
Факт всепроникающего территориального смешения сам по себе еще не противоречит представлениям об этнокультурной гетерогенности а-ля Модильяни. Для того чтобы оспорить карту Модильяни, необходимо подвергнуть прямому сомнению групповую социальную онтологию, на которой основывается эта карта. На ней же основывается большинство дискуссий о мультикультурализме в Северной Америке и, разумеется, большинство работ о национализме и этничности по всему миру. На сегодняшний день имеется обширная и серьезная литература, которую можно призвать в союзники для подтверждения обоснованности подобных сомнений. Более того, как я уже отмечал выше, целый ряд тенденций в социальной теории последних десятилетий ставит под сомнение представления о существовании устойчивой и четко отграниченной «группности». И тем не менее эти существенные теоретические и эмпирические ресурсы серьезно не задели группизм, который продолжает превалировать и даже усиливается в последнее время в теоретических и практических дебатах о национализме и этничности. Это присутствие группизма, веры в «онтологию группы» поддерживается объединенными силами группистского обыденного языка, местными научными традициями (в особенности в области изучения рас, этничности, конкретных регионов), а сейчас и быстро распространяющейся дисциплиной изучения национализма. Этот группизм также поддерживают институциализация и кодификация групп и групповых идентичностей в общественной и политической сферах и усилия политических активистов от этнополитики по созданию и упрочению групп.
В Восточной Европе те силы, которые поддерживают и усиливают групповую социальную онтологию и группистский социальный анализ, являются более мощными, чем в Северной Америке. Институциализация и кодификация этнических и национальных групп, как было отмечено выше, зашла в коммунистических многонациональных государствах гораздо дальше, чем в Северной Америке. Более того, в Восточной Европе слабее представлены исследовательские традиции и интеллектуальные школы – от теории рационального выбора и анализа социальных сетей до конструктивизма и постмодернистской артикуляции переходного и фрагментарного в социальной жизни – чей вклад там много дал для переосмысления феномена «группности». Что еще более важно, в Восточной Европе нет индивидуалистических традиций Северной Америки, прежде всего фундаментально волюнтаристских концепций группности, которые берут свое начало в сектантском протестантизме, но ответвления которых видны повсюду в социальной и политической жизни, особенно в Соединенных Штатах.
Более того, можно утверждать, что превалирующий группистский язык социального анализа в Восточной Европе вполне удачно описывает этнонациональный ландшафт региона. В конце концов, в этом регионе долгое время существовало явное противоречие между границами национальными, упорно поддерживавшимися внутри государств и против государств, и государственными. Этот регион являлся locus classicus глубоко устоявшихся, неподатливых и относительно стабильных этнонациональных границ, соответствовавшим в большей части региона лингвистическим, а не политическим линиям раздела. Те самые силы, которые очевидно препятствовали конвергенции государственности и культуры в регионе, давая возможность этнонациональным группам поддерживать линии раздела, перерезавшие политические границы, могли бы свидетельствовать в пользу представлений а-ля Модильяни.
И действительно, в регионе встречаются впечатляющие примеры поддержания «группности», в частности примеры поддержания границ групп и групповых идентичностей вопреки гомогенизирующим, ассимиляционным устремлениям и практикам национализирующихся государств. Один из таких ярких примеров – поляки в Восточной Пруссии в конце XIX – начале XX века. Тем не менее, основываясь на этом примере, нельзя делать обобщения в масштабах всего региона. Более того, логику этого примера нельзя распространять на другие ситуации с поляками и немцами. В иных случаях границы и рубежи между поляками и немцами оказывались слабыми и неустойчивыми, и существенная ассимиляция происходила в обоих направлениях. Поддержание и усиление национальных рамок в этом случае нужно рассматривать как сложившееся под воздействием определенных сил и факторов в конкретных обстоятельствах, а не как результат качеств, имманентных полякам как таковым. В приведенном выше примере усиление «группности» произошло в виде динамичного, интерактивного и организованного ответа на вызов поспешных ассимиляторских практик германского государства и включало в себя высоко развитое сельскохозяйственное кооперативное движение, кредитные ассоциации, организации по закупке земли, школьные забастовки и мощную поддержку со стороны католической церкви. Это усиление группы поддерживалось мощной базой в лице католической церкви (откуда следует религиозная и этнолингвистическая эндогамия) в регионе, где лингвистические и религиозные границы часто совпадали (в тех районах, где немцы-католики вступали в отношения с поляками, национальные границы были гораздо слабее). «Группность», таким образом, была результатом политики и коллективного действия, а вовсе не их источником[83 - Cм. общую дискуссию по этому вопросу: Calhoun С. The Problem of Identity in Collective Action // Macro-Micro Linkages in Sociology / Ed. by J. Hubert. Newbury Park, 1991. P. 59.].
В других случаях границы оказывались гораздо слабее. Возьмем, к примеру, Украину периода последних лет существования СССР и первых лет после его распада. Как уже было отмечено выше, советский режим повсюду институциализировал национальность как фундаментальную социальную категорию. Ключевым выражением (и инструментом) этой институциализированной схемы являлась перепись, которая отмечала самоидентифицируемую этнокультурную национальность каждого человека. Во время переписи 1989 года около 11,4 миллиона жителей Украины определяли свою национальность как «русский». Но точность, которая является нам в данных переписи, даже при округлении до сотни тысяч, абсолютно обманчива. Сами категории «русский» и «украинец», которые означают предполагаемые и четко обособленные этнокультурные национальности, глубоко проблематичны в контексте Украины, где процент межэтнических браков необычайно высок и где почти два миллиона тех, кто определил свою национальность как «украинец (украинка)» при переписи 1989 года, признались, что не говорят на украинском как на своем родном языке или как на втором языке, которым владеют свободно. Поэтому следует скептически отнестись к иллюзии сплоченной и отграниченной группы, сотворенной переписью с ее всеохватывающими и взаимоисключающими категориями. Можно представить себе условия, при которых осознающее свою отдельность этнически русское меньшинство может возникнуть в Украине, но такая «группа» не может считаться данной или быть выведенной из результатов переписи[84 - Данные по национальности и языку приведены по изд.: Национальный состав населения СССР / Госкомстат СССР. М., 1991. С. 78–79.].
Граница между венграми и румынами в Трансильвании безусловно более четкая, чем между украинцами и русскими в Украине. Тем не менее даже в Трансильвании групповые границы гораздо более пористы и нестабильны, чем это обычно предполагается. Разумеется, язык повседневной жизни чрезвычайно категоричен. Он делит население согласно взаимоисключающим этнонациональным категориям, не допуская поправок на смешанные или неоднозначные формы. Но этот категорический код, важный в качестве основоопределяющего элемента социальных отношений, не может считаться верным и точным описанием этих отношений. Усиливаемый и воспроизводимый этнополитическими активистами с обеих сторон, этот категорический код в равной степени и раскрывает, и затемняет характер этнонациональной идентификации, скрывая текучесть и двусмысленность, которые возникают при межэтнических браках, в случаях двуязычия, при миграции, в ситуациях, когда венгерские дети ходят в румыноязычные школы или когда происходит ассимиляция (в обоих направлениях), связанная со сменой поколений, не говоря уже о таком простом случае, как обыкновенное равнодушие людей к притязаниям на этнокультурную национальность.
«Группность» и «сплоченность» должны, таким образом, рассматриваться как вариативные характеристики, как возникающие качества определенных структурных или конъюнктурных ситуаций; они не могут без должного основания рассматриваться как аксиоматичные или данные. Сравнительные исследования в области этничности и национализма дают этому тезису массу подтверждений, но сам тезис остается сравнительно мало оцененным вне этой специализированной исследовательской традиции. Сегодня этот тезис следует отметить особо, поскольку спонтанный группистский язык, господствующий в обыденной жизни, журналистике, политике и социальном анализе, язык, состоящий отчасти в привычке говорить в неопределенной форме о «румынах» или «венграх», как если бы они и вправду были внутренне гомогенными и внешне отграниченными группами, не только ослабляет социальный анализ, но и подрывает возможности либеральной политики в регионе.
6
Последняя идея, которую мне хотелось бы обсудить, – это манихейская теория того, что существует два типа национализма: хороший (гражданский) и плохой (этнический). Им соответствуют две концепции нации: хорошая, или гражданская, в логике которой национальная рамка считается соположенной общему гражданству, и плохая, или этническая, согласно которой национальная рамка основывается на этнической общности. Подобное деление часто связано с ориенталистской концепцией восточноевропейского национализма, поскольку в общем считается, что гражданский национализм характерен для Западной Европы, а этнический – для Восточной. Но различие между этническим и гражданским типами национализма часто можно встретить и внутри регионов – оно используется, нередко в идеологическом модусе, для разграничения между собственным, легитимным гражданским национализмом и нелегитимным этническим национализмом соседей. В научном или квазинаучном модусе эта оппозиция характеризует различные формы национализма и типы национального самосознания. Сегодня именно это различие является смыслообразующим в дебатах о новых государствах Восточной Европы и бывшего СССР и о процессах государственного и национального строительства в регионе. Оно предлагает удобное (даже слишком удобное, на мой взгляд) средство для классификации зачаточных процессов государственного или национального строительства в качестве этнических или гражданских.
Называя эту теорию манихейской, я изображаю ее, безусловно, в карикатурном виде, но не чрезмерно. Различие между этническим и гражданским национализмами, безусловно, имеет свои положительные аналитические и нормативные стороны (во всяком случае, более нюансированные формы этого различия). Я сам использовал схожее (хотя и не идентичное) различие между этнокультурным и государствоцентричным пониманием рамки национального сообщества в своей предыдущей работе[85 - Brubaker R. Citizenship and Nationhood in France and Germany. Cambridge, 1992.]. Тем не менее я считаю, что деление национализмов на этнические и гражданские, особенно в той упрощенной форме, в какой это деление обычно представляют, является проблематичным как в аналитическом, так и в нормативном смысле[86 - Yack B. The Myth of the Civic Nation // Critical Review. Vol. 10 (1996). Статья содержит критику дихотомии гражданского и этнического с точки зрения политической теории.].
Один из способов указать на аналитическую слабость этого манихейского взгляда состоит в том, чтобы отметить двусмысленность и неуверенность в концептуализации культурного измерения национальности и национализма. Грубо говоря, есть два способа наложения культурных параметров на схему разделения этнического и гражданского национализмов.
1. С одной стороны, этнический национализм можно толковать очень узко, подчеркивая его сфокусированность на происхождении и, в конечном итоге, на расе, на биологии. В таком случае мы найдем слишком мало этнических национализмов, так как, в рамках этого подхода, подчеркивание общей культуры (без отчетливого упоминания общего происхождения) должно считаться видом гражданского национализма. Но тогда категория гражданского национализма становится слишком гетерогенной, а категория этнического национализма теряет всякий смысл применительно к реальности (у нее не остается примеров), и использование этих терминов вообще становится невозможным.
2. С другой стороны, этнический национализм можно, наоборот, толковать слишком широко, как этнокультурный, а гражданский, будучи истолкованный узко, будет предполагать культурно-дистанцированную концепцию гражданства и строгое разграничение между гражданством, с одной стороны, и этнической и культурной национальностью – с другой. Но тогда мы имеем проблему, прямо противоположную той, что возникла у нас в первом случае: гражданский национализм стремительно теряет реальные очертания (т. е. невозможно будет вообще говорить о его существовании) и практически все виды национализма нужно будет определять как этнические или культурные. Даже парадигматические случаи гражданского национализма, такие как во Франции или Америке, перестают быть гражданскими, поскольку имеют решающий культурный компонент. (Любопытно, что две недавние работы утверждают существование американской культурной национальности: ее рамка, согласно этим исследованиям, – не просто политическая, основанная на идее, но культурная; Америка – это национальное государство, основанное на общей и обособленной американской культуре[87 - См.: Hollinger D. Post-Ethnic America. N.Y., 1995; Lind M. The Next American Nation. N.Y., 1995.].)