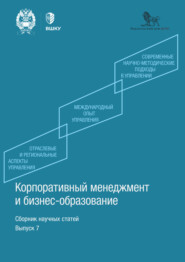По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Музей как лицо эпохи. Сборник статей и интервью, опубликованных в научно-популярном журнале «Знание – сила»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Иван Фёдоров имел тесные связи с просвещенными людьми Европы. В частности, в Дрезденском архиве найдена переписка русского первопечатника с саксонским курфюрстом Августом. Во время работы во Львове он изобрел разборную пушку и занимался усовершенствованием ручных бомбард. В поисках заказчика Иван Фёдоров ездил из Львова в Краков и Вену, где встречался с императором Рудольфом II и демонстрировал ему свое изобретение. Когда по каким-то причинам Рудольф II от условий, выдвинутых Фёдоровым, отказался, тот написал письмо Августу: «…Итак, я владею искусством изготовления складных пушек… каждую без исключения такого рода пушку можно разобрать на отдельные, строго определенные части, а именно на пятьдесят, сто и даже, если потребуется, на двести частей…» Об изобретении в письме говорится неясно, можно лишь судить, что это была многоствольная мортира с взаимозаменяемыми частями.
К сожалению, биографические сведения о русском первопечатнике весьма отрывочны, точно не известно место его рождения, лишь приблизительно историки могут назвать и дату – около 1520 года. Она возникла из косвенно подтверждаемого древними источниками предположения, что во время организации типографии ему было приблизительно от 30 до 40 лет. Многие исследователи сходятся в том, что происходит он из новгородских мастеров рукописной книги и в Москву приехал с митрополитом Макарием, в окружении которого находился в конце 1530–1540-х годах. Известно, что Фёдоров был женат и имел детей, которых вывез из Москвы, когда перебирался в Литовское княжество.
Еще меньше мы знаем о Петре Тимофееве Мстиславце. Прозвище позволяет предположить, что он родился в белорусском городе Мстиславе, но в точности это не известно. Первое документальное известие о помощнике Фёдорова относится ко времени их совместной работы в Москве над «Апостолом» в 1564 году. В 1566 году Иван Фёдоров и Петр Мстиславец вместе оставили Москву, передав дело книгопечатания ученикам Никифору Тарасиеву и Андронику Тимофееву Невеже.
По одной версии, это было обусловлено гонением ортодоксальной верхушки церкви, по другой – они уехали по приглашению гетмана Григория Александровича Ходкевича, пригласившего московских типографов в свое имение в небольшом белорусском местечке Заблудове.
Шрифт, гравированные доски и другие нужные инструменты, как известно, печатники привезли из Москвы, типографский стан по указаниям Фёдорова изготовили местные плотники, и в июле 1568 года на западе Белоруссии открылась новая типография. За два года ее существования Фёдоровым и Мстиславцем были изданы «Учительное Евангелие» и «Псалтырь» с «Часословцем». В предисловии к последней книге, вышедшей в 1570 году, гетман Ходкевич обещал финансировать славянское книгоиздательство, но «Псалтырь» оказалась последней книгой заблудовской типографии, вскоре после выхода издания в свет 23 марта 1570 года она прекратила свою деятельность. По словам Ивана Фёдорова, основной причиной закрытия типографии была старость гетмана.
Друг и соратник первопечатника Петр Тимофеев Мстиславец перебрался в Вильну и здесь на средства богатых купцов Мамоничей основал новую типографию. А сам Фёдоров, собрав типографские инструменты, шрифты и нехитрые пожитки, отправился во Львов.
Львовские зимы
Путешествие осложнила эпидемия моровой язвы, свирепствовавшая до 1572 года, и во Львов Фёдоров прибыл в 1572 году, накануне зимы. Для основания новой типографии нужны были немалые средства, и он обратился за помощью к зажиточным горожанам. Но безрезультатно, те были заняты восстановлением своих домов после пожара 1571 года и тратить деньги на друкарскую затею не хотели. Не до типографии было и церкви – Львовская православная иерархия в ту пору жила конфликтом между Гедеоном Балабаном и Иваном Лопаткой-Осталовским, претендовавшими на епископское достоинство.
Поддержку печатник нашел лишь у ремесленников, не столь богатых, как церковь, но все же достаточно зажиточных, чтобы ссудить необходимую сумму. В документах тех лет сохранилось имя одного из них – Семен Седляр. В 1573 году он дал в долг Фёдорову 700 злотых, сумму по тем временам немалую. Однако типограф столкнулся с новой проблемой – суровыми цеховыми законами. Чтобы начать работу, нужен был столяр, который изготовил бы типографский стан, наборные кассы, ящики для хранения шрифта. Но взять на службу его было нельзя – это запрещалось цехом столяров. Пытаясь решить вопрос, печатник обратился в Городской совет, где 26 января 1573 года его жалоба была отклонена. Совет поддержал цеховых старшин, разрешив, однако, обратиться в цех и нанять там ремесленника для выполнения необходимых работ, но… с дозволения стоящего над ним мастера. В таком дозволении Фёдорову было отказано. Тогда совет обратился за консультацией к Краковским типографам Матвею Зибенайхеру и Миколе Пренжине.
Ответ на запрос пришел 31 января 1573 года. Зибенайхер и Пренжина сообщали, что «в городе Кракове книгопечатники не держат в своих домах подмастерий столярного мастерства». Если же кому из них понадобится столяр, они обращаются к цехмейстеру и за плату получают работника. Ответ удовлетворил Ивана Фёдорова, но цех по-прежнему отказался дать столяра.
О том, как, в конце концов, разрешилось дело, сведений нет. Но выход, похоже, был найден, так как 15 февраля 1574 года увидел свет знаменитый львовский «Апостол».
Новая, четвертая по счету, типография была основана Иваном Фёдоровым в родовом имении киевского воеводы князя Константина Константиновича Острожского. Здесь им были выпущены пять изданий. В числе их «Хронология» (1581) – первый печатный календарь-листовка на двух страницах, составленный приближенным князя Радзивилла белорусским поэтом Андреем Рымшей, и, главное, замечательный памятник мирового типографского искусства – «Острожская Библия» (1580–1581). К этому изданию восходит тот славянский библейский текст, который существует в современных изданиях. Этот гигантский труд занимал 1256 страниц. Фёдоров и его помощники использовали не только греческий, но и еврейский текст Ветхого Завета, а также чешский и польский переводы. Окончание этого гигантского труда совпало с охлаждением Константина Острожского к издательской деятельности, и первопечатнику снова пришлось искать средства для продолжения дела его жизни. Так было решено снова ехать во Львов.
Это город однажды уже встретил Фёдорова неприветливо. На сей раз львовская зима оказалась роковой. По дороге он заболел, и через три месяца, 6 декабря 1583 года, скончался в одном из предместий Львова, которое называется Подзамче. Умер в бедности, не имея средств, чтобы выкупить заложенное ростовщику типографское имущество и отпечатанные книги. Похоронили первопечатника на кладбище при храме святого Онуфрия, принадлежавшего Львовскому православному братству, поставив на могиле надгробный камень с надписью: «Друкарь книг, пред тым невиданных».
Всего в XVI веке на территории Московского государства было выпущено 19 изданий, средний тираж каждого из которых составлял 1000–1200 экземпляров.
В XVII веке типография была переведена в Кремль, в Дворцовую Набережную палату. С этого времени начинается новый этап в деятельности Печатного двора, игравшего главную роль в развитии политической и историко-культурной жизни страны.
«ЗНАНИЕ – СИЛА» № 11/2016
Нина Молева. Клавесины в теремах
Мостовые деньги
Семнадцатый век. Слишком близкий, чтобы им занялись археологи, слишком далекий, чтобы сохраниться без наслоений и перемен. Время перед Петром и после Ивана Грозного, от опричнины до «потешных», от монастырской непреклонности средневековых нравов до богохульных пиршеств Всешутейшего собора. Между – Борис Годунов (жертва клеветы? Незадачливый убийца?), Дмитрий Самозванец (чудом уцелевший сын Грозного? Безвестный Гришка Отрепьев?), красавица Марина Мнишек. Смутное время, так назвала его история, отчеркнутое выступлением ополчения Минина и Пожарского. И сразу за ними затишное благолепие дома Романовых, «смиренных духом», «тишайших», взорванное рванувшейся к престолу Софьей.
События, подвиги, характеры, страсти… Так случилось, что лучшие памятники созданы этому веку в позднейшем искусстве: пушкинский «Борис Годунов», «Минин и Пожарский» на Красной площади, музыкальные драмы Мусоргского. В них – приговор, талантливый и убежденный, и с приговором этим не спорят историки. Да, впереди – реформы, перестройка всего: от человеческого сознания до мебели и посуды. Это все впереди, а пока медленно проходит целое столетие. Не в бурном произрастании нового, наоборот – в западающих сумерках фанатизма, судорожной привязанности к прошлому, неверия в перемены. Какому же исследователю улыбнется цель – показать, как сгущается перед рассветом тьма? «Ваша специальность – семнадцатый век? – Что вы! Шестнадцатый (или восемнадцатый)!» И в торопливости ответа, и в обиженной интонации – устоявшаяся традиция историков искусства, музыки, театра, культуры.
И в самом деле, разве что-то важнее происходит в это время в искусстве; уже не иконопись – так, по большому счету, еще не живопись – лишь робкие попытки научиться ей. Уже не монументальная простота храмов XVI столетия, еще не барокко петровских лет. Так, пестрядь дробных, суматошных деталей, кирпичных орнаментов, майолики, слишком ярких росписей. Уже не гудки и гусли Древней Руси, еще не музыкальные инструменты наших дней, знакомые всей Европе.
К тому же это время заперто за десятью замками. Случайно, мимоходом в семнадцатый век не заглянешь. Глаз, испытанный на всем многообразии почерков позднейших столетий, бессилен перед щеголеватой скорописью XVII века. Написание многих букв, «титлы» – сокращения. Будто новый, совсем незнакомый язык. Нужны месяцы, даже годы, чтобы овладеть искусством бегло читать и переводить. Без этого какая работа, ведь для историка она всегда в архиве.
Предубеждения относительно XVII века были мне хорошо знакомы со студенческой скамьи, а повседневная работа не давала повода в них сомневаться. И уж тем более таким поводом не могла служить извлеченная из Центрального архива древних актов перепись «Мостовых денег» Москвы за 1718 год. Каждый москвич платил особые деньги за городские мостовые – бревенчатые, чаще досчатые островки, тонувшие в непролазной грязи широко разъезженных улиц. Кто жил в городе, чем занимался – все там есть: трудно себе представить более обстоятельный рассказ о Москве, сумей только его сложить.
Василий Иванов сын Репьев, профессия: органист
Мастер назывался Репьевым – Василий Иванов сын Репьев. Перепись говорила, что он был живописцем и занимался «преоспехтирным делом» – писал декорации для театра и для садов. О театре тех лет мы знаем мало, о садах и вовсе ничего. Известно только, что требовали сады «перспектив» – изображенных на холсте павильонов, аллей, замысловатых беседок, скульптур. Вот этим-то редким ремеслом владел художник, случайно встреченный мной в переписи «Мостовых денег».
Вероятно, мастерство Репьева ценилось, иначе откуда бы появиться у мастера двору «в Белом городе Покровской сотни на тяглой земле, идучи от Покровских ворот в город на левой стороне». Свои грядки с капустой, огурцами, луком, делянки ржи и овса, свой хлев со скотиной, своя банька, амбар, сарай, погреба, все вокруг дома, за глухим частоколом бревен – обычное хозяйство москвича. Благополучие художника было прочным, устоявшимся. Переписи рассказывали об этом год за годом. Но говорили они и о другой, совершенно поразительной вещи! Оказывается, Репьев к тому же играл на органе, и этим тоже зарабатывал себе на жизнь.
Орган? Да может ли это быть? Московская консерватория, филармония в Ленинграде, Зал Чайковского, – даже сейчас знаешь все инструменты наперечет, всегда в концертных залах, огромных, торжественных. А тогда, среди тягучего перезвона «сорока сороков» московских церквей, когда каменные палаты были редкостью, а стекла в окнах диковинкой, как можно себе представить орган? К тому же Репьев был не дворцовым органистом, а «вольным», игравшим у разных заказчиков. Ничего не скажешь, это было загадочней самого «преоспехтирного дела», которым я тогда занималась.
Но где искать ответа, простой справки наконец? Архив, тем более, архив XVII столетия, не знает указателей – ни тематических, ни предметных, ни именных. Вместе с тем, бюрократическая машина была на полном ходу уже с начала XVII века, захлестывая каждое дело сотнями запросов, справок, отписок. Искать орган было бессмысленно, отдельного и притом никакого не именитого человека, Репьева, – тем более. Правда, была у меня крохотная зацепка: в одной из переписей Репьев назывался «выходцем из Литовских земель». А раз так, должен был им интересоваться Посольский приказ – министерство иностранных дел Древней Руси. Со Смутного времени вел он строжайший учет – кто, когда, где, почему приезжал в Московию или уезжал из нее. Да, сведения о Репьеве встречались, больше того, их мозаика постепенно укладывалась в стройное целое.
Как должны были любить и ценить в Московии пение, чтобы искать певчих с хорошими голосами и за рубежом, и на своих отдаленных окраинах. Этой любви обязан Репьев своим приездом в Москву – его забрал в хор один из высоких церковников. У юных певчих в те годы была вполне сносная жизнь: сытная еда, жалованье, одежонка – когда теплый кафтан, когда телятинные сапоги, когда зимняя шапка, а то и рубаха с портами. Везло маленьким артистам! На Руси еще нет школ, но певчих учат грамоте и цыфири, пению и игре на музыкальных инструментах. Было бы желание учиться! Репьеву досталось изучать латынь, да где-то, кстати, узнал он и «преоспехтирное дело».
Так что найти себе применение, когда «спадал» голос, было нетрудно. Побывав с русским посольством в Курляндии, Репьев начал работать при царском дворе, писал по его собственным словам «перспективы и иные штуки». Но тут-то избыток таланта сыграл с ним злую шутку: на него обратил внимание любимец Алексея Михайловича всесильный Артамон Матвеев, в чьем доме воспитывалась мать Петра.
«Худородный» дворянин, Матвеев начинал в невысоких чинах. Служил он на Украине, потом воевал и из всех своих жизненных перипетий вышел убежденным «западником», а попав в милость к царю, смог и открыто заявить об этом. В московских домах стен не было видно из-за икон, у Матвеева висели картины. Боярыни прятали на дне сундуков укутанные в тряпки – «от сглазу» – зеркала, у Матвеева они украшали палаты. Москва привыкла к лавкам, на них и сидели, и спали, матвеевский дом был полон мягкой мебели. И стол у новоиспеченного боярина ломился, не как у других, от меда и пива, – от заморских вин, а гостей развлекала хорошо обученная труппа крепостных, были свои музыканты. Остались после Матвеева интереснейшие литературные опыты, остались исторические исследования (кто думал о них в XVII веке!). Вот не хватало только в те годы Матвееву хорошего органиста! И молчал украшавший дом большой орган. Репьев оказался находкой. Правда, он не захотел перейти к Матвееву.
Отказ удивил, но никак не остановил властного боярина. «Боярин Артамон Сергеевич Матвеев, – писал после художник, – взял меня поневоле, держал меня скована на Посольском дворе в железах многое время и морил голодною смертью. И будучи у него… многожды на комедиях на органах и на скрипках играл неволею по его воле».
Спору нет, была у Матвеева привычка исполнять каждую свою прихоть, только здесь, оказывается, заторопился он по другой причине. Посольский приказ готовил посольство в далекую Бухару. По особой просьбе бухарского хана везло оно ему орган, а к органу требовался органист. Матвеев опасался, что выбор царя падет на Репьева, а ему хотелось сохранить его для себя, вот и убрал он его с царских глаз – подальше да поскорее.
В Кремле, на откосе Москвы-реки
Итак, судьба Репьева получила объяснение. Но зато все остальное! Почему пришла бухарскому хану мысль просить об органе именно Москву? Выходит, слышал он об органах, слышал и о том, что есть они в Москве. Но откуда? И вот в бумагах Посольского приказа черным по белому написано, что распоряжением Алексея Михайловича орган для хана строился в Москве. Для этого органной мастерской в Москве пришлось быстренько разобраться с другими заказами, а заказы были разные: органы на 270 и на 500 труб, клавесины, большие – для старших царевен, поменьше, «потешные», – для царевича. И не для музыкантов вовсе – сами играли!
Вот и верь привычным представлениям. Спрятанные от посторонних глаз, полуграмотные, тупеющие от безделья и лузганья семечек царевны и боярышни играют на клавесинах. И одно не мешает другому. Грозная царевна Софья – за клавесином.
До чего же все просто! Просто и невероятно! Мастерская органов в нашем Кремле, на откосе Москвы-реки, рядом с мастерскими, где шились пудовые, тонувшие в мехах и дорогих тканях царские одежды, тачались цветные, с щегольски загнутыми носками сафьяновые сапоги, переписывались книги, ковалось оружие, писались иконы. Документы не оставляли места для сомнений: было, все было. И в жизни, той жизни, о которой мы даже не догадывались, одно не противоречило другому, а совмещалось с ним – клавесины и терема.
Бухарский хан знал, кого и о чем просить. Но, оказывается, он был вовсе не первым. В делах Посольского приказа несколькими годами раньше развертывается история первого (не первого ли вообще в истории Азии?) отправленного из России на восток органа. В тот первый раз орган отправляли в Персию. Почти два года потратило посольство, чтобы «вручить» орган и вернуться обратно.
…Уезжали и возвращались посольства, строились новые инструменты, только в жизни «взятого в рабство» Репьева ничего не менялось. Соглашения между ним и боярином так и не состоялось. Художник требовал полного освобождения, и, если все-таки его получил, причина тому была простая – смерть царя. Сменился царь – сменились те, кто толпился у трона. Безвестному музыканту повезло гораздо больше, чем всесильному Артамону Матвееву – он снова стал вольным. Матвеев, лишенный всех богатств, чинов и должностей, был сослан в Пустозерск. Над ним тяготеет обвинение в чернокнижии – колдовстве, связи с нечистой силой.
Из полученного жестокого урока Репьев твердо усвоил одно – надо оставить орган. Это занятие угрожает личной свободе. И в самом деле! Вскоре после освобождения Репьева в Посольский приказ поступает донос «капитана солдацкого строю», что сбежали жившие под его надзором музыканты. Резолюция следует немедленно: «По указу великого государя послать его, государя, погонные грамоты… велеть тех беглых музыкантов, поимав, сковав, привести к Москве с провожатыми с великим береженьем…» «Великое береженье» – и кандалы! Одно не исключало другого. А рядом, на густо пожелтевших, небрежно оторванных листках, спешные отписки воевод из Пскова, Путивля, Севска – что сделано, чтобы задержать беглецов. Без малого погоня за Самозванцем, как рисовалось Пушкину в «Борисе Годунове».
Но Репьев слишком поторопился. С органом что-то случилось. Хотя все шло будто само собой. Из-за смерти Алексея Михайловича прекращаются спектакли. «За ненадобностью» вывозятся из всех кремлевских палат органы. Еще многих органистов поощряют царские награды, но достаточно внимательнее вчитаться в документы: причины наград не связаны с органом. Органных дел мастера это искусные столяры, редкие резчики по дереву и выдающиеся конструкторы. Чего только им не приходилось делать!
И все-таки должна была существовать причина перемен! Документы степенно перечисляли факты, но факты не объясняли сами себя. Может быть, прихоть? Прихоть Алексея Михайловича? Не имевший корней в местной традиции орган исчез после того, как исчез его покровитель?
Московия сама ввезла первые органы на Восток, а откуда они появились у нас? Но как совместить с западной модой изданный именно Алексеем Михайловичем печально известный указ о запрещении в чем бы то ни было подражать иностранцам? Указ гласил, чтобы дворяне «иноземских и иных звычаев не перенимали, волосов у себя на голове не постригали, тако ж платья, кафтанов и шапок с иноземческих образцов не носили и людем своим потому ж носить не велели. А буде кто впредь начнет волосы подстригать, и платье носить и иноземского образца или платье объявится на людех их, и тем от великого государя быть в опале, из вышних чинов писаны будут в нижные чины». Почему для органа, явно чужеземного инструмента, – так думаем мы сейчас, – делал исключение царь? Просто любил? Любил и потому был уязвим только в этом «органном» пункте? Да нет, все оказалось сложнее.
У органа были на Руси корни, настоящие, ветвистые, цепкие, упорно уходившие все глубже к истокам столетия. Архивы сохранили чуть не одни приходно-расходные книги. А в них нет подробностей. Одно слово – бухгалтерия. И все же… Органисты – один, другой, десятый, двадцатый – ведь жалованье надо было платить каждый месяц. И отчитываться в выплаченных деньгах! Свои, местные, – их много и платят им скупо, приезжие из Голландии, Дании, Саксонии – их мало и плата им пощедрее, да и выдается без задержек. Иногда своим удавалось дождаться поощрения, как Лукьяну Патрикееву: он получил пару аршин лучшего сукна за то, что уж очень хорошо играл на царской свадьбе в 1626 году. Но это редкость! Обычно дело обходилось грошами и то по большим праздникам.
Традиция рушится
В науке есть извечный спор – между фактами и традицией. Казалось бы, какой тут конфликт: факты свидетельствуют – традиционной концепции остается уступить. И как же редко и трудно это происходит. Традиция держится стойко, черпая силы в памяти студенческих лет, институтских лекций, школьных уроков, энциклопедических справок. Традиция – это «каждый знает, что…» В моем случае «каждый знал, что» если появился на Руси орган, то из Немецкой слободы в Москве. Считалось, что жили иностранцы, отгороженные прочно от города специальными заставами стрельцов и суевериями, жили, ни в чем не изменяя привычному быту, укладу жизни, модам. А мода нет-нет да и начинала просачиваться к москвичам. Как раз отсюда, от слободских церквей – католических, лютеранских, протестантских – и вели историки музыки происхождение органа на Руси. Только так можно объяснить страсть к органам у Алексея Михайловича.
Все было просто и логично, но музыковеды прошли мимо фактов, которые хорошо знали историки. Первая Немецкая слобода дотла сгорела в Смутное время в 1611 году, и почти полвека ее покинутое чернеющее пепелище пугало прохожих и проезжих. Иностранцы расселились по всему городу, перемешались с москвичами, и когда в 1652 году вышел царский указ об отводе для них новых земель – Новонемецкой слободы, одни этим воспользовались, другие нет.
Конечно, слобода все равно появилась, стала многолюдной – народ из-за рубежа подъезжал беспрерывно. Росли дома, разбивались сады, мостились улицы, появлялись и церкви, только совсем иные, чем их принято теперь представлять: богослужения для всех вероисповедований шли в самых обыкновенных домах, без колоколов и без органов. Этому искренне изумляются все современники, приезжие с Запада. Но чему, собственно, удивляться: в таинственную и непознанную страну выбрались люди, больше надеявшиеся на себя, чем на бога. Благочестие было для них пустой, хоть и обязательной проформой.
Ну, хорошо, допустим, впечатления путешественников носили случайный характер, а городские переписи? Переписи Немецкой слободы с завидным упорством утверждают, что органистов среди ее жителей не было. Вот случайный документ. В 1671 году в слободе задерживаются бродячие музыканты, на допросе они показывают, что они люди (значит, крепостные) бояр Воротынского и Долгорукого и с разрешения своих господ ходят по домам и играют «в арганы и в цимбалы и в скрипки и тем кормятся». Для перевозки «арганов» им требовались подводы с лошадьми. Сомнений не могло быть: Немецкая слобода не имела ни собственных органистов, ни даже инструментов.
«Играти в органы»