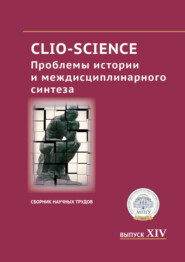По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Феномен ГУЛАГа. Интерпретации, сравнения, исторический контекст
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Проблема определения внутренних границ Гулага и стратификации осужденных в сталинский период в последние годы приобрела в России острое политическое звучание. Широко распространены суждения, что реальными жертвами террора нужно считать «лишь» около 4 млн человек, осужденных в 1921–1953 годах за «контрреволюционные преступления»[29 - Источником этой цифры является ведомственная статистика органов госбезопасности о количестве арестованных и осужденных по политическим делам [ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 32. Д. 4009. Л. 6–10].]. Сама по себе эта совсем не маленькая цифра вряд ли является окончательной и очевидной. Прежде всего, она не учитывает депортированных. Сомнительно также включение в состав уголовных преступников многих из осужденных по иным статьям, чем печально известная политическая 58-я статья советского Уголовного кодекса.
Исходной точкой для понимания действительного статуса многих неполитических заключенных может служить вывод одного из крупнейших исследователей советской юстиции и карательной политики П. Соломона: чрезвычайно жестокое сталинское законодательство «превращало все советское уголовное правосудие в систему, где оставалось все меньше правосудия» [Соломон 2008: 422][30 - О модели наказаний в сталинской диктатуре см. [Belova and Gregory 2009: 463–478].]. В лагеря и колонии в большом количестве попадали люди, тяжесть наказания которых совершенно не соответствовала опасности их преступлений или проступков. Число настоящих уголовных преступников, тем более рецидивистов, в лагерях было сравнительно небольшим. Основную часть заключенных составляли обычные советские граждане, преступавшие чрезвычайно жестокие законы в силу тяжелых условий жизни или попадавшие под удар разного рода показательных кампаний по «наведению порядка». Именно по этой причине значительную долю среди осужденных составляли женщины [Верт 2010: 427–428]. В общем, значительная часть осужденных по неполитическим («бытовым») статьям по существу являлась жертвами чрезвычайно жестокой и неправосудной политики режима. Зачислить их в разряд «уголовников» можно только в случае специфического понимания основополагающих принципов правосудия.
На втором крайнем полюсе советской иерархии располагалось формально свободное население. Отсутствие реальных свобод и чрезмерная жестокость законов затрудняют определение этого социального пространства, расположенного за пределами сталинских лагерей. В словаре Ж. Росси внетюремный, внелагерный мир назван «волей». «Выскочить на волю», по Росси, означало освободиться [Росси 1991, 1: 59]. Очевидно, что заключенные лагерей, пережившие страшные страдания, должны были воспринимать момент освобождения как праздник, выход на «волю». С другой стороны, Ж. Росси, так же как А. И. Солженицын и многие другие, полагал, что «советский ГУЛАГ был… самым точным воплощением создавшего его государства. Не зря ведь об освобождаемом зэке говорили, что его переводят из “малой” зоны в “большую”» [Росси 1994: 178]. С учетом этих обстоятельств, видимо, правильнее определять внелагерный советский социум как не-Гулаг. Не-Гулаг составляла та часть населения страны, которая не подвергалась крайним формам государственного террора – расстрелам и изоляции в лагерях, тюрьмах и ссылке.
О невозможности определения внелагерной части советского общества как «свободного» дополнительно свидетельствует наличие в нем многочисленной категории полусвободного населения. Его вполне обоснованно как включать в состав не-Гулага, так и рассматривать в качестве особого промежуточного слоя советской социальной иерархии. В 1930–1952 годах судебными и внесудебными органами было вынесено около 30 млн приговоров, предусматривавших меры наказания, не связанные с лишением свободы. В основном это были приговоры к исправительно-трудовым работам без заключения в лагеря и колонии [История сталинского Гулага 2004, 1: 616–619; Khlevniuk 2004: 303–305][31 - В эти показатели включалось какое-то количество повторно осужденных.]. Во многих случаях положение этих людей было чрезвычайно тяжелым. Отчисления значительной части заработной платы в пользу государства в условиях крайне низкого уровня жизни ставило семьи осужденных к исправительно-трудовым работам на грань выживания. Кроме того, над ними постоянно висела реальная угроза в случае повторных нарушений попасть в лагерную зону.
Помимо осужденных условно или к принудительным работам к категории полусвободного населения можно отнести также несколько других групп. Советские карательные и правоохранительные органы с небывалой легкостью прибегали к возбуждению уголовных дел и многочисленным задержаниям, которые в последующем не имели судебной перспективы. Только в 1935 году милицией были возбуждены уголовные дела против 2,4 млн человек, из которых почти 600 тысяч арестованы. Впоследствии 800 тысяч человек были признаны невиновными [История сталинского Гулага 2004, 1: 221]. В общем, миллионы людей, которых не учитывала судебная статистика, фактически попадали под удар сталинской карательной машины.
Еще несколько миллионов человек постоянно дискриминировались по социальным, политическим или национальным признакам. Они подвергались различным преследованиям: не могли получить работу по специальности, выселялись из столиц и крупных городов, лишались жилища и т. д. Главной предпосылкой такой дискриминации были практики коллективной (семейной, родовой, национальной, социальной) ответственности, которые широко использовались как важный элемент репрессий [Alexopoulos 2008].
В совокупности десятки миллионов дискриминируемых (приговоренных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и не осужденных, но преследуемых) существовали в своеобразной пограничной полосе между Гулагом и не-Гулагом. Так и не став узниками Гулага, они максимально приближались к нему. Испытывая серьезные материальные трудности, политическую дискриминацию, подвергаясь краткосрочным арестам, эти люди входили в группы риска, являвшиеся первостепенными целями террора, и чаще, чем другие категории населения, попадали в Гулаг.
Наличие огромной зоны «полусвободы» можно рассматривать как своеобразный символ размытости границ между Гулагом и не-Гулагом. Конечно, эту размытость и проницаемость границ не следует абсолютизировать. Понятно, что жизнь вне лагеря при любых обстоятельствах была лучше жизни в лагере, а статус свободного гражданина, пусть во многих отношениях формальный, был лучше статуса заключенного. Однако более детальное исследование сталинской повседневности усложняет эту априорно очевидную картину.
Прежде всего, как Гулаг, так и не-Гулаг не являлись однородными социально-экономическими образованиями. Существенными были различия между многочисленными подсистемами Гулага. Лагерь не равнялся колонии. Трудовые поселения и ссылка существенно отличались от лагерей. Разными были условия существования в старых, более благоустроенных, и новых лагерях, где зачастую наблюдалась повышенная смертность. Заключенные одного и того же лагеря нередко имели различные права и возможности. С другой стороны, существенно различались условия жизни в различных пространствах не-Гулага. Горожане пользовались привилегиями, недоступными крестьянам. «Cоциально чуждое» население подвергалось более значительной дискриминации, чем молодые выдвиженцы, которые занимали многочисленные вакансии, образовавшиеся в результате террора, и т. д.
В целом не будет преувеличением утверждать, что наиболее «благополучные» зоны Гулага и наиболее неблагополучные зоны не-Гулага максимально приближались друг к другу. Более того, в некоторых случаях уровень жизни в Гулаге был выше, чем в не-Гулаге. Известны примеры превосходства коллективных хозяйств крестьян-спецпереселенцев над окружающими их «свободными» колхозами. Бывшие «кулаки», находясь в ссылке, вели свое хозяйство более рационально и жили заметно богаче местных крестьян [ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 60. Л. 136–140; Khlevniuk 2004: 267–269].
Крайняя нужда большинства населения страны, особенно крестьян, которые оплачивали индустриализацию, оказывала решающее влияние на соотношение Гулага и не-Гулага. Главным образом за счет нищенского существования крестьян общий уровень материального обеспечения населения не-Гулага по ряду ключевых параметров приближался к соответствующим показателям Гулага. Например, в 1939 году соотношение рациона питания в Гулаге и не-Гулаге было следующим [Нефедов 2012: 75, 76; Кокурин и Петров 2000: 477][32 - Конечно, приведенные статистические данные не в полной мере отражали реальную ситуацию. Нормы, предусмотренные для заключенных, далеко не всегда обеспечивались ресурсами. Однако верно и то, что бюджетные обследования в не-Гулаге также приукрашали действительность. При этом важно подчеркнуть, что для сравнения брались минимальные нормы для заключенных, а именно норма № 1, которая устанавливалась для заключенных, не выполнявших производственные задания, или неработающих инвалидов.]:
Как видно из таблицы, рацион питания «свободного» населения, в первую очередь крестьян, по своей структуре и объемам вплотную приближался к нормам, предусмотренных для заключенных. Эта тенденция наблюдалась и в последующие годы.
Границы Гулага и не-Гулага размывало также применение принципов принудительного труда не только в лагерной зоне и ссылке, но и в «свободном» секторе экономики. С начала 1930-х годов крестьяне, а с 1940 года рабочие и служащие были в значительной мере прикреплены к колхозам и промышленным предприятиям. Самовольное увольнение грозило тюремными сроками. Одним из крайних проявлений этой системы закрепощения формально вольнонаемных работников были так называемые «трудовые резервы» и школы рабочей молодежи. Через эту мобилизационную систему молодых людей направляли в промышленность. Условия жизни и труда в таких школах и училищах были исключительно тяжелыми, что порождало массовое дезертирство, несмотря на угрозу осуждения к тюремному заключению [Фильцер 2011].
Каналы взаимодействия
Таким образом, сама попытка определить границы Гулага и не-Гулага приводит нас к осознанию их тесной взаимосвязи. Жилые дома и тюрьмы располагались по соседству, и расстояние между ними представляло величину минимальную как с географической, так и с правовой точки зрения. Гулаг не был изолирован от не-Гулага непроницаемой стеной. В «стене» было много легальных калиток и полулегальных проломов. Вместе с тем для историка такая констатация – лишь исходный пункт проблемы. Сама же проблема заключается в том, чтобы понять реальные практики взаимодействия Гулага и не-Гулага, краткосрочные и долговременные последствия их взаимного влияния.
Интерес к этим вопросам неизбежно усилился после того, как в целом было завершено исследование основных параметров собственно Гулага. Прежде всего, началось изучение тех каналов, по которым осуществлялось взаимодействие Гулага и не-Гулага. Большое значение имело появление целой серии работ о возвращении и адаптации заключенных после смерти Сталина [Адлер 2013; Weiner 2006; Elie 2006; Добсон 2014; Коэн 2011]. В ряде важных исследований обращается внимание на масштабность освобождения заключенных уже в сталинское время. Это происходило в результате истечения срока осуждения и различных амнистий [Alexopoulos 2005][33 - Рассмотрение Гулага как открытой системы, при помощи которой осуществлялось «перевоспитание» миллионов заключенных, является важной частью концепции книги [Barnes 2011].]. По официальным данным, около 7 млн заключенных были освобождены из лагерей в 1934–1952 годах (вряд ли значительная их часть повторно) [История сталинского Гулага 2004, 4: 111, 135–136][34 - Отсутствуют данные за 1948 год. Г. Алексопулос считает, что в статистику освобожденных заключенных лагерей не включались освобожденные по массовым амнистиям [Alexopoulos 2005: 275]. Важно также помнить, что во многих случаях заключенные лагерей, как отмечается в литературе, «освобождались, чтобы умереть» (инвалиды, неизлечимо больные). См. [Ellman 2002: 1152].]. Количество освобождений по тюрьмам и колониям пока неизвестно вообще. Оно могло быть значительным, особенно по колониям, где содержались заключенные с небольшими сроками. Большие группы спецпереселенцев, особенно из числа молодежи, получали официальное разрешение на выезд из ссылки. Сотни тысяч заключенных и особенно спецпереселенцев бежали из мест заключения и ссылки.
Рис. 1.1. Двое бывших заключенных ГУЛАГа узнают друг друга по одинаковым чемоданам. Кадр из фильма «Холодное лето пятьдесят третьего…» (Александр Прошкин, 1987)
Очевидно, что столь значительные перемещение из Гулага в не-Гулаг были важным каналом взаимодействия этих двух частей советского общества. Эти передвижения, как считает Г. Алексопулос, означали, что «мир Гулага и не-Гулага регулярно взаимодействовали и что сталинская система принудительного труда воздействовала на советское общество многими способами» [Alexopoulos 2005: 306]. К аналогичным выводам приходит исследователь феномена «зазонников» – заключенных, которым позволялось жить вне лагерей [Barenberg 2009][35 - С. Барнс отмечает аналогичную практику в Карлаге [Barnes 2011: 44].]. Эта санкционированная властями (чаще местными, реже центральными) практика в отдельные периоды получала широкое распространение. С одной стороны, она была вызвана экономическими причинами. С другой – являлась легализацией фактически существовавшего тесного взаимодействия Гулага и не-Гулага.
Рис. 1.2. Заключенные и вольнонаемные работники на месте строительства железной дороги Чум – Лабытнанги, 1954 (Общество «Мемориал»)
«Зазонники», жившие и работавшие вне лагерных зон, представляли собой наиболее полное воплощение приоритета экономических интересов Гулага над политическими и режимными предписаниями. По своему статусу к ним приближались так называемые «бесконвойные», «расконвоированные» – заключенные, жившие в лагерях, но свободно передвигавшиеся за пределами лагерей на различных производственных объектах [Bell 2013]. В исследованиях по экономике принудительного труда фиксируется распространенность такого явления, как совместная работа заключенных и вольнонаемных работников на многочисленных предприятиях НКВД – МВД и других министерств [Bell 2018: 39]. В 1950 году МВД выделял другим ведомствам четверть заключенных лагерей и колоний [ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 326. Л. 25, 31]. Значительным было и встречное движение. В первом полугодии 1950 года в основном производстве и капитальном строительстве МВД (без вольнонаемного состава лагерей) было занято 662 тысячи вольнонаемных, около 40 % общей численности работающих на объектах МВД [История сталинского Гулага 2004, 3: 36].
Эта последняя цифра напоминает нам о том, что важным каналом взаимодействия Гулага и не-Гулага являлось наличие в стране значительной по размерам группы населения, обслуживающей работу карательной и лагерной системы. По своему статусу служащие Гулага находились на одной из низших ступеней в советской карательной системе. Неблагоприятные условия службы в отдаленных, плохо пригодных для жизни регионах были незавидными. Не случайно руководителями лагерных подразделений периодически назначались чекисты и чиновники, осужденные за служебные злоупотребления или попадавшие в опалу. Охрана лагерей формировалась путем мобилизации. Охранников постоянно не хватало, что, как известно, породило такое явление, как «самоохрана» – использование в качестве охранников заключенных из числа уголовников. Служащие лагерной системы получали специфический профессиональный и жизненный опыт, который может рассматриваться как социальный результат взаимодействия Гулага и не-Гулага. Характерными чертами этого опыта были привычка к насилию и злоупотреблению властью, тесное взаимодействие с уголовным миром и усвоение его принципов «поддержания порядка» [Эпплбаум 2015: гл. 13; Хейнцен 2008; Захарченко 2013: 451–461][36 - О слабостях немногочисленных мемуаров гулаговских служащих как исторического источника см. [Hooper 2013].].
Наличие многочисленных каналов, соединявших Гулаг и не-Гулаг, передвижение между ними десятков миллионов людей, активные контакты лагерного и нелагерного населения в силу экономической необходимости позволяют предполагать, что воздействие Гулага на советское общество, советскую политическую и экономическую системы было значительным. Главная сложность, однако, заключается в том, чтобы выявить конкретные параметры и признаки, по которым можно судить о влиянии Гулага.
Гулаг как модель
В 1930–50-е годы Гулаг стал важнейшим фактором развития советской системы, что лучше всего изучено на примере интенсивной экспансии экономики принудительного труда. Многочисленные данные позволяют рассматривать включенность экономики Гулага в советскую экономическую систему как абсолютную, а не фрагментарную. Иначе говоря, лагерный принудительный труд не представлял собой изолированный сектор советской экономики, а был встроен в нее как важнейший и необходимый элемент. Накануне смерти Сталина Министерство внутренних дел СССР являлось крупнейшим строительным ведомством. Оно осваивало не менее 10 % общесоюзных капитальных вложений. По многим важнейшим видам промышленной продукции экономика МВД занимала лидирующие или исключительные позиции. После войны МВД сосредоточило в своих руках всю добычу золота, серебра, платины, кобальта. В 1952 году МВД обеспечивало производство примерно 70 % олова и трети никеля и т. д. По плану 1953 года вывозка деловой древесины и дров предприятиями МВД должна была составить более 15 % от общесоюзной [История сталинского Гулага 2004, 3: 41–44]. Такие масштабы экономики Гулага свидетельствовали о том, что она неизбежно была тесно связана с экономикой не-Гулага. Между ними происходил постоянный обмен ресурсами.
Наличие значительных контингентов подневольных рабочих поддерживало мобилизационный характер советской экономики. Правительство и отраслевые министерства постоянно обращались к заключенным как к ресурсу для решения срочных задач в неблагоприятных условиях. Наличие такого ресурса позволяло игнорировать экономические стимулы развития, способствовало распространению чрезвычайных командно-административных методов управления. Широкое применение принудительного труда сдерживало развитие социальной инфраструктуры: лагерные бараки заменяли нормальное жилье, лагерная медицина – регулярную систему здравоохранения [Alexopoulos 2017][37 - См. также статью Д. Хили в настоящем издании.]. Массовые аресты и расстрелы сокращали трудовой потенциал страны. Были уничтожены, умерли раньше срока или превратились в инвалидов миллионы мужчин и женщин трудоспособного возраста, многие из которых обладали значительным уровнем квалификации. Только часть образованных кадров использовалась в Гулаге по назначению (известный пример – так называемые «шарашки»[38 - См. статью А. Сиддики в настоящем издании.]). Инженер, направленный с лопатой на тяжелые земляные работы, был обычным явлением на хозяйственных объектах НКВД – МВД. Общий низкий уровень профессиональной подготовки лагерной рабочей силы при ее многочисленности и доступности тормозил механизацию производства. Распространение принудительного труда являлось важным фактором реализации многочисленных амбициозных, но экономически несостоятельных мегапроектов. Многие из них в разное время с легкостью начинались, но не доводились до конца. Это явление стало одним из наиболее ярких примеров высокой ресурсозатратности как экономики Гулага, так и советского народного хозяйства в целом [Gestwa 2010; Mildenberger 2000; Рогачев 2000].
Как отмечается в литературе, Гулаг был основным орудием и в значительной мере порождением советской модели внутренней колонизации[39 - В последнее время концепция внутренней колонизации в России приобрела популярность благодаря работам культурологов. Cм. [Эткинд 2018]. Вместе с тем ищут свои подходы к этой важной проблеме также историки советского периода. См. [Pallot 2002; Широков 2013; Viola 2014; Хили 2012; Sprau 2018].]. Экономика и социальная инфраструктура отдаленных богатых ресурсами окраин страны формировалась в рамках больших лагерных комплексов. Коренное население в таких регионах было относительно немногочисленным, а поэтому заключенные лагерей составляли заметную долю трудовых ресурсов. В конце 1930-х годов, например, заключенные и их охранники составляли примерно четверть населения республики Коми и Карелии, до 20 % населения Дальнего Востока и т. д. [Поляков 1992: 23–25, 229, 233]. Прирост населения таких регионов происходил также за счет досрочно освобожденных колонизированных заключенных и заключенных остававшихся здесь после полного отбытия срока. Этому способствовала политика властей, которые запрещали проживание бывших заключенных во многих областях страны и нередко повторно преследовали тех из них, кто выезжал за пределы отдаленных регионов. Кроме того, как показывают исследования, территории лагерных комплексов были наиболее благоприятной средой для социальной адаптации освободившихся заключенных как при Сталине, так и после его смерти [Barenberg 2013: 143–175; Sprau 2018].
В результате вокруг крупных лагерных комплексов складывались особые «серые» зоны, представлявшие собой нечто среднее между Гулагом и не-Гулагом. Они формировались на севере Европейской части СССР (Коми АССР, Карельская АССР, Архангельская область), в Сибири и на Дальнем Востоке. Исследование таких зон применительно к сталинскому периоду почти не проводилось. Демографическая статистика позволяет предполагать, что это были социально неблагополучные регионы, в которых наблюдалась более высокая, чем в среднем по стране, смертность населения в целом и детей в возрасте до года в частности [Юрков 1998: 114, 115, 136].
Колонизуемые Гулагом окраины являлись примером максимальной концентрации населения, имевшего опыт заключения. Однако жестокость законов привела к тому, что к особой лагерной субкультуре приобщались миллионы людей во всех регионах страны. Огромный Гулаг в значительной мере способствовал воспроизводству уголовной преступности, вовлекая в число рецидивистов людей, приговоренных к большим срокам заключения за малосущественные нарушения, совершенные в силу крайне тяжелых условий жизни. Масштабы и повседневность социума профессиональной преступности в СССР, его связи с Гулагом и не-Гулагом требуют исследования, хотя это и затрудняется почти полной закрытостью документов МВД[40 - Отдельные работы об уголовной преступности и борьбе с ней, основанные на закрытых архивах МВД, демонстрируют значительный информационный потенциал этих документов. См., например, [Говоров 2003; Говоров 2004].]. Пока с полным основанием можно утверждать, что наличие большого количества освобожденных и беглецов из Гулага (главным образом бывших кулаков) чрезвычайно беспокоило сталинское руководство. Это была важная причина для периодических чисток, самой известной из которых были массовые операции 1937–1938 годов[41 - О связи массовых операций 1937–1938 годов и борьбы с уголовной преступностью см. [Ширер 2014]. О ситуации в деревне в связи с возвращением высланных кулаков см. [Фицпатрик 2008].].
Важным следствием жестоких репрессий и произвола явились конфликтные и даже враждебные отношения между государством и значительной частью советского общества. Массовыми были представления о несправедливости советской карательной политики, об отсутствии правосудия и социальном разрыве между верхами и низами. Острую реакцию в советском обществе вызвало, например, принятие указов Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года о борьбе с хищениями государственной и личной собственности. Они предусматривали непомерно жестокие меры наказания за сравнительно незначительные проступки, причем нередко вызванные сложными жизненными обстоятельствами, последствиями послевоенной бедности и разрухи. Именно этот аспект проблемы подчеркивали авторы сохранившихся писем в адрес советских вождей. Ученик сельской школы А. Е. Багно, рассказывая о тяжелой жизни своей семьи и односельчан, открыто писал Сталину:
…Тут не уворуешь – не проживешь без средств со стороны. Вот и сейчас двух колхозниц <…> будут судить за хлеб. Что же они с жиру пошли его воровать? Может быть их детям нечего будет есть зимой. А в колхозе сколько там дадут. Если бы они жили на положении «повышенного быта», тогда уж другое дело. Можно бы и 10 лет дать. А раз их, считай, к этому принудили, а теперь 10 или сколько там лет тюрьмы дали – это уже несправедливо. Создайте сносные материальные условия, а потом судите [Горская 2015: 278–280].
Это письмо, как и другие похожие обращения, было положено на стол Сталину, но осталось без последствий[42 - Письмо было включено в сводку писем за август-сентябрь 1952 года, представленных Сталину и направленных на рассмотрение Г. М. Маленкову.].
Подобные установки массового сознания формировали привычку к государственному насилию, правовой нигилизм, презрение к правоохранительной и судебной системе, социальную пассивность. Эти качества среднего советского человека на долгие десятилетия предопределили развитие страны как при социализме, так и после его падения. В январе 1934 года корреспондент «Крестьянской газеты» сообщал в служебной записке в редакцию:
По дороге в Ленинград мне пришлось беседовать с колхозниками. Меня поразило то, что колхозники не считают зазорным приговор суда на «принудиловку» [осуждение к принудительным работам. – О. Х.]. В разговоре они без конца перечисляют и упоминают, «что вот, мол, приехал с принудиловки», «послали на принудиловку» и т. д., как будто принудиловка – дом отдыха или курорт [Лившин и Орлов 2002: 236].
Е. Ю. Зубкова отмечает героизацию образа уголовника-рецидивиста в советской молодежной культуре после войны [Зубкова 1999: 93–94]. Джон Раунд, встречавшийся с бывшими заключенными в Магадане уже в наше время, также столкнулся с долгосрочными социальными последствиями государственного насилия: «Хотя прошло уже полстолетия со времени их освобождения, интервьюируемые все еще чувствуют, что другие слои общества презирают их, и они по-прежнему чрезвычайно боятся властей. Они стараются жить максимально анонимно, минимально взаимодействуя с государственными структурами…» [Round 2006: 22].
Массовые репрессии по национальному признаку, трагический опыт ссылки, пережитый некоторыми народами СССР, имели долгосрочные негативные последствия в сфере межнациональных отношений. Широко распространено понимание того, что «месть прошлого» [Suny 1993][43 - Об исследованиях национальной ссылки см. [Ro’i 2009].], включая сталинское наследие, была важным фактором острых национальных конфликтов и распада СССР в 1980-е годы. Как показывают документы, межнациональные конфликты, в том числе принимавшие форму вооруженной борьбы, и нараставшее недовольство «наказанных народов» в ссылке являлись характерными чертами сталинской системы, свидетельством ее кризисного состояния [Кошелева 2013]. Декриминализация национальной политики после смерти Сталина позволила предотвратить назревавший взрыв, однако не устранила глубинных противоречий, порожденных национальными чистками 1930-х – начала 1950-х годов.
Страты по Гулагу
В конечном счете сталинский террор и наличие огромного Гулага фактически формировали новую структуру советского общества. Это была своеобразная иерархия страт, статус которых определялся степенью примененного к ним государственного насилия. Условно эту иерархию можно представить следующим образом:
– заключенные и ссыльные;
– осужденные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также находившиеся под следствием и временным арестом, но в конечном счете не осужденные;
– «подозрительные» – родственники репрессированных, слои населения, подвергавшиеся дискриминации по социальным, национальным признакам, но не попавшие в Гулаг;
– избежавшие Гулага, но не получившие от этого явных социальных преимуществ;
– «выдвиженцы террора», получившие в результате кадровых чисток социальные преимущества, но непосредственно не причастные к организации террора;
– исполнители террора – сотрудники карательного аппарата и других звеньев партийно-государственной машины, причастных к организации и исполнению террора.
Взаимодействие и противостояние отмеченных страт прослеживается в советском и российском социально-политическом развитии в течение многих десятилетий. Разлагающе действуя на политико-моральное состояние советского общества, опыт Гулага при определенных условиях мог стать важным фактором преодоления сталинизма. Долг свидетеля, требующего справедливости и предупреждающего об опасности, становился смыслом жизни многих жертв Гулага[44 - О проблеме свидетелей и свидетельства применительно к узникам нацистских концлагерей см. [Агамбен 2012].]. Такие свидетельства явились самым сильным, эмоциональным и убедительным аргументом в борьбе антисталинистов за будущее страны.
Возможности для свидетельствования, конечно, зависели от общей политической ситуации. Сталинское государство прилагало огромные усилия, чтобы правда о Гулаге не проникала за пределы лагерей. Письма заключенных подвергались цензуре. Практика свиданий с родственниками в лагерях была чрезвычайно ограниченна. Страх перед свидетельствами наряду с другими причинами заставлял власти максимально изолировать бывших заключенных. После отбытия срока им запрещали селиться в больших городах и других «режимных местностях», отправляли в ссылку в отдаленные районы, держали под постоянным контролем.
Изоляция и наказания за свидетельство, несомненно, давали свои результаты. На многие годы в среде бывших узников Гулага сформировалась устойчивая привычка молчания. Вытесняя из памяти страшный опыт, многие старались обезопасить себя и своих детей. «…Они жили маскируясь и молча почти 70 лет.
Одна из опрошенных подчеркивала, что она не говорила никому, даже собственным детям, о своем опыте», – пишет М. Кацнельсон, бравший интервью у детей спецпереселенцев в Сибири в 2003 году [Kaznelson 2007: 1164].
Возможности для свидетельствования существенно расширились после смерти Сталина. Социальная активность бывших политических заключенных была важной частью хрущевской оттепели. Критика сталинизма в 1950–60-е годы, отчасти мотивированная политическими расчетами власти, для бывших узников Гулага являлась способом своеобразного социального реванша и восстановления справедливости. Очевидно, что такой подход мог быть активно поддержан многочисленными жертвами сталинского произвола и их близкими, тем более что антисталинизм и возвращение к Ленину стали официальной идеологической доктриной. Лояльные антисталинисты, сохранившие верность партии и идеалам социализма, составляли авангард оттепели, пользуясь поддержкой государства[45 - Об этой категории бывших политических заключенных см. [Адлер 2013]. О требованиях оптимистического переживания лагерного опыта см. [Jones 2008].].
Вместе с тем десталинизация не удержалась в заданных сверху рамках. Сталинизм все чаще рассматривался как воплощение социализма, а ленинский террор приравнивался к сталинскому. Манифестом этого влиятельного направления стал «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицына, основанный на большом количестве неортодоксальных мемуаров. Солженицын и его единомышленники определили взгляд на сталинизм нескольких послесталинских поколений.
В ответ на этот вызов уже в ходе десталинизации вполне очевидно обозначилась тенденция ресталинизации, определения узких границ критики сталинского прошлого[46 - О противоречивых тенденциях десталинизации, в том числе о консервативном повороте в реорганизации лагерной системы в начале 1960-х годов, см. [Elie 2013: 125–132; Hardy 2016].]. Эта политика получила ускорение после снятия Хрущева. Ресталинизация в значительной мере опиралась на интересы и представления выдвиженцев террора. Именно к этой категории принадлежали высшие руководители страны в 1960-е – начале 1980-х годов. Не имея намерений полностью реабилитировать сталинизм и массовый террор, они предпочитали замалчивать эти проблемы и делать акцент на трудностях строительства нового общества во враждебном окружении. Эта формула вполне устраивала непосредственных исполнителей террора. В большинстве вряд ли протестовала против «тихой ресталинизации» и та часть населения, которая избежала сталинского террора. Предсказуемое авторитарное развитие советской системы без всплесков государственного насилия стимулировало безразличие к преступлениям прошлого. Из таких разных (и в разной степени активных) сил формировалась общность защитников Гулага.
Исходной точкой для понимания действительного статуса многих неполитических заключенных может служить вывод одного из крупнейших исследователей советской юстиции и карательной политики П. Соломона: чрезвычайно жестокое сталинское законодательство «превращало все советское уголовное правосудие в систему, где оставалось все меньше правосудия» [Соломон 2008: 422][30 - О модели наказаний в сталинской диктатуре см. [Belova and Gregory 2009: 463–478].]. В лагеря и колонии в большом количестве попадали люди, тяжесть наказания которых совершенно не соответствовала опасности их преступлений или проступков. Число настоящих уголовных преступников, тем более рецидивистов, в лагерях было сравнительно небольшим. Основную часть заключенных составляли обычные советские граждане, преступавшие чрезвычайно жестокие законы в силу тяжелых условий жизни или попадавшие под удар разного рода показательных кампаний по «наведению порядка». Именно по этой причине значительную долю среди осужденных составляли женщины [Верт 2010: 427–428]. В общем, значительная часть осужденных по неполитическим («бытовым») статьям по существу являлась жертвами чрезвычайно жестокой и неправосудной политики режима. Зачислить их в разряд «уголовников» можно только в случае специфического понимания основополагающих принципов правосудия.
На втором крайнем полюсе советской иерархии располагалось формально свободное население. Отсутствие реальных свобод и чрезмерная жестокость законов затрудняют определение этого социального пространства, расположенного за пределами сталинских лагерей. В словаре Ж. Росси внетюремный, внелагерный мир назван «волей». «Выскочить на волю», по Росси, означало освободиться [Росси 1991, 1: 59]. Очевидно, что заключенные лагерей, пережившие страшные страдания, должны были воспринимать момент освобождения как праздник, выход на «волю». С другой стороны, Ж. Росси, так же как А. И. Солженицын и многие другие, полагал, что «советский ГУЛАГ был… самым точным воплощением создавшего его государства. Не зря ведь об освобождаемом зэке говорили, что его переводят из “малой” зоны в “большую”» [Росси 1994: 178]. С учетом этих обстоятельств, видимо, правильнее определять внелагерный советский социум как не-Гулаг. Не-Гулаг составляла та часть населения страны, которая не подвергалась крайним формам государственного террора – расстрелам и изоляции в лагерях, тюрьмах и ссылке.
О невозможности определения внелагерной части советского общества как «свободного» дополнительно свидетельствует наличие в нем многочисленной категории полусвободного населения. Его вполне обоснованно как включать в состав не-Гулага, так и рассматривать в качестве особого промежуточного слоя советской социальной иерархии. В 1930–1952 годах судебными и внесудебными органами было вынесено около 30 млн приговоров, предусматривавших меры наказания, не связанные с лишением свободы. В основном это были приговоры к исправительно-трудовым работам без заключения в лагеря и колонии [История сталинского Гулага 2004, 1: 616–619; Khlevniuk 2004: 303–305][31 - В эти показатели включалось какое-то количество повторно осужденных.]. Во многих случаях положение этих людей было чрезвычайно тяжелым. Отчисления значительной части заработной платы в пользу государства в условиях крайне низкого уровня жизни ставило семьи осужденных к исправительно-трудовым работам на грань выживания. Кроме того, над ними постоянно висела реальная угроза в случае повторных нарушений попасть в лагерную зону.
Помимо осужденных условно или к принудительным работам к категории полусвободного населения можно отнести также несколько других групп. Советские карательные и правоохранительные органы с небывалой легкостью прибегали к возбуждению уголовных дел и многочисленным задержаниям, которые в последующем не имели судебной перспективы. Только в 1935 году милицией были возбуждены уголовные дела против 2,4 млн человек, из которых почти 600 тысяч арестованы. Впоследствии 800 тысяч человек были признаны невиновными [История сталинского Гулага 2004, 1: 221]. В общем, миллионы людей, которых не учитывала судебная статистика, фактически попадали под удар сталинской карательной машины.
Еще несколько миллионов человек постоянно дискриминировались по социальным, политическим или национальным признакам. Они подвергались различным преследованиям: не могли получить работу по специальности, выселялись из столиц и крупных городов, лишались жилища и т. д. Главной предпосылкой такой дискриминации были практики коллективной (семейной, родовой, национальной, социальной) ответственности, которые широко использовались как важный элемент репрессий [Alexopoulos 2008].
В совокупности десятки миллионов дискриминируемых (приговоренных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и не осужденных, но преследуемых) существовали в своеобразной пограничной полосе между Гулагом и не-Гулагом. Так и не став узниками Гулага, они максимально приближались к нему. Испытывая серьезные материальные трудности, политическую дискриминацию, подвергаясь краткосрочным арестам, эти люди входили в группы риска, являвшиеся первостепенными целями террора, и чаще, чем другие категории населения, попадали в Гулаг.
Наличие огромной зоны «полусвободы» можно рассматривать как своеобразный символ размытости границ между Гулагом и не-Гулагом. Конечно, эту размытость и проницаемость границ не следует абсолютизировать. Понятно, что жизнь вне лагеря при любых обстоятельствах была лучше жизни в лагере, а статус свободного гражданина, пусть во многих отношениях формальный, был лучше статуса заключенного. Однако более детальное исследование сталинской повседневности усложняет эту априорно очевидную картину.
Прежде всего, как Гулаг, так и не-Гулаг не являлись однородными социально-экономическими образованиями. Существенными были различия между многочисленными подсистемами Гулага. Лагерь не равнялся колонии. Трудовые поселения и ссылка существенно отличались от лагерей. Разными были условия существования в старых, более благоустроенных, и новых лагерях, где зачастую наблюдалась повышенная смертность. Заключенные одного и того же лагеря нередко имели различные права и возможности. С другой стороны, существенно различались условия жизни в различных пространствах не-Гулага. Горожане пользовались привилегиями, недоступными крестьянам. «Cоциально чуждое» население подвергалось более значительной дискриминации, чем молодые выдвиженцы, которые занимали многочисленные вакансии, образовавшиеся в результате террора, и т. д.
В целом не будет преувеличением утверждать, что наиболее «благополучные» зоны Гулага и наиболее неблагополучные зоны не-Гулага максимально приближались друг к другу. Более того, в некоторых случаях уровень жизни в Гулаге был выше, чем в не-Гулаге. Известны примеры превосходства коллективных хозяйств крестьян-спецпереселенцев над окружающими их «свободными» колхозами. Бывшие «кулаки», находясь в ссылке, вели свое хозяйство более рационально и жили заметно богаче местных крестьян [ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 60. Л. 136–140; Khlevniuk 2004: 267–269].
Крайняя нужда большинства населения страны, особенно крестьян, которые оплачивали индустриализацию, оказывала решающее влияние на соотношение Гулага и не-Гулага. Главным образом за счет нищенского существования крестьян общий уровень материального обеспечения населения не-Гулага по ряду ключевых параметров приближался к соответствующим показателям Гулага. Например, в 1939 году соотношение рациона питания в Гулаге и не-Гулаге было следующим [Нефедов 2012: 75, 76; Кокурин и Петров 2000: 477][32 - Конечно, приведенные статистические данные не в полной мере отражали реальную ситуацию. Нормы, предусмотренные для заключенных, далеко не всегда обеспечивались ресурсами. Однако верно и то, что бюджетные обследования в не-Гулаге также приукрашали действительность. При этом важно подчеркнуть, что для сравнения брались минимальные нормы для заключенных, а именно норма № 1, которая устанавливалась для заключенных, не выполнявших производственные задания, или неработающих инвалидов.]:
Как видно из таблицы, рацион питания «свободного» населения, в первую очередь крестьян, по своей структуре и объемам вплотную приближался к нормам, предусмотренных для заключенных. Эта тенденция наблюдалась и в последующие годы.
Границы Гулага и не-Гулага размывало также применение принципов принудительного труда не только в лагерной зоне и ссылке, но и в «свободном» секторе экономики. С начала 1930-х годов крестьяне, а с 1940 года рабочие и служащие были в значительной мере прикреплены к колхозам и промышленным предприятиям. Самовольное увольнение грозило тюремными сроками. Одним из крайних проявлений этой системы закрепощения формально вольнонаемных работников были так называемые «трудовые резервы» и школы рабочей молодежи. Через эту мобилизационную систему молодых людей направляли в промышленность. Условия жизни и труда в таких школах и училищах были исключительно тяжелыми, что порождало массовое дезертирство, несмотря на угрозу осуждения к тюремному заключению [Фильцер 2011].
Каналы взаимодействия
Таким образом, сама попытка определить границы Гулага и не-Гулага приводит нас к осознанию их тесной взаимосвязи. Жилые дома и тюрьмы располагались по соседству, и расстояние между ними представляло величину минимальную как с географической, так и с правовой точки зрения. Гулаг не был изолирован от не-Гулага непроницаемой стеной. В «стене» было много легальных калиток и полулегальных проломов. Вместе с тем для историка такая констатация – лишь исходный пункт проблемы. Сама же проблема заключается в том, чтобы понять реальные практики взаимодействия Гулага и не-Гулага, краткосрочные и долговременные последствия их взаимного влияния.
Интерес к этим вопросам неизбежно усилился после того, как в целом было завершено исследование основных параметров собственно Гулага. Прежде всего, началось изучение тех каналов, по которым осуществлялось взаимодействие Гулага и не-Гулага. Большое значение имело появление целой серии работ о возвращении и адаптации заключенных после смерти Сталина [Адлер 2013; Weiner 2006; Elie 2006; Добсон 2014; Коэн 2011]. В ряде важных исследований обращается внимание на масштабность освобождения заключенных уже в сталинское время. Это происходило в результате истечения срока осуждения и различных амнистий [Alexopoulos 2005][33 - Рассмотрение Гулага как открытой системы, при помощи которой осуществлялось «перевоспитание» миллионов заключенных, является важной частью концепции книги [Barnes 2011].]. По официальным данным, около 7 млн заключенных были освобождены из лагерей в 1934–1952 годах (вряд ли значительная их часть повторно) [История сталинского Гулага 2004, 4: 111, 135–136][34 - Отсутствуют данные за 1948 год. Г. Алексопулос считает, что в статистику освобожденных заключенных лагерей не включались освобожденные по массовым амнистиям [Alexopoulos 2005: 275]. Важно также помнить, что во многих случаях заключенные лагерей, как отмечается в литературе, «освобождались, чтобы умереть» (инвалиды, неизлечимо больные). См. [Ellman 2002: 1152].]. Количество освобождений по тюрьмам и колониям пока неизвестно вообще. Оно могло быть значительным, особенно по колониям, где содержались заключенные с небольшими сроками. Большие группы спецпереселенцев, особенно из числа молодежи, получали официальное разрешение на выезд из ссылки. Сотни тысяч заключенных и особенно спецпереселенцев бежали из мест заключения и ссылки.
Рис. 1.1. Двое бывших заключенных ГУЛАГа узнают друг друга по одинаковым чемоданам. Кадр из фильма «Холодное лето пятьдесят третьего…» (Александр Прошкин, 1987)
Очевидно, что столь значительные перемещение из Гулага в не-Гулаг были важным каналом взаимодействия этих двух частей советского общества. Эти передвижения, как считает Г. Алексопулос, означали, что «мир Гулага и не-Гулага регулярно взаимодействовали и что сталинская система принудительного труда воздействовала на советское общество многими способами» [Alexopoulos 2005: 306]. К аналогичным выводам приходит исследователь феномена «зазонников» – заключенных, которым позволялось жить вне лагерей [Barenberg 2009][35 - С. Барнс отмечает аналогичную практику в Карлаге [Barnes 2011: 44].]. Эта санкционированная властями (чаще местными, реже центральными) практика в отдельные периоды получала широкое распространение. С одной стороны, она была вызвана экономическими причинами. С другой – являлась легализацией фактически существовавшего тесного взаимодействия Гулага и не-Гулага.
Рис. 1.2. Заключенные и вольнонаемные работники на месте строительства железной дороги Чум – Лабытнанги, 1954 (Общество «Мемориал»)
«Зазонники», жившие и работавшие вне лагерных зон, представляли собой наиболее полное воплощение приоритета экономических интересов Гулага над политическими и режимными предписаниями. По своему статусу к ним приближались так называемые «бесконвойные», «расконвоированные» – заключенные, жившие в лагерях, но свободно передвигавшиеся за пределами лагерей на различных производственных объектах [Bell 2013]. В исследованиях по экономике принудительного труда фиксируется распространенность такого явления, как совместная работа заключенных и вольнонаемных работников на многочисленных предприятиях НКВД – МВД и других министерств [Bell 2018: 39]. В 1950 году МВД выделял другим ведомствам четверть заключенных лагерей и колоний [ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 326. Л. 25, 31]. Значительным было и встречное движение. В первом полугодии 1950 года в основном производстве и капитальном строительстве МВД (без вольнонаемного состава лагерей) было занято 662 тысячи вольнонаемных, около 40 % общей численности работающих на объектах МВД [История сталинского Гулага 2004, 3: 36].
Эта последняя цифра напоминает нам о том, что важным каналом взаимодействия Гулага и не-Гулага являлось наличие в стране значительной по размерам группы населения, обслуживающей работу карательной и лагерной системы. По своему статусу служащие Гулага находились на одной из низших ступеней в советской карательной системе. Неблагоприятные условия службы в отдаленных, плохо пригодных для жизни регионах были незавидными. Не случайно руководителями лагерных подразделений периодически назначались чекисты и чиновники, осужденные за служебные злоупотребления или попадавшие в опалу. Охрана лагерей формировалась путем мобилизации. Охранников постоянно не хватало, что, как известно, породило такое явление, как «самоохрана» – использование в качестве охранников заключенных из числа уголовников. Служащие лагерной системы получали специфический профессиональный и жизненный опыт, который может рассматриваться как социальный результат взаимодействия Гулага и не-Гулага. Характерными чертами этого опыта были привычка к насилию и злоупотреблению властью, тесное взаимодействие с уголовным миром и усвоение его принципов «поддержания порядка» [Эпплбаум 2015: гл. 13; Хейнцен 2008; Захарченко 2013: 451–461][36 - О слабостях немногочисленных мемуаров гулаговских служащих как исторического источника см. [Hooper 2013].].
Наличие многочисленных каналов, соединявших Гулаг и не-Гулаг, передвижение между ними десятков миллионов людей, активные контакты лагерного и нелагерного населения в силу экономической необходимости позволяют предполагать, что воздействие Гулага на советское общество, советскую политическую и экономическую системы было значительным. Главная сложность, однако, заключается в том, чтобы выявить конкретные параметры и признаки, по которым можно судить о влиянии Гулага.
Гулаг как модель
В 1930–50-е годы Гулаг стал важнейшим фактором развития советской системы, что лучше всего изучено на примере интенсивной экспансии экономики принудительного труда. Многочисленные данные позволяют рассматривать включенность экономики Гулага в советскую экономическую систему как абсолютную, а не фрагментарную. Иначе говоря, лагерный принудительный труд не представлял собой изолированный сектор советской экономики, а был встроен в нее как важнейший и необходимый элемент. Накануне смерти Сталина Министерство внутренних дел СССР являлось крупнейшим строительным ведомством. Оно осваивало не менее 10 % общесоюзных капитальных вложений. По многим важнейшим видам промышленной продукции экономика МВД занимала лидирующие или исключительные позиции. После войны МВД сосредоточило в своих руках всю добычу золота, серебра, платины, кобальта. В 1952 году МВД обеспечивало производство примерно 70 % олова и трети никеля и т. д. По плану 1953 года вывозка деловой древесины и дров предприятиями МВД должна была составить более 15 % от общесоюзной [История сталинского Гулага 2004, 3: 41–44]. Такие масштабы экономики Гулага свидетельствовали о том, что она неизбежно была тесно связана с экономикой не-Гулага. Между ними происходил постоянный обмен ресурсами.
Наличие значительных контингентов подневольных рабочих поддерживало мобилизационный характер советской экономики. Правительство и отраслевые министерства постоянно обращались к заключенным как к ресурсу для решения срочных задач в неблагоприятных условиях. Наличие такого ресурса позволяло игнорировать экономические стимулы развития, способствовало распространению чрезвычайных командно-административных методов управления. Широкое применение принудительного труда сдерживало развитие социальной инфраструктуры: лагерные бараки заменяли нормальное жилье, лагерная медицина – регулярную систему здравоохранения [Alexopoulos 2017][37 - См. также статью Д. Хили в настоящем издании.]. Массовые аресты и расстрелы сокращали трудовой потенциал страны. Были уничтожены, умерли раньше срока или превратились в инвалидов миллионы мужчин и женщин трудоспособного возраста, многие из которых обладали значительным уровнем квалификации. Только часть образованных кадров использовалась в Гулаге по назначению (известный пример – так называемые «шарашки»[38 - См. статью А. Сиддики в настоящем издании.]). Инженер, направленный с лопатой на тяжелые земляные работы, был обычным явлением на хозяйственных объектах НКВД – МВД. Общий низкий уровень профессиональной подготовки лагерной рабочей силы при ее многочисленности и доступности тормозил механизацию производства. Распространение принудительного труда являлось важным фактором реализации многочисленных амбициозных, но экономически несостоятельных мегапроектов. Многие из них в разное время с легкостью начинались, но не доводились до конца. Это явление стало одним из наиболее ярких примеров высокой ресурсозатратности как экономики Гулага, так и советского народного хозяйства в целом [Gestwa 2010; Mildenberger 2000; Рогачев 2000].
Как отмечается в литературе, Гулаг был основным орудием и в значительной мере порождением советской модели внутренней колонизации[39 - В последнее время концепция внутренней колонизации в России приобрела популярность благодаря работам культурологов. Cм. [Эткинд 2018]. Вместе с тем ищут свои подходы к этой важной проблеме также историки советского периода. См. [Pallot 2002; Широков 2013; Viola 2014; Хили 2012; Sprau 2018].]. Экономика и социальная инфраструктура отдаленных богатых ресурсами окраин страны формировалась в рамках больших лагерных комплексов. Коренное население в таких регионах было относительно немногочисленным, а поэтому заключенные лагерей составляли заметную долю трудовых ресурсов. В конце 1930-х годов, например, заключенные и их охранники составляли примерно четверть населения республики Коми и Карелии, до 20 % населения Дальнего Востока и т. д. [Поляков 1992: 23–25, 229, 233]. Прирост населения таких регионов происходил также за счет досрочно освобожденных колонизированных заключенных и заключенных остававшихся здесь после полного отбытия срока. Этому способствовала политика властей, которые запрещали проживание бывших заключенных во многих областях страны и нередко повторно преследовали тех из них, кто выезжал за пределы отдаленных регионов. Кроме того, как показывают исследования, территории лагерных комплексов были наиболее благоприятной средой для социальной адаптации освободившихся заключенных как при Сталине, так и после его смерти [Barenberg 2013: 143–175; Sprau 2018].
В результате вокруг крупных лагерных комплексов складывались особые «серые» зоны, представлявшие собой нечто среднее между Гулагом и не-Гулагом. Они формировались на севере Европейской части СССР (Коми АССР, Карельская АССР, Архангельская область), в Сибири и на Дальнем Востоке. Исследование таких зон применительно к сталинскому периоду почти не проводилось. Демографическая статистика позволяет предполагать, что это были социально неблагополучные регионы, в которых наблюдалась более высокая, чем в среднем по стране, смертность населения в целом и детей в возрасте до года в частности [Юрков 1998: 114, 115, 136].
Колонизуемые Гулагом окраины являлись примером максимальной концентрации населения, имевшего опыт заключения. Однако жестокость законов привела к тому, что к особой лагерной субкультуре приобщались миллионы людей во всех регионах страны. Огромный Гулаг в значительной мере способствовал воспроизводству уголовной преступности, вовлекая в число рецидивистов людей, приговоренных к большим срокам заключения за малосущественные нарушения, совершенные в силу крайне тяжелых условий жизни. Масштабы и повседневность социума профессиональной преступности в СССР, его связи с Гулагом и не-Гулагом требуют исследования, хотя это и затрудняется почти полной закрытостью документов МВД[40 - Отдельные работы об уголовной преступности и борьбе с ней, основанные на закрытых архивах МВД, демонстрируют значительный информационный потенциал этих документов. См., например, [Говоров 2003; Говоров 2004].]. Пока с полным основанием можно утверждать, что наличие большого количества освобожденных и беглецов из Гулага (главным образом бывших кулаков) чрезвычайно беспокоило сталинское руководство. Это была важная причина для периодических чисток, самой известной из которых были массовые операции 1937–1938 годов[41 - О связи массовых операций 1937–1938 годов и борьбы с уголовной преступностью см. [Ширер 2014]. О ситуации в деревне в связи с возвращением высланных кулаков см. [Фицпатрик 2008].].
Важным следствием жестоких репрессий и произвола явились конфликтные и даже враждебные отношения между государством и значительной частью советского общества. Массовыми были представления о несправедливости советской карательной политики, об отсутствии правосудия и социальном разрыве между верхами и низами. Острую реакцию в советском обществе вызвало, например, принятие указов Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года о борьбе с хищениями государственной и личной собственности. Они предусматривали непомерно жестокие меры наказания за сравнительно незначительные проступки, причем нередко вызванные сложными жизненными обстоятельствами, последствиями послевоенной бедности и разрухи. Именно этот аспект проблемы подчеркивали авторы сохранившихся писем в адрес советских вождей. Ученик сельской школы А. Е. Багно, рассказывая о тяжелой жизни своей семьи и односельчан, открыто писал Сталину:
…Тут не уворуешь – не проживешь без средств со стороны. Вот и сейчас двух колхозниц <…> будут судить за хлеб. Что же они с жиру пошли его воровать? Может быть их детям нечего будет есть зимой. А в колхозе сколько там дадут. Если бы они жили на положении «повышенного быта», тогда уж другое дело. Можно бы и 10 лет дать. А раз их, считай, к этому принудили, а теперь 10 или сколько там лет тюрьмы дали – это уже несправедливо. Создайте сносные материальные условия, а потом судите [Горская 2015: 278–280].
Это письмо, как и другие похожие обращения, было положено на стол Сталину, но осталось без последствий[42 - Письмо было включено в сводку писем за август-сентябрь 1952 года, представленных Сталину и направленных на рассмотрение Г. М. Маленкову.].
Подобные установки массового сознания формировали привычку к государственному насилию, правовой нигилизм, презрение к правоохранительной и судебной системе, социальную пассивность. Эти качества среднего советского человека на долгие десятилетия предопределили развитие страны как при социализме, так и после его падения. В январе 1934 года корреспондент «Крестьянской газеты» сообщал в служебной записке в редакцию:
По дороге в Ленинград мне пришлось беседовать с колхозниками. Меня поразило то, что колхозники не считают зазорным приговор суда на «принудиловку» [осуждение к принудительным работам. – О. Х.]. В разговоре они без конца перечисляют и упоминают, «что вот, мол, приехал с принудиловки», «послали на принудиловку» и т. д., как будто принудиловка – дом отдыха или курорт [Лившин и Орлов 2002: 236].
Е. Ю. Зубкова отмечает героизацию образа уголовника-рецидивиста в советской молодежной культуре после войны [Зубкова 1999: 93–94]. Джон Раунд, встречавшийся с бывшими заключенными в Магадане уже в наше время, также столкнулся с долгосрочными социальными последствиями государственного насилия: «Хотя прошло уже полстолетия со времени их освобождения, интервьюируемые все еще чувствуют, что другие слои общества презирают их, и они по-прежнему чрезвычайно боятся властей. Они стараются жить максимально анонимно, минимально взаимодействуя с государственными структурами…» [Round 2006: 22].
Массовые репрессии по национальному признаку, трагический опыт ссылки, пережитый некоторыми народами СССР, имели долгосрочные негативные последствия в сфере межнациональных отношений. Широко распространено понимание того, что «месть прошлого» [Suny 1993][43 - Об исследованиях национальной ссылки см. [Ro’i 2009].], включая сталинское наследие, была важным фактором острых национальных конфликтов и распада СССР в 1980-е годы. Как показывают документы, межнациональные конфликты, в том числе принимавшие форму вооруженной борьбы, и нараставшее недовольство «наказанных народов» в ссылке являлись характерными чертами сталинской системы, свидетельством ее кризисного состояния [Кошелева 2013]. Декриминализация национальной политики после смерти Сталина позволила предотвратить назревавший взрыв, однако не устранила глубинных противоречий, порожденных национальными чистками 1930-х – начала 1950-х годов.
Страты по Гулагу
В конечном счете сталинский террор и наличие огромного Гулага фактически формировали новую структуру советского общества. Это была своеобразная иерархия страт, статус которых определялся степенью примененного к ним государственного насилия. Условно эту иерархию можно представить следующим образом:
– заключенные и ссыльные;
– осужденные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также находившиеся под следствием и временным арестом, но в конечном счете не осужденные;
– «подозрительные» – родственники репрессированных, слои населения, подвергавшиеся дискриминации по социальным, национальным признакам, но не попавшие в Гулаг;
– избежавшие Гулага, но не получившие от этого явных социальных преимуществ;
– «выдвиженцы террора», получившие в результате кадровых чисток социальные преимущества, но непосредственно не причастные к организации террора;
– исполнители террора – сотрудники карательного аппарата и других звеньев партийно-государственной машины, причастных к организации и исполнению террора.
Взаимодействие и противостояние отмеченных страт прослеживается в советском и российском социально-политическом развитии в течение многих десятилетий. Разлагающе действуя на политико-моральное состояние советского общества, опыт Гулага при определенных условиях мог стать важным фактором преодоления сталинизма. Долг свидетеля, требующего справедливости и предупреждающего об опасности, становился смыслом жизни многих жертв Гулага[44 - О проблеме свидетелей и свидетельства применительно к узникам нацистских концлагерей см. [Агамбен 2012].]. Такие свидетельства явились самым сильным, эмоциональным и убедительным аргументом в борьбе антисталинистов за будущее страны.
Возможности для свидетельствования, конечно, зависели от общей политической ситуации. Сталинское государство прилагало огромные усилия, чтобы правда о Гулаге не проникала за пределы лагерей. Письма заключенных подвергались цензуре. Практика свиданий с родственниками в лагерях была чрезвычайно ограниченна. Страх перед свидетельствами наряду с другими причинами заставлял власти максимально изолировать бывших заключенных. После отбытия срока им запрещали селиться в больших городах и других «режимных местностях», отправляли в ссылку в отдаленные районы, держали под постоянным контролем.
Изоляция и наказания за свидетельство, несомненно, давали свои результаты. На многие годы в среде бывших узников Гулага сформировалась устойчивая привычка молчания. Вытесняя из памяти страшный опыт, многие старались обезопасить себя и своих детей. «…Они жили маскируясь и молча почти 70 лет.
Одна из опрошенных подчеркивала, что она не говорила никому, даже собственным детям, о своем опыте», – пишет М. Кацнельсон, бравший интервью у детей спецпереселенцев в Сибири в 2003 году [Kaznelson 2007: 1164].
Возможности для свидетельствования существенно расширились после смерти Сталина. Социальная активность бывших политических заключенных была важной частью хрущевской оттепели. Критика сталинизма в 1950–60-е годы, отчасти мотивированная политическими расчетами власти, для бывших узников Гулага являлась способом своеобразного социального реванша и восстановления справедливости. Очевидно, что такой подход мог быть активно поддержан многочисленными жертвами сталинского произвола и их близкими, тем более что антисталинизм и возвращение к Ленину стали официальной идеологической доктриной. Лояльные антисталинисты, сохранившие верность партии и идеалам социализма, составляли авангард оттепели, пользуясь поддержкой государства[45 - Об этой категории бывших политических заключенных см. [Адлер 2013]. О требованиях оптимистического переживания лагерного опыта см. [Jones 2008].].
Вместе с тем десталинизация не удержалась в заданных сверху рамках. Сталинизм все чаще рассматривался как воплощение социализма, а ленинский террор приравнивался к сталинскому. Манифестом этого влиятельного направления стал «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицына, основанный на большом количестве неортодоксальных мемуаров. Солженицын и его единомышленники определили взгляд на сталинизм нескольких послесталинских поколений.
В ответ на этот вызов уже в ходе десталинизации вполне очевидно обозначилась тенденция ресталинизации, определения узких границ критики сталинского прошлого[46 - О противоречивых тенденциях десталинизации, в том числе о консервативном повороте в реорганизации лагерной системы в начале 1960-х годов, см. [Elie 2013: 125–132; Hardy 2016].]. Эта политика получила ускорение после снятия Хрущева. Ресталинизация в значительной мере опиралась на интересы и представления выдвиженцев террора. Именно к этой категории принадлежали высшие руководители страны в 1960-е – начале 1980-х годов. Не имея намерений полностью реабилитировать сталинизм и массовый террор, они предпочитали замалчивать эти проблемы и делать акцент на трудностях строительства нового общества во враждебном окружении. Эта формула вполне устраивала непосредственных исполнителей террора. В большинстве вряд ли протестовала против «тихой ресталинизации» и та часть населения, которая избежала сталинского террора. Предсказуемое авторитарное развитие советской системы без всплесков государственного насилия стимулировало безразличие к преступлениям прошлого. Из таких разных (и в разной степени активных) сил формировалась общность защитников Гулага.