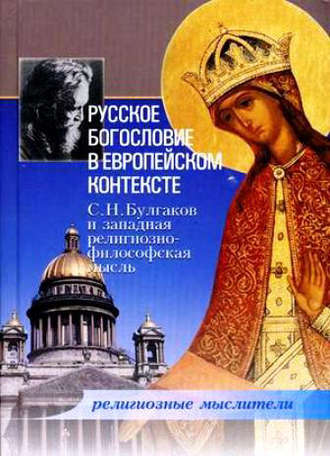
Русское богословие в европейском контексте. С. Н. Булгаков и западная религиозно-философская мысль
103
Church Dogmatics, IV/1, р. 52.
104
Ibid., IV/1, р. 181.
105
В целях простоты, если учесть огромный корпус произведений Булгакова, написанных на протяжении большого промежутка времени, и поскольку я сосредоточен на системе его взглядов, сопоставимых с проблематикой Барта, мое внимание сконцентрировано на его трилогии «О Богочеловечестве». Более ранние его философские работы упоминаются лишь по мере необходимости. О богословии Булгакова в связи с его пониманием личности см.: F. M. Meerson, «Sergei’s Bulgakov’s Philosophy of Personality», в J. D. Kornblatt and R. F. Gustafson (eds). Russian Religious Thought. L. Madison: 1996, р. 139–153; «The Trinity of Love in Modern Russian Theology: The Love Paradigm and the Retrieval of Western Mysticism in Modern Russian Trinitarian Thought (from Solovyov to Bulgakov)» Studies in Franciscanism. Ed. Zachary Hayes, Quincy, II., 1998, р. 159–186.
106
С. Булгаков, Агнец Божий, с 151. Булгаков также пишет: «Однако Абсолютное никогда не мыслится, не опознается, не существует в отвлеченной абсолютности своей, лишь как ледяная ночь небытия, – такое Абсолютное подлинно есть nonsens абстракции» (Утешитель, с 412).
107
Ibid., c. 448.
108
С. Н. Булгаков, «Свет невечерний: созерцания и умозрения», в Первообраз и образ: Сочинения в двух томах, т. 1. Москва, С.-Петербург, 1999, с. 116–119.
109
Pseudo-Dionysius the Areopagite. Corpus Dionysiacum. 2 Volumes. B. R. Suchla, G. Heil, A. M. Ritter (eds.). Patristische Texte und Studien. B. 33; К. Aland and Е. Muhlenberg, (eds.). B. 36. Berlin, NY. 1990–1991 и перевод на англ. в: Pseudo-Dionysius: The Complete Works. Trans.: С. Luibheid and Р. Rorem. The Classics of Western Spirituality. NY 1987. Divine Names, XIII. 3. 981A. 9-10, р. 129.
110
Pseudo-Dionysius, Divine Names, XIII. 3. 981A.15, р. 130.
111
Divine Names, XIII. 3. 981A.17, р. 130.
112
Th. A. Carlson, Indiscretion: Finitude and the Naming of God. Religion and Postmodernism Series, Chicago, 1999, р. 186 ff.
113
Свет невечерний, с. 119.
114
Pseudo-Dionysius, Mystical Theology, V. 104 8B. 6–9, р. 141.
115
Утешитель, с. 448.
116
Булгаков здесь воспроизводит аргумент Владимира Соловьева (см.: В. С. Соловьев, «Чтения о богочеловечестве», в Собрание сочинений. Под ред. С. М. Соловьева и Е. Л. Радлова. 2е изд. в десяти томах. СПб., 1911–1914.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

