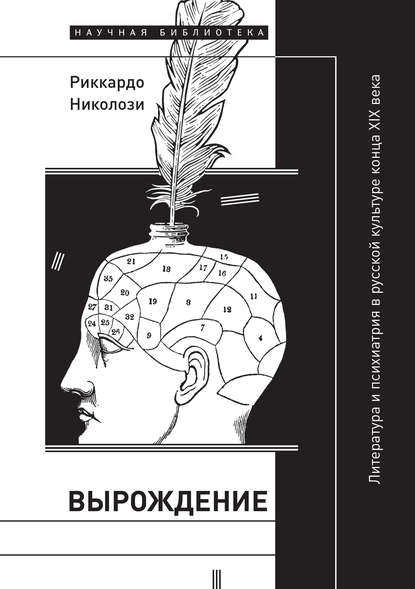По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вырождение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Наследственные дегенераты[64 - Понятия hеrеditaires, hеrеditaires dеgеnеrеs и dеgеnеrеs Маньян использует как синонимы (Magnan. Psychiatrische Vorlesungen. Bd. 2/3. S. VI).], так сказать, с самого начала несут на себе клеймо: характерные телесные и душевные стигматы. С раннего возраста, иногда уже с четырех-пяти лет, когда еще не приходится говорить о последствиях неправильного воспитания, у больных могут проявиться навязчивые состояния, болезненные влечения, задержки развития, интеллектуальные и моральные отклонения, странности, имеющие характерную природу и, без сомнения, позволяющие отвести их носителям особое место[65 - Ibid. S. 3.].
Как и Морель, Маньян тоже считает, что телесные стигматы сопутствуют душевным, свидетельствуя о нарушениях развития и функционирования нервной системы[66 - Leibbrand, Leibbrand-Wettley. Der Wahnsinn. S. 531.]. Это определение соматических признаков вырождения, восходящее к старой физиогномической традиции, обеспечивает отклонениям очевидный характер в обход эмпирической верифицируемости, приписывая физическим аномалиям функцию «наглядных доказательств»[67 - Stingelin M. Der Verbrecher ohnegleichen. Die Konstruktion «anschaulicher Evidenz» in der Criminal-Psychologie, der forensischen Physiognomik, der Kriminalanthropometrie und der Kriminalanthropologie // Physiognomie und Pathognomie. Zur literarischen Darstellung von Individualit?t. Festschrift f?r Karl Pestalozzi zum 65. Geburtstag / Hg. von W. Groddeck und U. Stadler. Berlin; New York, 1994. S. 113–133.].
Однако Маньян придает большее значение душевным стигматам дегенерата, общим знаменателем которых выступает «дисгармония, неуравновешенность душевной жизни»[68 - Magnan. Psychiatrische Vorlesungen. Bd. 2/3. S. 4.]: дегенеративное состояние представляет собой общее функциональное нарушение всего «нервного механизма», влекущее за собой «общую нестабильность»[69 - Magnan. Psychiatrische Vorlesungen. Bd. 2/3. S. 18.]. Эту преднамеренно не уточняемую dеsеquilibration Маньян понимает как свойственное дегенерату патологическое «состояние» (еtat), которое существенно отличает его от человека «нормального», так как последствия этого «состояния» намного серьезнее проявлений морелевского «нервного диатеза»: это уже не предрасположенность как нечто потенциальное, а «своего рода постоянный причинный фон, исходя из которого может развиться ряд процессов, ряд эпизодов, которые как раз и будут болезнью»[70 - Фуко М. Ненормальные. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974–1975 учебном году / Пер. с фр. А. В. Шестакова. СПб., 2004. С. 370.]. Это «неизменное»[71 - Magnan. Psychiatrische Vorlesungen. Bd. 2/3. S. VII.] (непрекращающееся) состояние обладает «безграничной способностью интеграции»[72 - Фуко. Ненормальные. С. 371.], позволяющей подвести под теорию вырождения не только почти любые душевные и нервные заболевания (от легких функциональных до тяжелых органических), но и ряд форм девиантного поведения, таких как преступность и проституция[73 - Nye. Crime, Madness, and Politics. P. 132–170; Rimke H., Hunt A. From Sinners to Degenerates: The Medicalisation of Morality in the Nineteenth Century // History of the Human Sciences. 2002. № 15/1. P. 59–88.]. Дегенеративное состояние – это «ненормальный цоколь»[74 - Фуко. Ненормальные. С. 370.], на котором в любой момент могут возникнуть какие угодно syndromes еpisodiques: число синдромов, этих «разных смен платья, в которые переоблачается один и тот же больной – дегенерат», «бесконечно»[75 - Magnan. Psychiatrische Vorlesungen. Bd. 2/3. S. IX.]. Пауль Юлиус Мёбиус, издатель маньяновских «Лекций по психиатрии», перечисляет во введении следующие патологии:
1) Болезненное вопрошание, болезненное мудрствование. Болезненная склонность к сомнениям (folie du doute), встречающаяся или сама по себе, или в сочетании с боязнью прикосновений (dеlire du toucher). 2) Боязнь острых предметов (айхмофобия), разновидность боязни прикосновений: иглы и любые острые предметы внушают больному страх. 3) Агорафобия, клаустрофобия, топофобия. Последняя представляет собой страх определенных мест. 4) Дипсомания. 5) Ситиомания, непреодолимая потребность принимать пищу. Больные все время едят. 6) Пиромания, навязчивые фантазии о совершении поджога или навязчивая страсть к поджигательству. 7) Пирофобия, беспричинная боязнь огня. 8) Клептомания. 9) Клептофобия, беспричинный страх больного что-либо украсть или беспочвенные опасения, будто он совершил кражу. 10) Ониомания, страсть к совершению покупок. 11) Игромания. 12) Навязчивые идеи, подталкивающие к убийству. 13) Влечение к самоубийству. ‹…›. 14) Ономатомания ‹…›. 15) Арифмомания, навязчивый счет или приписывание отдельным словам зловещего смысла. 16) Зоофиломания, болезненная любовь к животным. 17) Половые извращения, носящие характер одержимости. 18) Абулия, не обыкновенное слабоволие, а неспособность исполнить желаемое из?за мнимого противодействия некоей внешней силы, сопровождаемая чувством страха[76 - Ibid.].
В последней трети XIX века концепция вырождения, благодаря своему безграничному полиморфизму и этиологической пластичности, превратилась в модель интерпретации мира, создание которой стало реакцией европейских культур на страх перед наступлением аномии, питаемый представлением о пугающей «изнанке прогресса»[77 - Nye. Crime, Madness, and Politics. P. 97–170; Degeneration: The Dark Side of Progress / Ed. by J. E. Chamberlin and S. L. Gilman. New York, 1985; Drost W. Du Progr?s ? rebours. Fortschrittsglaube und Dekadenzbewu?tsein im 19. Jahrhundert: Das Beispiel Frankreich // Fortschrittsglaube und Dekadenzbewu?tsein im Europa des 19. Jahrhunderts / Hg. von W. Drost. Heidelberg, 1986. S. 13–29; Pick D. Faces of Degeneration: A European Disorder, c. 1848 – c. 1918. Cambridge, 1989; Roelcke. Krankheit und Kulturkritik.]. В теории вырождения с самого начала присутствует антимодернистское социокультурное измерение: уже Морель, оглядываясь на Руссо, объясняет возникновение дегенеративных феноменов влиянием «неестественных» социальных структур XIX века[78 - «[L]’influence des institutions sociales en dеsaccord avec la nature». Morel. Traitе des dеgеnеrescences. P. 3.], общественными процессами модернизации[79 - Morel. Traitе des dеgеnеrescences. P. 50–51. См. также главу IV этой книги.]. Маньян говорит в связи с этим об «эксцессах» современной цивилизации как о первопричине дегенерации[80 - «Les exc?s d’une civilisation avancеe». Legrain, Magnan. Les dеgеnеrеs. P. 80.]. Теория вырождения обещает представить проявления социальной дезинтеграции чем-то однозначным и очевидным (не в последнюю очередь при помощи подробных перечней стигматов) и, таким образом, «защищает общество»[81 - Фуко М. «Нужно защищать общество». Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975–1976 учебном году / Пер. с фр. Е. А. Самарской. СПб., 2005. С. 266–278.].
В этом контексте Юрген Линк называет концепцию вырождения «протонормалистской (protonormalistisch)» реакцией на «страх перед денормализацией (Denormalisierung)», возникающий в XIX столетии из?за размывания границ между нормой и отклонением[82 - Link J. Versuch ?ber den Normalismus. Wie Normalit?t produziert wird. 2. Aufl. Opladen; Wiesbaden, 1999. S. 236–237.]. Жорж Кангилем связывает эту смену парадигмы с так называемым «принципом Бруссе», согласно которому разница между «нормальным» и «патологическим» из качественной перешла в количественную[83 - Canguilhem G. Le normal et le pathologique. Paris, 1966. P. 18–31.]. Норма становится «динамическим понятием, поскольку нормальность определяется через нормативность, т. е. через установление того, что следует считать нормальным»[84 - Warning R. Kompensatorische Bilder einer «wilden Ontologie»: Zolas Les Rougon-Macquart // Poetica. 1990. № 22. S. 355–338. S. 359.]. С одной стороны, теория вырождения считает переход от нормального к патологическому цепью незаметных изменений, начало которой теряется в сфере нормальности[85 - «Если не проведено границы, очерчивающей суть нормального, то ни один индивид не может считаться раз и навсегда надежно защищенным от денормализации» (Link. Versuch ?ber den Normalismus. S. 541).]; с другой стороны, – и в этом состоит протонормалистская сторона теории – дегенерат изображается как сущностно Другой, как тот, чья природа испорчена (как правило, бесповоротно) дефективной наследственностью. Таким образом, теория вырождения заново устанавливает строгую границу между нормой и отклонением, в то же время размывая ее слишком широким пониманием патологии[86 - Эта парадоксальность ярко проявилась в трудах П. Ю. Мёбиуса: с одной стороны, он утверждает, что понятие вырождения позволяет постичь «пограничные состояния» между душевной болезнью и здоровьем; с другой стороны, указывает, что теория вырождения вообще сделала невозможным «утверждение о совершенной нормальности того или иного человека» (M?bius P. J. ?ber Entartung. Wiesbaden, 1900. S. 102–111).].
Научное повествование и истории болезней. Вырождение как нарратив
Действенность концепции вырождения во второй половине XIX века – и как медицинской теории, и как социально- и культурно-критического дискурса – можно понять лишь с учетом ее нарративного аспекта. Нарративный потенциал дегенерации – это не только и не столько структурная предпосылка для ее художественного освоения в натурализме, сколько неотъемлемая центральная составляющая самой психиатрической теории: «Лишь генеалогический рассказ устанавливает между явлениями значимую связь, которая вне нарративной модели осталась бы бездоказательной»[87 - F?cking. Pathologia litteralis. S. 301.]. Ведь теория вырождения всегда сохраняла статус умозрительной гипотезы, так как существование механизмов наследования, обеспечивающих передачу и прогрессирование приобретенных поражений, невозможно было доказать эмпирически[88 - Weingart P. u. a. Rasse, Blut und Gene. Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland. Frankfurt a. M., 1988. S. 77–79.].
Взаимная обусловленность знания и повествовательности делает теорию вырождения хотя и крайним, однако отнюдь не особым случаем в научном дискурсе эпохи: ее нарративность основана на «генетической мысли» (Рудольф Вирхов)[89 - F?cking. Pathologia litteralis. S. 19.] XIX века, т. е. на концептуализации временной глубины жизни, которой естественная история XVIII столетия еще не знала[90 - Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. В. П. Визгина и Н. С. Автономовой. СПб., 1994. С. 243–274; Lepenies W. Das Ende der Naturgeschichte. Wandel kultureller Selbstverst?ndlichkeiten in den Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts. M?nchen; Wien, 1976.]. Эта смена парадигмы заставила науки о жизни усиленно заняться поиском структур повествовательности, наилучшим образом подходящих для выражения идей темпорализации[91 - О нарративной конъюнктуре XIX века, «an extraordinary need or desire for plots» [исключительной потребности в сюжетах или желании сюжетов], см.: Brooks P. Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative. New York, 1984. P. 5.]. Так, наррация составляет неотъемлемый элемент дарвиновского учения о происхождении видов, где эволюционный «сюжет» используется для придания научной убедительности эмпирически не доказуемому и не поддающемуся точной формализации знанию[92 - Beer G. Darwin’s Plots. Evolutionary Narrative in Darwin, George Eliot and Nineteenth-Century Fiction. 3rd ed. Cambridge, 2009. P. 80.].
В медицине рубежа XVIII–XIX столетий наблюдается переход от естественно-научного, преимущественно нозологического подхода, основанного на представлении об онтологически неизменной природе болезней, к подходу клиническому, для которого важно протекание болезни во времени[93 - Фуко М. Рождение клиники / Пер. с фр. А. Ш. Тхостова. М., 2010; Lepenies. Das Ende der Naturgeschichte. S. 78–87.]. Из новаторского «Медико-философского трактата о душевных болезнях» («Traitе mеdico-philosophique sur l’aliеnation mentale», 1801) Филиппа Пинеля видно, что «акцент в семиотической практике смещается на этапы истории болезни – как своего рода знакообразующие элементы»[94 - Frey C. Am Beispiel der Fallgeschichte. Zu Pinels «Traitе mеdico-philosophique sur l’aliеnation» // Das Beispiel. Epistemologie des Exemplarischen / Hg. von J. Ruchatz u. a. Berlin, 2007. S. 263–278. S. 271. Курсив оригинала.]:
Трактат Пинеля ‹…› исходит из положения о бессвязном, не поддающемся интерпретации характере внешних признаков болезни в случае, когда речь идет о психических расстройствах. ‹…› Лишь история болезни позволяет в какой-то мере преодолеть и упорядочить сумбурную разрозненность отдельных проявлений[95 - Ibid. S. 272.].
Морелевская концепция вырождения радикализирует этот нарративный аспект психиатрического дискурса: отныне повествовательные приемы призваны компенсировать эмпирическую слабость теории. Таким образом, речь идет не только и не столько о ретроспективном придании знанию наглядности, сколько о самом производстве знания: идея дегенерации немыслима в отрыве от соответствующей повествовательной модели.
В рамках теории вырождения все патологические девиантные явления выступают составляющими причинно-временного парадигматического ряда, связанными между собой отношением метонимии. Внутри этого органического континуума не существует такого болезненного проявления, которое не могло бы быть дегенеративным симптомом, так как уже само включение в историю вырождения устанавливает причинность и, следовательно, создает смысл. Временная последовательность подразумевает здесь и причинную связь, поскольку в нарративе о вырождении воплощается принцип post hoc, ergo propter hoc, т. е. приравнивания временной последовательности к логическому следованию: одно, следующее за другим, понимается еще и как следующее из другого[96 - Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму / Пер. с фр., сост., вступ. ст. Г. К. Косикова. М., 2000. С. 196–238. С. 207; Korthals H. Zwischen Drama und Erz?hlung. Ein Beitrag zur Theorie geschehendarstellender Literatur. Berlin, 2003. S. 91–92. Ивонн Вюббен не учитывает этого аспекта и потому приходит к противоположному выводу, согласно которому рассказ о вырождении представляет собой «а-каузальное повествование»: «Учение о вырождении не допускает каузального повествования, предусматривая лишь хронологическое перечисление отдельных событий» (W?bben Y. Verr?ckte Sprache. Psychiater und Dichter in der Anstalt des 19. Jahrhunderts. Konstanz, 2012. S. 193).].
Теория вырождения обретает научную доказательность исключительно благодаря нарративной структуре, в которой действует линейный временной порядок, вносящий смысл в бескрайний жизненный континуум[97 - О смыслопорождающей функции нарративов единственно «в силу их структурного устройства» см.: M?ller-Funk W. Die Kultur und ihre Narrative. Wien; New York, 2002. S. 29.]. Это происходит двояким образом. С одной стороны, путем установления отправной точки дегенерации, «трещины» (f?lure) в родословной какой-либо семьи, причем поиск первого звена дегенеративной цепи, по сути, не может привести к достоверному результату ввиду многообразия рассматриваемых патологических явлений и вынужденной необходимости полагаться на рассказы самих пациентов о своих предках, редко поддающиеся проверке[98 - F?cking. Pathologia litteralis. S. 298.]. С другой стороны, указанный эффект достигается развитием монокаузальной схемы дегенеративного процесса, предусматривающей неизбежный конец истории – угасание семьи на протяжении считаных поколений.
Модель дегенерации как конечной истории, имеющей начало, середину и окончание, требует аукториального субъекта познания, «который, направляя взгляд в прошлое и будущее, устанавливая необходимые аналогии и используя в высшей степени спекулятивные теории о наследственности (hеrеditе), должен подняться над эмпирическими данными»[99 - Ibid.]. Психиатр теперь выступает – mutatis mutandis – в роли рассказчика, который из аморфного континуума «событий», из неподатливой, понимаемой в биологико-виталистском ключе «жизни»[100 - О понимании жизни как фундаментальной витальной силы в науке XIX века см.: Фуко. Слова и вещи. С. 288–304.] отбирает определенные элементы: «трещину в семейном организме», конкретные события и болезненные проявления в жизни пациента и его предков, – и увязывает все это в «историю», т. е. пролагает через события «смысловую линию», тем самым помещая отобранный материал в определенную перспективу[101 - О понятиях «событие», «история» и «смысловая линия» как составляющих нарративных трансформаций в повествовательном тексте см.: Шмид В. Нарратология. М., 2003. С. 158–174. Впрочем, придерживающийся теории вырождения психиатр сопоставим скорее с рассказчиком документального – а не художественного – текста, поскольку фиктивный рассказчик выдумывает заведомо фиктивные события, тогда как события документального текста обладают бытийной автономией. О наррации в психиатрическом дискурсе XIX века см.: W?bben Y. Die kranke Stimme. Erz?hlinstanz und Figurenrede im Psychiatrie-Lehrbuch des 19. Jahrhunderts // Der ?rztliche Fallbericht. Epistemische Grundlagen und textuelle Strukturen dargestellter Beobachtung / Hg. von R. Behrens und C. Zelle. Wiesbaden, 2012. S. 151–170.]. Нарратив о вырождении функционирует подобно динамическому силовому полю, в котором одновременно действует, с одной стороны, линеаризация, сегментирующая повествование, гипертрофирующая его связность и «усмиряющая» хаотическую «агрессию» патологического, а с другой – принцип максимальной семантической открытости. Это сообщает нарративу чрезвычайную гибкость при описании разрозненных девиантных проявлений и компенсирует отсутствие эмпирических доказательств. Такая нарративная гибкость делает теорию вырождения нефальсифицируемой[102 - Thomе H. Autonomes Ich und «inneres Ausland». Studien ?ber Realismus, Tiefenpsychologie und Psychiatrie in deutschen Erz?hltexten (1848–1914). T?bingen, 1993. S. 173.].
Таким образом, жанр истории болезни совершенно необходим для пояснения теории, которая сама по себе доказательств представить не может[103 - Истории частных случаев вырождения – одно из выражений курса на описание индивидуальных случаев, взятого науками о человеке на рубеже XVIII–XIX столетий и впервые описанного Мишелем Фуко (Рождение клиники). Об эпистемологии и поэтологии форм научно-литературного письма в жанре case studies см., в частности: Pethes N. Vom Einzelfall zur Menschheit. Die Fallgeschichte als Medium der Wissenspopularisierung zwischen Recht, Medizin und Literatur // Popularisierung und Popularit?t // Hg. von G. Blaseio u. a. K?ln, 2005. S. 63–92; Fallstudien: Theorie – Geschichte – Methode / Hg. von J. S??mann u. a. Berlin, 2007; Fall. Fallgeschichte. Fallstudie. Theorie und Geschichte einer Wissensform / Hg. von S. D?well und N. Pethes. Frankfurt a. M.; New York, 2014; Was der Fall ist. Casus und Lapsus / Hg. von I. M?lder-Bach und M. Ott. Paderborn, 2014; Pethes N. Literarische Fallgeschichten. Zur Poetik einer epistemologischen Schreibweise. Konstanz, 2016.]. В данном случае «нарратологическому дискурсу» отдается явное методологическое преимущество перед «семиологическим дискурсом»[104 - Понятия «семиологического» и «нарратологического» дискурсов заимствованы из: Kiceluk S. Der Patient als Zeichen und als Erz?hlung: Krankheitsbilder, Lebensgeschichten und die erste psychoanalytische Fallgeschichte // Psyche. 1993. № 47/9. S. 815–854.]: семиотическая практика, которая основана «на описательной модели, предполагающей наличие дискретной патологической сущности со специфической этиологией, равно как и специфическим протеканием и результатом», и понимающей болезнь как «особую группу клинических признаков»[105 - Ibid. S. 817.], оказывается здесь недостаточной. На смену «визуально-семиотической деятельности», выстраиванию «клинической картины» приходит теперь «нарратологическая» модель, направленная на «выразимое словами и носящее временной характер» и нацеленная на «создание клинической „истории“»[106 - Ibid. Теория вырождения не укладывается в схему развития обеих моделей, которые выделяет Стефани Кайслук, а вслед за ней и Михаэла Ральзер (Ralser M. Der Fall und seine Geschichte. Die klinisch-psychiatrische Fallgeschichte als Narration an der Schwelle // Wissen. Erz?hlen. Narrative der Humanwissenschaften. Hg. von A. H?cker. Bielefeld, 2006. S. 115–126): история психиатрии XIX века отнюдь не представляет собой триумфального шествия «семиологического дискурса», а «нарратологический дискурс» утвердился лишь с приходом Адольфа Майера и, прежде всего, Зигмунда Фрейда. Как и у Пинеля (ср.: Frey. Am Beispiel der Fallgeschichte. S. 271–272), в теории вырождения семиотический подход оказывается недостаточным: создание как можно более полной картины болезни обязательно дополняется реконструкцией генеалогической истории заболевания. О жанре психиатрической истории болезни см. также: Steinlechner G. Fallgeschichten. Krafft-Ebing, Panizza, Freud, Tausk. Wien, 1995; Zum Fall machen, zum Fall werden. Wissensproduktion und Patientenerfahrung in Medizin und Psychiatrie des 19. und 20. Jahrhunderts / Hg. von S. Br?ndli. Frankfurt a. M.; New York, 2009; W?bben. Verr?ckte Sprache; Zelle C. Zur Sachprosa des «Falls». Psychiatrische Fallerz?hlungen um 1850/70 in der «Allgemeinen Zeitschrift f?r Psychiatrie» und im «Archiv f?r Psychiatrie und Nervenkrankheiten» // Fallgeschichten. Text- und Wissensformen exemplarischer Narrative in der Kultur der Moderne / Hg. von S. Br?ndli. W?rzburg, 2015. S. 47–71.].
На примере истории болезни «jeune imbеcile Joseph…» [молодого имбецила Жозефа] Марк Фёкинг показал, каким образом эти нарративные операции функционируют у Мореля[107 - Morel. Traitе des dеgеnеrescences. P. 123–127; F?cking. Pathologia litteralis. S. 299–305.]. Морель рассматривает «слабоумие» Жозефа не как самостоятельную болезнь, а как конечную точку, как последний – поскольку приведший к бесплодию пациента – патологический эпизод семейной истории вырождения, начало которой Морель усматривает в пьянстве прадеда. Впрочем, такие временны?е рамки вырождения представляются всего лишь нарративной установкой, поскольку неочевидно, почему нервный диатез начинается именно с прадеда, а не с более отдаленного предка[108 - По мнению Фёкинга, то обстоятельство, что нарратив относит отправную точку семейного вырождения к эпохе Великой французской революции, может иметь символическую антимодернистскую окраску: F?cking. Pathologia litteralis. S. 302.]. Диахронический взгляд вглубь семейной истории «доказывает» предусматриваемое теорией прогрессивное, изменчивое развитие дегенеративного процесса: все «странности» потомков прадеда – dеpravation, abrutissement moral, acc?s maniaques, tendances hypocondriaques, tendances homicides, stupiditе[109 - Morel. Traitе des dеgеnеrescences. P. 125.] и т. д. – Морель интерпретирует как проявления потомственного нервного диатеза; затем они подводятся «под не зависящую от наблюдений эпистемологическую генеалогическую схему, позволяющую отличать случайные факты от детерминированных»[110 - F?cking. Pathologia litteralis. S. 304.].
Итак, с целью сделать теорию вырождения правдоподобной Морель задействует – разумеется, бессознательно, но совершенно явным образом – когнитивные, эпистемологические (в самом широком смысле) возможности повествования[111 - Об эпистемологической плодотворности повествования в научном дискурсе см.: Koschorke A. Wahrheit und Erfindung. Grundz?ge einer Allgemeinen Erz?hltheorie. Frankfurt a. M., 2012. S. 328–398. О значении нарративных структур в научном дискурсе см., в частности: Harrе R. Some Narrative Conventions of Scientific Discourse // Narrative in Culture. The Use of Storytelling in the Sciences, Philosophy, and Literature / Ed. by C. Nash. London; New York, 1990. P. 81–101; Holmes F. L. Argument and Narrative in Scientific Writing // The Literary Structure of Scientific Argument: Historical Studies / Ed. by P. Dear. Philadelphia, 1991. P. 164–181; Clark W. Narratology and the History of Science // Studies in History and Philosophy of Science. 1995. № 26. P. 1–71; Kreiswirth M. Merely Telling Stories? Narrative and Knowledge in the Human Sciences // Poetics Today. 2000. № 21/2. P. 293–318.]. Повествовательная связность и замкнутость нарратива о вырождении позволяют упростить совокупность патологических явлений, тем самым преодолев их внутренне случайный характер. Уже упомянутые приемы: установление причинных связей путем простого включения различных патологий в нарративную синтагму и завершение нарратива неизбежным концом дегенерации, наступающим на протяжении считаных поколений, – обеспечивают «обнадеживающую» нормализацию патологического, которое тем самым лишается своей хаотической, непостижимой разорванности[112 - О нормализирующей функции нарратива, основанной на синтагматической причинно-следственной связи и завершенности (closure), см.: Abbott H. P. The Cambridge Introduction to Narrative. Cambridge, 2002. P. 40–66.].
Однако это обуздание изменчивой природы вырождения становится возможным главным образом благодаря тому обстоятельству, что дегенерация не только удовлетворяет минимальным критериям нарратива, представляя собой репрезентацию цепи событий или «изменение некоей исходной ситуации» во времени[113 - Шмид. Нарратология. С. 13. См. также: Abbott. The Cambridge Introduction to Narrative. P. 13.], но еще и является базовой образцовой схемой, допускающей изложение в бесчисленном множестве вариаций. Дегенерация в качестве masterplot[114 - Abbott. The Cambridge Introduction to Narrative. P. 47.] функционирует как устойчивая когнитивная модель, позволяющая «возводить избыток неупорядоченных эмпирических данных к типическим, легко узнаваемым формам»[115 - Koschorke. Wahrheit und Erfindung. S. 29.] и устанавливать логические связи благодаря одной лишь связности повествования.
Эти свойства нарратива как повествовательной модели особенно важны в трудах В. Маньяна: вследствие осуществленных им расширения и обобщения теории, о которых говорилось выше, появляется минимальный общий знаменатель, позволяющий причислить к проявлениям дегенерации неврозы, психозы и девиантное поведение – «неуравновешенность душевной жизни»[116 - Magnan. Psychiatrische Vorlesungen. Bd. 2/3. S. 4.] человека. Уже сама эта дисгармония толкуется Маньяном как «однозначный» симптом состояния, претерпевающего непрерывные превращения: «неустойчивость» характерна как для дегенерата, так и для дегенерации. Теперь принципиальный полиморфизм вырождения выражается уже не в трансформации из поколения в поколение, а в самом индивиде: на разных этапах жизни дегенерация принимает форму различных патологий, представляющих собой «эпизоды» одной и той же «истории»[117 - Ibid. S. VIII.].
В написанных Маньяном историях болезней дегенерация обеспечивает широкий набор сюжетных вариаций, главная роль в которых принадлежит нестабильности. На уровне симптоматики это проявляется – независимо от конкретной болезни, в которую непосредственно вылилась дегенерация, – в импульсивности, скачкообразном и непредсказуемом характере припадков[118 - «Потребность» или «навязчивое влечение» всегда «непреодолимы», навязчивые мысли возникают «внезапно, без видимого повода». Ibid. S. 18–19.]. Неуправляемый характер отклонений[119 - Маньян пишет об одном случае дипсомании: «Стоило этой женщине, столь целомудренной и скромной в промежутках между приступами, начать пить, как она утрачивала всякое самообладание, всякое чувство стыда» (Ibid. S. 82).], неподвластных воле больного, подразумевает в первую очередь бессмысленность и бесцельность навязчивых действий и идей, представляющих собой напрасную трату энергии[120 - Об одном случае «тиков» и «навязчивых действий» говорится: «С утра до вечера он совершал навязчивые и совершенно бессмысленные движения» (Ibid. S. 20).]. Отсутствие у действий целенаправленности отличает дегенерата от «нормального» человека, способного оптимально распределять свои силы. Дегенерация предстает энтропической, изменчивой силой, внезапные и немотивированные превращения[121 - Маньян пишет о «дегенеративном помешательстве»: «Вся суть во внезапном возникновении бредовых идей. ‹…› Формы бывают самые разные: мания, мистицизм, эротизм, мания величия и т. д. ‹…› Одна форма перетекает в другую; больной, вчера одержимый манией величия, сегодня выказывает бред преследования, а через несколько дней превратится в помешанного ипохондрика» (Ibid. S. 25).] которой составляют полную противоположность процессу постепенного развития, характерному для эпохи прогресса[122 - О связи дегенерации и энтропии см.: Degeneration / Ed. by Chamberlin and Gilman. P. 271–275.].
Достижение осмысленной связности и «логическое» обуздание этого хаоса первобытных инстинктов становятся возможны исключительно благодаря повествовательной схеме, позволяющей очертить смысловой горизонт путем повторения одного и того же. Почти безграничному разнообразию симптомов противостоит однообразное постоянство накапливающихся историй болезней, похожих между собой с точки зрения семантики, структуры и языка описания. На парадигматическом уровне изображаемые феномены утрачивают свой пугающий полиморфизм в тот момент, когда оказываются истолкованы как симптомы наследственно обусловленного вырождения. На синтагматическом уровне нарративному обузданию дегенерации способствуют повторяющиеся элементы, такие как последовательность структурных сегментов (диагноз, наличие патологий у родителей и других родственников, изображение дегенеративного процесса как цепи синдромов в порядке появления, информация о лечении и указание на дегенеративное потомство) и топосы[123 - Ср., в частности, топос проявления симптомов уже в детском возрасте, всегда получающий одну и ту же языковую реализацию (следующие примеры взяты из разных историй болезней): «У него сызмальства имелись странные идеи»; «В воспитательном заведении Жоржетта с ранних лет выделялась своей распущенностью»; «Уже в раннем возрасте у больного проявились некоторые моральные извращения»; «Больной с детства отличался чудаковатостью и суеверностью» (Magnan. Psychiatrische Vorlesungen. Bd. 2/3. S. 20, 26, 31, 50).]. Повторяя одну и ту же (интерпретационную) схему, авторы историй болезней создают нарратив, позволяющий выводить одну и ту же смысловую линию из безграничной референциальности. Примечательно, что эта смысловая линия проявляется также тогда, когда остается невидимой, т. е. в промежутках, когда больной – ввиду скачкообразного течения болезни – кажется нормальным[124 - «При относительно слабой предрасположенности или при особо благоприятных условиях жизни дегенераты могут долгое время внешне ничем не отличаться от здоровых» (Ibid. S. X).]. Дегенерация не исчерпывается патологическими проявлениями. Ее суть неизбежно остается смутной и неуловимой, так как наследуются не те или иные патологии, а само вырождение[125 - О вырождении как self-reproducing force [самовоспроизводящейся силе] см.: Cartron. Degeneration and «Alienism». P. 159.].
Ввиду своей детерминистской предсказуемости нарратив о вырождении, каким он предстает в написанных Маньяном историях болезней, обладает низким уровнем событийности, так как частые изменения состояния, неожиданные и необъяснимые для самого больного, в глазах психиатра-интерпретатора являются всего лишь этапами одного и того же дегенеративного процесса и, соответственно, не представляют собой существенных перемен. Если обратиться к выдвинутому Вольфом Шмидом понятию события[126 - Шмид. Нарратология. С. 13–18.], то можно увидеть, что описанные у Маньяна происшествия не удовлетворяют критериям «непредсказуемости» и «неповторяемости», которые, наряду с другими условиями, определяют уровень событийности того или иного изменения[127 - О разнице между простым событием, предполагающим только изменение состояния (event I), и событием более сложным, удовлетворяющим определенным критериям, например непредвиденности (event II), см.: H?hn P. Event and Eventfulness // Handbook of Narratology / Ed. by P. H?hn et al. Berlin; New York, 2009. P. 80–97.].
Впрочем, тексты о вырождении оказываются бессобытийными и в более широком смысле. Нарратив о вырождении знает лишь одно настоящее событие – начало самой дегенерации, выступающее «скандальным» отклонением от «нормального» человеческого типа, т. е. пересечением антропологической границы. Согласно данному Юрием Лотманом семиотическому определению события[128 - Hauschild С. Jurij Lotmans semiotischer Ereignisbegriff. Versuch einer Neubewertung // Slavische Erz?hltheorie. Russische und tschechische Ans?tze / Hg. von W. Schmid. Berlin; New York, 2009. S. 141–186.], событие (происшествие) – это «значимое уклонение от нормы»[129 - Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998. С. 14–285. С. 224.], «пересечение границы запрета»[130 - Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики // Там же. С. 288–372. С. 339.] между разными семантическими полями. Однако в нарративе о вырождении «трещина» в семейной наследственности фигурирует уже не только как начало рассказа, но и как своего рода протособытие, перемещающее пораженную семью через границу между семантическими полями нормального и патологического[131 - При этом вся семья – вместе со своим наследственным материалом – в медицинском и семиотическом смысле выступает в роли «пациента», переживающего изменение состояния.]. Это протособытие, аналептически изложенное в историях болезней, в свою очередь, создает замкнутый космос дегенерации, «запрещающую границу» которого больше нельзя пересечь: протагонисты отдельных историй болезней «рождаются» в предзаданный нарративный мир вырождения, откуда нет выхода. Их метаморфозы вследствие тех или иных новых патологий уже не представляют собой повторного пересечения границы, а лишь подтверждают неизменное как с медицинской, так и с семиотической точки зрения состояние (еtat). Поэтому тексты о вырождении – в терминологии Лотмана – это «бессюжетные» тексты, моделирующие замкнутый мир, незыблемое устройство которого подтверждается снова и снова[132 - О различии между «бессюжетными» и «сюжетными», или «мифологическими», текстами см.: Лотман. Структура художественного текста. С. 226–229; Лотман Ю. М. Происхождение сюжета в типологическом освещении // Лотман Ю. М. Статьи по семиотике и топологии культуры: В 3 т. Т. 1. Таллин, 1992. С. 224–242.].
В маньяновских историях болезней может показаться странным тот удивительный факт, что в них отсутствуют существенные составляющие нарратива о вырождении, такие как начало, «трещина» в «семейном организме», а главное – прогрессирующее развитие вырождения, качественное нарастание патологий из поколения в поколение. Скупые упоминания дегенеративных симптомов у родителей[133 - Подчас эти симптомы граничат с абсурдом, когда речь идет не о болезнях, а о «причудах». Ср., в частности: «Наряду с прочими странностями, отец его имел обыкновение отирать лицо кроличьей шкуркой» (Magnan. Psychiatrische Vorlesungen. Bd. 2/3. S. 45).], а иногда даже лишь у более или менее близких родственников обозначают пунктирную линию наследственности, начало которой остается невыясненным, а развитие крайне редко носит прогрессирующий характер; как правило, все патологии рассматриваются как равнозначные[134 - Это объясняется, в частности, тем фактом, что семейные истории редко охватывают более двух поколений. Напротив, в историях болезней, написанных Морелем, очень важным моментом выступает развитие болезни на протяжении нескольких поколений (F?cking. Pathologia litteralis. S. 299–305).]. Анализы Маньяна – это портреты единичных, пребывающих в постоянном превращении «нестабильных сущностей», предполагающие, однако не изображающие incrementum дегенерации несмотря на необходимость представить «доказательства» вырождения. Однако этот классический circulus vitiosus отнюдь не опровергает теорию, а скорее раскрывает сущность дегенерации как (выражаясь языком Фуко) объективной трансценденталии: принципа, предпосланного феноменологическим фактам как условие их возможности, однако при этом недоступного позитивному познанию. Позитивистская наука маскировала эту характерную для эпистемы XIX века апорическую дихотомию эмпирии и глубинной метафизики[135 - Фуко. Слова и вещи. С. 269–274.], стремясь представлять эти трансценденталии как нечто такое, что можно постичь из эмпирического наблюдения явлений.
II.2. Эпическая линейность, разрыв наррации и литературный модернизм. Роман о вырождении
«Примером семейной дегенерации, обнаруживающим влияние теории Мореля, служит цикл романов Золя о Ругон-Маккарах»[136 - Kraepelin E. Psychiatrie. Ein Lehrbuch f?r Studierende und ?rzte. Bd. 1. 8. Aufl. Leipzig, 1909. S. 188.]. Это высказывание Эмиля Крепелина, содержащееся в его новаторском учебнике психиатрии, свидетельствует о сильном взаимопроникновении науки и литературы в дискурсе о вырождении. Конечно, использование художественного романного цикла в качестве иллюстрации морелевского учения не лишено уничижительных коннотаций, поскольку Крепелин отвергал детерминистский «мортализм» и «простую закономерность»[137 - Ibid.] Мореля, выступая за более сложное, менее схематичное понимание механизмов вырождения. Вместе с тем такое соотнесение науки и литературы указывает на принципиальную возможность перевода нарративной модели дегенерации в художественные категории, ставшую основой возникновения романов о вырождении[138 - У термина «роман о вырождении» (Degenerationsroman), который я использую как чисто аналитическую категорию, не слишком славная предыстория: в заключениях, использованных на цензурных процессах рубежа XIX–XX веков против немецких натуралистов (Карла Гауптмана, Оскара Паниццы), оно служило пейоративным обозначением литературы натурализма как литературы, созданной авторами-«дегенератами» (W?bben Y. Verr?ckte Sprache. Psychiater und Dichter in der Anstalt des 19. Jahrhunderts. Konstanz, 2012. S. 184).] в европейских литературах конца XIX века[139 - Некоторые произведения, называемые мною романами о вырождении, Каролина Просс (Pross C. Dekadenz. Studien zu einer gro?en Erz?hlung der fr?hen Moderne. G?ttingen, 2013, особенно S. 74–84) называет «декадентскими романами» (Dekadenzromane), выявляя при этом, как и я в случае с романом о вырождении, похожий интердискурсивный контекст возникновения, связанный с соответствующей психиатрической теорией, и похожие художественные структурные элементы. Однако Просс интересует не столько связь между знанием и повествованием, эпистемологией и поэтологией, сколько культурные самоописания немецкой литературы раннего модернизма.]. Не в последнюю очередь эта переводимость обеспечивается заключенным в дискурсе о вырождении «колоссальным фикциональным „потенциалом“»[140 - Link-Heer U. ?ber den Anteil der Fiktionalit?t an der Psychopathologie des 19. Jahrhunderts // Zeitschrift f?r Literaturwissenschaft und Linguistik. 1983. № 51/52. S. 280–302. S. 297.], который в максимально «эпической» форме раскрывает семейная эпопея Золя «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи» («Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire», 1871–1893), «родоначальница» текстов о вырождении[141 - Link-Heer U. «Le mal a marchе trop vite». Fortschritts- und Dekadenzbewu?tsein im Spiegel des Nervosit?ts-Syndroms // Fortschrittsglaube und Dekadenzbewu?tsein im Europa des 19. Jahrhunderts / Hg. von W. Drost. Heidelberg, 1986. S. 45–67. S. 60.].
Генеалогический императив[142 - Tobin P. D. Time and the Novel. The Genealogical Imperative. Princeton, 1978.] семейного романа – т. е. связь линейного повествования с мышлением в категориях причины и следствия, истока и протекания – в романе о вырождении смещается в сторону биологизма под влиянием новейших медико-психиатрических знаний о наследственности и вырождении[143 - О «генеалогическом романе» см.: Zucker A. E. The Genealogical Novel, a New Genre // Publications of the Modern Language Association of America. 1928. № 43. P. 551–560. О взаимосвязи теории наследственности с семейным романом в немецкой литературе рубежа XIX–XX веков с гендерной точки зрения см.: Erhart W. Familienm?nner. ?ber den literarischen Ursprung moderner M?nnlichkeit. M?nchen, 2001. S. 101–122; 232–352.]. Однако роман о вырождении определяется не только на содержательном уровне, т. е. не только как текст о биологически мотивированном семейном упадке. В таком романе наблюдается еще и повествовательный синтаксис, опирающийся на вышеописанные нарративные особенности научной теории вырождения, однако при этом также укорененный в эпистемологической повествовательной системе литературного натурализма. Ведь ранние романы о вырождении – романный цикл Золя и его европейские «последователи» 1880?х и 1890?х годов – представляют собой как артикуляции, так и конститутивные элементы этой повествовательной системы.
Эпистемологическая повествовательная система натурализма и роман о вырождении
Несмотря на национально-филологическую специфику, в нарративной структуре натуралистических повествовательных произведений можно выделить базовые структурные элементы, играющие важнейшую роль в определении повествовательного синтаксиса романа о вырождении[144 - Трансфилологической, сравнительной точке зрения на натурализм в литературоведении до сих пор уделялось на удивление мало внимания. Kirt R. Komparatistische Naturalismus-Forschung. Eine Standortbestimmung // Revue luxembourgeoise de littеrature gеnеrale et comparе. 1988. P. 85–90. P. 86. Так, бросается в глаза, что те немногочисленные работы, в которых эксплицитно рассматриваются межнациональные литературные отношения, как правило, посвящены исключительно влиянию Золя на другие национальные варианты натурализма: Zola sans fronti?res. Actes du colloque international de Strasbourg (Mai 1994) / Еd. par A. Dezalay. Strasbourg, 1996; Zola et le texte naturaliste en Europe et aux Amеriques: Gеnеricitе, intertextualitе et influences / Еd. par A. Gural-Migdal. Lewiston, 2006. Подчас попытки концептуального осмысления ограничиваются составлением европейского текстуального канона, в рамках которого вопрос о существующих внутри натурализма связях подразумевает лишь хронологический аспект: Chevrel Y. Probleme einer komparatistischen Literaturgeschichtsschreibung – am Beispiel des Naturalismus in den europ?ischen Literaturen // Germanistik und Komparatistik. DFG-Symposion 1993 / Hg. von H. Birus. Stuttgart, 1995. S. 466–480. В сравнительной – правда, ограниченной романскими литературами – перспективе, учитывающей повествовательную технику, натурализм рассматривается в: Anf?nge vom Ende. Schreibweisen des Naturalismus in der Romania / Hg. von L. Schneider und X. Jing. Paderborn, 2014.]. В самом общем смысле литература натурализма моделирует такой художественный мир, в котором воспринимаемая действительность представляет собой лишь уровень манифестации по отношению к изначальному уровню биологического обоснования. Эти произведения исходят из представления о «витальной силе»[145 - St?ber Th. Vitalistische Energetik und literarische Transgression im franz?sischen Realismus-Naturalismus. Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola. T?bingen, 2006. S. 117–148.], которая предопределяет все человеческие поступки и порождает среду, «получающую от изначального мира себе на долю временный характер»[146 - Делёз Ж. Кино 1. Образ-движение // Делёз Ж. Кино / Пер. с фр. Б. Скуратова. М.: Ad Marginem, 2004. С. 201–146. С. 96.]. «Научные» притязания натуралистической литературы состоят в придании этому «изначальному миру» нарративной формы путем причинно-временной линеаризации. Натурализм берет на вооружение такие бионарративы, как наследственность, вырождение или борьба за существование, разработанные тогдашней наукой для концептуализации (опять-таки выражаясь языком Фуко) объективной трансценденталии «жизнь»[147 - Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. В. П. Визгина, Н. С. Автономовой. СПб., 1994. С. 269–271.], и организует структуру текста вокруг этой биологически определяемой оси[148 - Как инсценировка определенной конфигурации знания литература натурализма представляет собой «эпистемологическую метафору», пишет Эльке Кайзер, используя термин Умберто Эко metafora epistemologica (Kaiser E. Wissen und Erz?hlen bei Zola. Wirklichkeitsmodellierung in den Rougon-Macquart. T?bingen, 1990. S. 10–11).].
В результате натуралистический текст расщепляется на разные уровни повествования: основополагающую, однородную базовую схему, воспроизводящую детерминистские «законы природы», – и повествовательный дискурс, раскрывающий многообразные проявления этого фундаментального «закона» на уровне рассказываемой истории[149 - О повествовательной системе натурализма на примере фикционализации «борьбы за существование» в немецкой литературе см.: St?ckmann I. Der Wille zum Willen. Der Naturalismus und die Gr?ndung der literarischen Moderne 1880–1900. Berlin; New York, 2009. S. 41–137.]. Такая базовая структура свойственна и роману о вырождении: в данном случае диахроническая логика дегенеративной наследственности определяет как отбор событийных моментов для создания истории, так и придание им формы линейной временной последовательности, которой – согласно нарратологической модели «нарративного конституирования»[150 - Шмид В. Нарратология. М., 2003. С. 88–103.] – обусловливается трансформация истории в повествование в любом повествовательном произведении. Роман о вырождении превращает аморфную совокупность носящих естественный, инстинктивный характер событий в эпическую смысловую линию, каузальность которой получает статус детерминистской закономерности[151 - Жиль Делёз говорит в этой связи о «великой эпической наследственности»: Делёз Ж. Золя и трещина // Делёз Ж. Логика смысла / Пер. с фр. Я. И. Свирского. М., 2011. С. 422–437. С. 426. О преемственности по отношению к натурализму поэтики реализма, которая точно так же стремится свести все многообразие действительности к «базовым структурам», см.: Pross. Dekadenz. S. 60–70; Albers I. Sehen und Wissen. Das Photographische im Romanwerk Emile Zolas. M?nchen, 2002.].
Такая эпистемологическая базовая структура натуралистических романов о вырождении напоминает уже описанную повествовательную модель дегенерации в психиатрическом дискурсе, которая выполняет структурирующую функцию «усмирения» «буйного» патологического начала и обретает нарративную реализацию в историях болезней (гл. II.1). Однако у романов о вырождении есть и собственное диегетическое измерение, благодаря которому возможно многообразное варьирование нарративной базовой схемы. Этим они отличаются от психиатрических анализов, в которых научная достоверность гарантируется (навязчивым) повторением одной и той же повествовательной схемы. При этом наблюдается широкий спектр повествовательных возможностей, представляющий собой континуум между двумя полюсами: с одной стороны, приверженность эпической линейности закономерным образом приводит masterplot вырождения к разрыву наррации, обусловленному редукцией событийности; с другой стороны, роман о вырождении позволяет патологической девиации «просочиться» на поверхность текста, так что инсценировка все более сильных нарративных трансгрессий подрывает замкнутую форму повествовательного образца.
Эпическая линейность и разрыв наррации
Как и в психиатрическом базовом нарративе, в романе о вырождении биологическая граница между нормой и патологией составляет центральную семантическую границу, а именно «трещину» (f?lure) в наследственности пораженной семьи. В семейном эпосе Золя функция трещины приписывается нервному расстройству Аделаиды Фук, «прародительницы» Ругон-Маккаров[152 - Ср. первый том цикла о Ругон-Маккарах «Карьера Ругонов» («La Fortune des Rougon», 1871). Как и у Мореля (гл. II.1), локализация «трещины» здесь тоже имеет символический аспект, связывающий потомственные семейные патологии с социальной патологичностью современной эпохи, у истоков которой стоят исторические потрясения, в данном случае – Великая французская революция (в 1789 году Аделаида вступает в любовную связь с пьяницей и контрабандистом Жаном Маккаром). Pick D. Faces of Degeneration: A European Disorder, c. 1848 – c. 1918. Cambridge, 1989. P. 83.]. Вместе с тем эта начальная точка дегенерации представляет собой явную нарративную установку, так как с точки зрения науки о наследственности совершенно не очевидно, что «тетя Дида» должна считаться носительницей первого патологического отклонения в семье: еще «ее отец умер в сумасшедшем доме»[153 - Золя Э. Карьера Ругонов / Пер. с фр. Е. Александровой // Золя Э. Собрание сочинений: В 26 т. Т. 3. Карьера Ругонов. Добыча. М., 1962. С. 7–344. С. 45. «‹…› le p?re mourut fou» (Zola Е. Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire / Еd. par H. Mitterand. Vol. 1. Paris, 1959. P. 41).]. Золя не пытается скрыть это противоречие, а скорее отрицает дискретность семьи, моделируя «начало без начала», «становление и гибель под знаком вечного возвращения дикого бытия»[154 - Warning R. Zola als Erz?hler // Anf?nge vom Ende. Schreibweisen des Naturalismus in der Romania / Hg. von L. Schneider und X. Jing. Paderborn, 2014. S. 29–48. S. 33.] жизни, нарративное обуздание которого, перенятое у науки, предстает во всей своей противоречивости[155 - F?cking M. Pathologia litteralis. Erz?hlte Wissenschaft und wissenschaftliches Erz?hlen im franz?sischen 19. Jahrhundert. T?bingen, 2002. S. 318–321.].
Этой нарративной установкой обусловлена структурная необходимость в романе о вырождении аналептического повествования, знакомящего с отправной точкой семейной патологии в интра- или додиегетической форме. Как и в психиатрических историях болезней, «трещина» выступает протособытием, запускающим распространение болезненных отклонений и создающим фиктивный мир, где уже невозможно повторное пересечение границы между нормой и патологией. Поскольку действие романа о вырождении разворачивается согласно детерминистской схеме накопления патологий и прогрессирующей дегенерации, возможность изменения состояния героя-дегенерата оказывается под сомнением. «Перемещение персонажа через границу семантического поля», «значимое уклонение от нормы»[156 - Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998. С. 14–285. С. 224.], в котором Ю. Лотман усматривает суть нарративного события, в тексте о вырождении возможно лишь с оговорками. Прогрессирующее развитие фиктивного мира подразумевает здесь не какие-либо событийные превращения, а лишь постоянное подтверждение биологического порядка вещей. Порядок этот нередко отражается в дихотомической, антагонистической системе персонажей, в рамках которой вырождающимся, слабовольным героям противопоставлены здоровые и деятельные; тем самым оппозиция нормы и патологии приобретает наглядный характер[157 - О такой особой системе персонажей в романе о вырождении, нередко соотнесенной с семантически сходным членением пространства, см.: Pross. Dekadenz. S. 133–134. Просс исследует эту структуру на примере романа «Болезнь века» («Die Krankheit des Jahrhunderts», 1887) Макса Нордау.].
Поэтому сюжетосложение многих романов о вырождении заключается в парадигматическом нанизывании все более тяжких патологических рецидивов, утрачивающих событийность по мере прогрессирования дегенерации[158 - Об этой сюжетной схеме натурализма см.: Baguley D. Naturalist Fiction: The Entropic Vision. Cambridge, 1990. P. 97–119; о книге Джованни Верги «Мастро дон Джезуальдо» («Mastro Don Gesualdo», 1888) см.: K?pper J. Vergas Antwort auf Zola. «Mastro Don Gesualdo» als «Vollendung» des naturalistischen Projekts // 100 Jahre Rougon-Macquart im Wandel der Rezeptionsgeschichte / Hg. von W. Engler u. a. T?bingen, 1995. S. 109–136. S. 120–121.]. Подобный бессобытийный застой приводит к разрыву нарративной ткани. Отрицательный телеологизм нередко влечет за собой все большее снижение «способности быть рассказанным» (Erz?hlbarkeit), так как каждый новый эпизод растянутой на несколько поколений истории упадка предстает, невзирая на изображение тех или иных событий, повторением одного и того же сюжетного образца. По мере неумолимого развития вырождения фиктивный мир все больше застывает в фаталистической неизменности, о которой можно поведать все меньше и меньше. Этот тип романа о вырождении отказывается от острого сюжетного драматизма в пользу «поэтики повтора»[159 - «Poеtique de la rеpеtition» – термин, который Ив Шеврель употребляет в связи с натурализмом в целом (Chevrel Y. Le Naturalisme. Paris, 1982. P. 118).], которая описывает жизнь как однообразное, банальное повторение одного и того же, подчеркивая тем самым ее неизменность и предсказуемость. Такова, в частности, структура романов «Западня» («L’Assomoir», 1877) Золя, «Дряхлеющий век» («Haabl?se Sl?gter», 1880/1884) Германа Банга и «Семья Малаволья» («I Malavoglia», 1881) Джованни Верги[160 - Джино Теллини говорит в связи с «Семьей Малаволья» о «механической статичности» (meccanica staticit?) и «удушающей меланхолии» (melanconia soffocante) (Tellini G. Il romanzo italiano dell’Ottocento e Novecento. Milano, 2000. P. 198).].
Так, внебрачная связь Жервезы Купо с Лантье приводит не к драматическому сюжетному повороту в традиционном смысле, а к «банальному» любовному треугольнику, который, хотя все с ним мирятся, одновременно являет собой очередной этап прогрессирующей, неумолимой деградации героини. Как и натуралистический протагонист в целом, она не сознает безвыходности своего положения и машинально движется навстречу гибели, на которую читателю намекают с самого начала, причем дегенеративный процесс, ведущий к пьянству, одиночеству, психофизическому упадку и отупению, сопровождается все большим измельчанием и запустением жизненного пространства[161 - В этом опять-таки проявляется определенная цикличность: теснота и бедность комнаты в пансионе, занимаемой Жервезой и Лантье в начале романа, диаметрально отражается в «дыре» – последнем обиталище Жервезы, где она и умирает в одиночестве, забытая всеми. Фаталистическая клаустрофобия натуралистического пространства присутствует в романе с самого начала, ср. предчувствие Жервезы в конце первой главы: «И вот на эту пышущую жаром мостовую ее выбросили одну с двумя малышами; она скользила взглядом по внешним бульварам, влево, вправо, из конца в конец, и в ней поднимался безмерный ужас, будто отныне вся жизнь ее должна замкнуться здесь – между бойней и больницей» (Золя Э. Западня / Пер. c фр. О. Моисеенко и Е. Шишмаревой // Золя Э. Собрание сочинений: В 26 т. Т. 6. Ругон-Маккары. Западня. М., 1962. С. 39). («C’еtait sur ce pavе, dans cet air de fournaise, qu’on la jetait toute seule avec les petits; et elle enfila d’un regard les boulevards extеrieurs, ? droite, ? gauche, s’arr?tant aux deux bouts, prise d’une еpouvante sourde, comme si sa vie, dеsormais, allait tenir l?, entre un abattoir et un h?pital» – Zola. Les Rougon-Macquart. Vol. 2. P. 403.)].
Аналогичный нарративный телеологизм последовательно проводится и в сербском романе о вырождении «Дурная кровь» («Necista krv», 1910) Боры Станковича; целенаправленный ход дегенерации выливается в своего рода вечное настоящее, где вырождение предстает длящимся состоянием застоя[162 - Nicolosi R. Unreine Liebe. B. Stankovics «Necista krv» als Degenerationsroman // Darstellung der Liebe in bosnischer, kroatischer und serbischer Literatur. Von der Renaissance ins 21. Jahrhundert / Hg. von R. Hodel. Frankfurt a. M., 2007. S. 159–176.]. История материального, социального и физического упадка старинного тюркизированного рода, разворачивающаяся в южносербском городе Вране на историческом фоне постепенного ухода Османской империи с Балкан, складывается из нагнетаемого повторения неизменной схемы дегенерации. Параллельно деградации героини, Софки, идет «на спад» и сама повествовательная форма, оборачиваясь разрывом наррации. Это проявляется в изменении соотношения между повествовательным временем и временем повествования, сжатием и растяжением. За кульминационными сценами романа, которые связаны со свадьбой Софки (ритуальное омовение в хаммаме, гротескное церковное венчание и оргиастическое празднество) и которым присуще выраженное нарративное растяжение, следуют все более короткие главы, отмеченные все более сжатым повествованием и все меньшим уровнем событийности, а финальная сцена – в которой отец Софки наносит оскорбление ее сербскому мужу-простолюдину, что и приводит к окончательной катастрофе, – оказывается заметно короче всех предшествующих кульминационных эпизодов. В последних трех главах романа временны?е координаты растворяются в неопределенном континууме, который соответствует восприятию времени самой Софкой, проводящей дни между буйными выходками мужа и апатией. В последней главе, начинающейся словами «И ничего не происходит»[163 - «И ништа се не деси» (Станковиh Б. Сабрана дела Борисава Станковиhа. Кн. 3 (Нечиста крв). Београд, 1970. С. 260).], грамматическое повествовательное время сменяется с прошедшего на аорист, превращая время повествования в вечное настоящее. У ожидания смерти, в котором живет Софка, нет фикционального конца, отчего безысходность ее дегенеративного состояния усиливается еще больше. Похожее сжатие повествовательного темпа наблюдается и в романе «Нильс Люне» («Niels Lyhne», 1880) Йенса Петера Якобсена, причем рассказ о последних событиях в жизни героя: о свадьбе, рождении сына, безвременной кончине жены и ребенка, участии в войне и, наконец, смерти, – становится все более небрежным.
Такой отказ от категории события чрезвычайно важен для русского романа о вырождении и характерен для него с самого начала. Наиболее последовательно этот повествовательный прием воплощен в «Господах Головлевых» (1875–1880) М. Е. Салтыкова-Щедрина, хронологически первом русском романе о вырождении. Как будет показано в главе II.4, Салтыков-Щедрин моделирует поместье семьи Головлевых как замкнутое, вселяющее чувство клаустрофобии пространство, как застывший мир, где прогрессирующее развитие дегенеративного процесса оборачивается навязчивым повторением одного и того же. Захваченные неудержимым процессом психофизического разложения, символизирующим вымирание целого социального класса – поместного дворянства, Головлевы бессильны изменить свое состояние.
В отличие от редукции событийности во французском натурализме, которую следует рассматривать скорее в контексте флоберовской традиции[164 - Warning R. Erz?hlen im Paradigma. Kontingenzbew?ltigung und Kontingenzexposition // Romanistisches Jahrbuch. 2001. № 52. S. 176–209.], в романе Салтыкова-Щедрина происходит явный разрыв с русской реалистической традицией событийного повествования. Так, в произведениях Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского структурообразующее событие инсценируется как «прозрение» или «просветление», т. е. как «ментальная перипетия, как когнитивный, душевный или нравственный переворот»[165 - Schmid W. Ereignishaftigkeit in den «Br?dern Karamasow» // Dostoevsky Studies, New Series. 2005. № 9. P. 31–44. P. 33. Хрестоматийным примером такого события служит преображение Дмитрия Карамазова, нарушающее своей парадоксальностью границы ожидаемого и предсказуемого.]. Отказ Салтыкова-Щедрина как от реалистической модели мира, допускающей способность человека к глубоким внутренним переменам, так и от реалистической поэтики события, в контексте русской литературы оказывается предвосхищением модернистского повествования, возможности которого раскроются сполна лишь в прозе Чехова.
Трансгрессивный нарратив и фрагментарное изображение действительности
Одной из особенностей романа о вырождении является возможность по-разному реализовывать базовую схему предопределенного упадка. Некоторые тексты о вырождении облекают ее в форму не вышеописанного нарративного разрыва, а все большего нагромождения трансгрессивных событий, скандальных поступков, обусловленных девиантным поведением ненормального персонажа[166 - Warning R. Chronotopik und Heterotopik: Zolas Rougon-Macquart // Warning R. Heterotopien als R?ume ?sthetischer Erfahrung. Paderborn; M?nchen, 2009. S. 145–168. Варнинг использует лотмановское понятие «несюжетной коллизии», означающее пересечение нормативной границы вплоть до полного ее стирания, «‹…› то есть катаклизм, обрушение целого культурного порядка» (Там же. S. 153). Согласно этой интерпретации, романы Золя последовательно разрушают любую форму нормативности, инсценируя катастрофы мифической силы, в которых трансгрессивная витальность «жизни» ниспровергает какую угодно упорядочивающую структуру. Я же, напротив, подчеркиваю напряжение, возникающее в семейном эпосе Золя между макроструктурной упорядочивающей структурой дегенеративной наследственности и трансгрессивными нарративными эпизодами.]. Впрочем, столь высокая возможность дегенерации раскрываться в повествовании не означает роста уровня событийности, так как – что уже разъяснялось – с точки зрения текста в целом подобные трансгрессивные эпизоды, ввиду своей повторяемости и предсказуемости, не влекут за собой событийного изменения состояния персонажей. Ярче всего это протеическое многообразие дегенеративных поступков и персонажей проявляется в цикле «Ругон-Маккары», рисующем подробнейшую картину вырождения на материале пяти поколений и самых разных патологий. «Дикое бытие»[167 - Warning R. Kompensatorische Bilder einer «wilden Ontologie»: Zolas Les Rougon-Macquart // Poetica. 1990. № 22. S. 355–383.] патологического, «бушующее» на микроструктурном уровне отдельных романов, подчинено контролю макроструктурной наследственной линии, занимающей более высокое, аукториальное положение[168 - О сложном соотношении структур диахронии и синхронии в романной эпопее Золя и их различных оценках см., в частности: Gumbrecht H. U. Zola im historischen Kontext. F?r eine neue Lekt?re des Rougon-Macquart-Zyklus. M?nchen, 1978. S. 32–33; F?cking. Pathologia litteralis. S. 311–330.].
Проект генеалогического изображения целого наследственного ряда требует гетеродиегетического, аукториального рассказчика, который, подобно врачу, распознает и истолковывает проявляющиеся в фиктивном мире признаки вырождения; признаки, которых сами действующие лица обычно не замечают[169 - М. Фёкинг усматривает в этом «реинсталляцию трансцендентального субъекта», от которого отказался roman clinique (в частности, Флобер) (Там же. S. 322–330). Однако Фёкинг не учитывает того обстоятельства, что макроструктурная аукториальность цикла о Ругон-Маккарах частично нейтрализуется нередким отказом Золя от центральной интерпретирующей точки зрения аукториального рассказчика на микроструктурном уровне отдельных романов, так что голос повествователя сливается с голосами персонажей и «общественным мнением» в несобственно-прямой речи. Это сообщает романам Золя чрезвычайно полифоническую форму.]. Лишь в последнем романе цикла, «Доктор Паскаль» («Le Docteur Pascal», 1893), эту двойную структуру, складывающуюся из микро- и макроструктурного уровней, нарушает появление персонажа нового типа – врача и исследователя вопросов наследственности Паскаля Ругона, который на правах интрадиегетического porte-parole аукториального рассказчика[170 - Речь идет о типе персонажа, характерном для натуралистического романа в целом, т. е. о таком действующем лице, которое выступает авторским рупором, высказывая научные идеи, призванные объяснить происходящее в вымышленном мире. Baguley. Naturalist Fiction. P. 95; Kaiser. Wissen und Erz?hlen bei Zola. S. 33–34.] обобщает и интерпретирует историю вырождения собственной семьи с научной точки зрения. При этом пятая глава «Доктора Паскаля», где Паскаль Ругон объясняет своей племяннице Клотильде семейную историю Ругон-Маккаров в свете учения о наследственности на основе генеалогического древа и собранных материалов, предстает проявлением принципа mise en abyme, который заново раскрывает макроструктурную схему романного цикла с ее функцией глубинной структуры, определяющей всю совокупность разрозненных, по видимости, случайных явлений[171 - Pross. Dekadenz. S. 65–66. Behrens R., Guthm?ller M. Krankes/gesundes Leben schreiben. Emile Zolas Le docteur Pascal im Umgang mit dem Heredit?ts- und Lebenswissen des ausgehenden 19. Jahrhunderts // Krankheit schreiben. Aufzeichnungsverfahren in Medizin und Literatur / Hg. von Y. W?bben und C. Zelle. G?ttingen, 2013. S. 432–457.].
В романе о вырождении наблюдается взаимодействие между приверженностью традиционной эпической линейности, телеологически заостряемой с позиций биологического детерминизма, и расшатыванием или растворением этой линейности при помощи приемов, предвосхищающих модернистское письмо. Чем больше наррация в романе о вырождении тяготеет к повторам, чем более предсказуемой становится, тем сильнее возрастает и доля описательности: для текста о дегенерации характерно покидать временну?ю ось линейности и углубляться в пространственные меандры фрагментарной действительности, в частности в пространных описаниях, выступающих – прежде всего у Золя – моделью современного человеческого восприятия как своего рода лабиринта[172 - Дэвид Багули усматривает динамический аспект натуралистического романа в напряжении, возникающем между «the imperious causality and directionality of the scientific thesis» [властной каузальностью и направленностью научного тезиса], с одной стороны, и «the disruptiveness and fragmentation of the descriptive set» [разорванностью и фрагментарностью описаний] – с другой (Baguley. Naturalist Fiction. P. 94). О «несоразмерности» повествования и описания ср. классическую работу Г. Лукача: Лукач Г. Рассказ или описание / Пер. с нем. Н. Волькенау // Литературный критик. 1936. № 8. Впрочем, преобладание описательного начала в произведениях натурализма Лукач рассматривает как проявление упадка, а не как современный литературный прием. К вопросу о притязании Золя на всеохватное изображение действительности см.: Vinken B. Zola – alles sehen, alles wissen, alles heilen. Der Fetischismus im Naturalismus // Historische Anthropologie und Literatur. Romanistische Beitr?ge zu einem neuen Paradigma der Literaturwissenschaft / Hg. von R. Behrens u. a. W?rzburg, 1995. S. 215–226.].
Это свойство романа о вырождении восходит к особой семиотической практике натурализма в целом. Представляется, что в своей программной установке на миметическую воспроизводимость действительности натурализм радикализирует семиотическую практику реализма в двояком отношении. С одной стороны, он идет еще дальше в типичной для реализма дереференциализации художественного мира[173 - Schneider S. Einleitung // Die Dinge und die Zeichen. Dimensionen des Realistischen in der Erz?hlliteratur des 19. Jahrhunderts / Hg. von S. Schneider und B. Hunfeld. W?rzburg, 2008. S. 11–24.], добиваясь «фотографической» иллюзии действительности. С другой стороны, натурализм (в известном смысле вопреки первой тенденции) продолжает реалистическую практику разрушения созданной иллюзии путем «вторжения» в нее реальности – с той, впрочем, разницей, что вторжение это оказывается «скандальным» постольку, поскольку натурализм сознательно стремится к радикальному изображению насилия, сексуальности, нищеты и т. д.
Однако вместе с тем в натуралистическом мимесисе наблюдаются специфически модернистские элементы, разительно отличающие его от мимесиса реалистического. Так, на первый взгляд может показаться, что характерная для натурализма гипертрофия descriptio, одерживающего верх над narratio, подчеркивает важность внетекстовой референции в сравнении с «романическим» началом. Но de facto достигается эффект прямо противоположный, поскольку такая гипертрофированность сообщает описаниям самостоятельный характер, заставляя действительность выглядеть случайным нагромождением атомизированных впечатлений, уже не составляющих целого. Можно было бы даже сказать, что все эти потоки реалий, упоминаемых в описаниях, а прежде всего – в характерных для натурализма каталогообразных перечислениях, кажутся чем-то реальным, чуждым фиктивному миру и в своей (неконвертируемой) настойчивости ставящим под угрозу завершенность аукториальных и эстетических порядков. Однако такому центробежному движению натуралистических текстов противодействует тенденция к пониманию действительности исключительно как проявления глубинной эпистемологической структуры, претворение которой в фиктивный мир, собственно, и составляет основную миметическую операцию натурализма.
Между этими полюсами: приверженностью принципу связного, логичного, осмысленного целого и «упадочным разложением» целостных форм[174 - О декадентском стиле как процессе разложения целого ср. слова Поля Бурже: «Un style de dеcadence est celui o? l’unitе du livre se dеcompose pour laisser la place ? l’indеpendance de la page, o? la page se dеcompose pour laisser la place ? l’indеpendance de la phrase, et la phrase pour laisser la place ? l’indеpendance du mot» (Bourget P. Charles Baudelaire [1881] // Bourget P. Cuvre Compl?tes. Vol. 1 (Critique). Paris, 1899. P. 3–20. P. 15–16). Ср. также у Фридриха Ницше: «Чем характеризуется всякий литературный декаданс? Тем, что целое уже не проникнуто более жизнью. Слово становится суверенным и выпрыгивает из предложения, предложение выдается вперед и затемняет смысл страницы, страница получает жизнь за счет целого – целое уже не является больше целым» (Ницше Ф. Случай «Вагнер» / Пер. с нем. Н. Н. Полилова // Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 5: По ту сторону добра и зла. К генеалогии морали. Случай «Вагнер». М., 2012. С. 383–422. С. 400. Курсив оригинала).]; телеологическим повествованием и фрагментарным описанием; неизменной нормой и протеической патологией, – роман о вырождении вырабатывает изобразительные формы, которые ставят его в промежуточное положение между реализмом и модернизмом. Если интерпретировать романы о Ругон-Маккарах как цикл о вырождении, можно увидеть парадоксальный характер литературы натурализма, которая, с одной стороны, кладет в основу наррации научный детерминизм, а с другой – допускает изображение лишь «непосредственных причин»: натуралист, утверждает Золя в статье «Экспериментальный роман» («Le roman expеrimental», 1879), ищет ответа на вопрос не о том, «почему» возникает то или иное явление (ответить на который невозможно), а о том, «каким образом» оно непосредственно происходит, т. е. каковы те конкретные условия, при которых возможен определенный феномен в определенной ситуации[175 - «‹…› мы никогда не будем знать первопричину вещей – мы будем знать лишь, каким образом происходит явление» (Золя Э. Экспериментальный роман / Пер. c фр. Н. Немчиновой // Золя Э. Собрание сочинений: В 26 т. Т. 24. Из сборников «Что мне ненавистно», «Экспериментальный роман». М., 1966. С. 239–280. С. 255. («‹…› nous ignorerons toujours le pourquoi des choses; nous ne pouvons savoir que le comment» – Zola Е. Le roman expеrimental // Zola Е. Cuvres compl?tes / Еd. par H. Mitterand. Vol. 10. Paris, 1968. P. 1173–1203. P. 1185). Об экспериментальной поэтике Золя см. главу III.1 этой книги.].
Фундаментальная апория позитивизма, пусть и отвергающего метафизические системы, однако в конце концов разработавшего метафизику истории, отражается в натурализме, который создает повествовательные тексты в поле напряжения между трансцендентальным, телеологическим детерминизмом и тенденцией к разрушению этой монокаузальности при помощи хаотичной, фрагментарной картины действительности. Так, умножение числа таких «непосредственных» причин в романе «Западня» приводит к множественной детерминации судьбы Жервезы Купо, чье физическое, психическое и моральное вырождение выступает следствием сразу многих факторов: наследственности (предрасположенности к алкоголизму и к лени по материнской линии); среды в самом широком смысле, т. е. и плохих условий жизни в рабочем квартале, и «общественного мнения», сложившегося о Жервезе у соседей и как будто тоже влияющего на ее поступки; а также социальной дерзости героини, стремящейся выбраться из поставленных рамок жалкого существования.
Отказ Золя от характеризации персонажей путем приписывания им размышлений о своем ненормальном состоянии[176 - В этом отношении ярким исключением выступает Жак Лантье, персонаж романа «Человек-зверь» («La b?te humaine», 1890), где замечания рассказчика о душевной ограниченности Лантье и его неспособности к рефлексии сочетаются с неотличимостью внутреннего монолога героя от несобственно-прямой речи повествования, что позволяет предположить относительное понимание героем своего состояния. О повествовательной перспективации у Золя см.: Kaiser. Wissen und Erz?hlen bei Zola. S. 25–35.] и его приверженность научно-аукториальной нарративной точке зрения обусловлены среди прочего тем обстоятельством, что цикл о Ругон-Маккарах во многом идет вслед за учением Мореля, сосредоточенным на представителях низших социальных слоев. Лишь в ходе дискурсивной интеграции учения о неврастении в теорию вырождения (гл. IV.1) высшие (буржуазные) слои общества тоже становятся протагонистами романов о вырождении: теперь патологическое служит очерчиванию современных характеров, поскольку дегенеративный обладатель расшатанной нервной системы воплощает собой чувствительность модерна[177 - Хрестоматийным примером персонажа, у которого духовное совершенствование сопровождается физическим упадком, служит Флорессас дез Эссент из романа Жориса-Карла Гюисманса «Наоборот» («? rebours», 1884). В самом начале своей «библии декаданса» Гюисманс ссылается в форме экфрасиса на нарратив о вырождении: описание портретной галереи предков выступает наглядной иллюстрацией неудержимого вырождения рода дез Эссентов. Процесс этот предстает энтропическим истощением жизненных сил семьи, выразившимся среди прочего в том, что «мужчины все более утрачивали мужественность» (Гюисманс Ж.-К. Наоборот / Пер. с фр. Е. Л. Кассировой под ред. В. М. Толмачева. М., 2005. С. 9). Однако «Наоборот» нельзя считать романом о вырождении, поскольку обозначенный было нарратив не получает дальнейшего развития: описание причудливого, синестетического восприятия протагониста заменяет собой любую форму повествования, тем самым блокируя нарративное развитие наследственной линии.]. При этом повествовательная перспектива – если использовать терминологию Жерара Женетта[178 - Женетт Ж. Повествовательный дискурс / Пер. с фр. Н. Перцова // Женетт Ж. Фигуры: В 2 т. Т. 2. Фигуры III. М., 1998. С. 60–281. C. 205–212.] – сменяется с аукториальной нулевой фокализации на фокализацию внутреннюю: «ненормальная» психика дегенерата становится «героиней» истории, на уровне действия почти лишенной событий[179 - Об отношениях обмена и взаимодействия между учением о неврастении и литературой см.: Neurasthenie. Die Krankheit der Moderne und die moderne Literatur / Hg. von M. Bergengruen u. a. Freiburg i. Br., 2010.].
Такое эстетизирующее обращение полюсов «нормы» и «патологии», которое обозначилось в скандинавских романах о вырождении 1880?х годов, в значительной степени характерно для «Будденброков» («Buddenbrooks») Томаса Манна[180 - Дальнейшие рассуждения о «Будденброках» опираются на работу Просс: Pross. Dekadenz. S. 256–282.]. Можно заметить, как по мере развития действия фокус изображения все больше смещается внутрь сознания персонажей, а ненормальные проявления наблюдаются скорее в сфере восприятия и мышления, нежели поступков. Вместе с тем эта беспрецедентная в немецкой литературе психологизация вырождения, финальным аккордом которой становится изображение нервной гиперчувствительности на примере Ганно Будденброка, сопровождается деаукториализацией и умышленно неоднозначной подачей научного знания, лежащего в основе нарратива. Знание это уже не исходит из аукториальной повествовательной инстанции, а содержится в преднамеренно затемненной форме – речь здесь идет о туманной «обреченности упадку» – на уровне персонажей, которые могут лишь строить предположения о применимости интерпретационной схемы нервного вырождения к истории своей семьи[181 - Каролина Просс (там же) подчеркивает, как важны для этих попыток интерпретации «записки» или «семейные бумаги», куда Будденброки заносят главные события в истории семьи.].
Как и Морель, Маньян тоже считает, что телесные стигматы сопутствуют душевным, свидетельствуя о нарушениях развития и функционирования нервной системы[66 - Leibbrand, Leibbrand-Wettley. Der Wahnsinn. S. 531.]. Это определение соматических признаков вырождения, восходящее к старой физиогномической традиции, обеспечивает отклонениям очевидный характер в обход эмпирической верифицируемости, приписывая физическим аномалиям функцию «наглядных доказательств»[67 - Stingelin M. Der Verbrecher ohnegleichen. Die Konstruktion «anschaulicher Evidenz» in der Criminal-Psychologie, der forensischen Physiognomik, der Kriminalanthropometrie und der Kriminalanthropologie // Physiognomie und Pathognomie. Zur literarischen Darstellung von Individualit?t. Festschrift f?r Karl Pestalozzi zum 65. Geburtstag / Hg. von W. Groddeck und U. Stadler. Berlin; New York, 1994. S. 113–133.].
Однако Маньян придает большее значение душевным стигматам дегенерата, общим знаменателем которых выступает «дисгармония, неуравновешенность душевной жизни»[68 - Magnan. Psychiatrische Vorlesungen. Bd. 2/3. S. 4.]: дегенеративное состояние представляет собой общее функциональное нарушение всего «нервного механизма», влекущее за собой «общую нестабильность»[69 - Magnan. Psychiatrische Vorlesungen. Bd. 2/3. S. 18.]. Эту преднамеренно не уточняемую dеsеquilibration Маньян понимает как свойственное дегенерату патологическое «состояние» (еtat), которое существенно отличает его от человека «нормального», так как последствия этого «состояния» намного серьезнее проявлений морелевского «нервного диатеза»: это уже не предрасположенность как нечто потенциальное, а «своего рода постоянный причинный фон, исходя из которого может развиться ряд процессов, ряд эпизодов, которые как раз и будут болезнью»[70 - Фуко М. Ненормальные. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974–1975 учебном году / Пер. с фр. А. В. Шестакова. СПб., 2004. С. 370.]. Это «неизменное»[71 - Magnan. Psychiatrische Vorlesungen. Bd. 2/3. S. VII.] (непрекращающееся) состояние обладает «безграничной способностью интеграции»[72 - Фуко. Ненормальные. С. 371.], позволяющей подвести под теорию вырождения не только почти любые душевные и нервные заболевания (от легких функциональных до тяжелых органических), но и ряд форм девиантного поведения, таких как преступность и проституция[73 - Nye. Crime, Madness, and Politics. P. 132–170; Rimke H., Hunt A. From Sinners to Degenerates: The Medicalisation of Morality in the Nineteenth Century // History of the Human Sciences. 2002. № 15/1. P. 59–88.]. Дегенеративное состояние – это «ненормальный цоколь»[74 - Фуко. Ненормальные. С. 370.], на котором в любой момент могут возникнуть какие угодно syndromes еpisodiques: число синдромов, этих «разных смен платья, в которые переоблачается один и тот же больной – дегенерат», «бесконечно»[75 - Magnan. Psychiatrische Vorlesungen. Bd. 2/3. S. IX.]. Пауль Юлиус Мёбиус, издатель маньяновских «Лекций по психиатрии», перечисляет во введении следующие патологии:
1) Болезненное вопрошание, болезненное мудрствование. Болезненная склонность к сомнениям (folie du doute), встречающаяся или сама по себе, или в сочетании с боязнью прикосновений (dеlire du toucher). 2) Боязнь острых предметов (айхмофобия), разновидность боязни прикосновений: иглы и любые острые предметы внушают больному страх. 3) Агорафобия, клаустрофобия, топофобия. Последняя представляет собой страх определенных мест. 4) Дипсомания. 5) Ситиомания, непреодолимая потребность принимать пищу. Больные все время едят. 6) Пиромания, навязчивые фантазии о совершении поджога или навязчивая страсть к поджигательству. 7) Пирофобия, беспричинная боязнь огня. 8) Клептомания. 9) Клептофобия, беспричинный страх больного что-либо украсть или беспочвенные опасения, будто он совершил кражу. 10) Ониомания, страсть к совершению покупок. 11) Игромания. 12) Навязчивые идеи, подталкивающие к убийству. 13) Влечение к самоубийству. ‹…›. 14) Ономатомания ‹…›. 15) Арифмомания, навязчивый счет или приписывание отдельным словам зловещего смысла. 16) Зоофиломания, болезненная любовь к животным. 17) Половые извращения, носящие характер одержимости. 18) Абулия, не обыкновенное слабоволие, а неспособность исполнить желаемое из?за мнимого противодействия некоей внешней силы, сопровождаемая чувством страха[76 - Ibid.].
В последней трети XIX века концепция вырождения, благодаря своему безграничному полиморфизму и этиологической пластичности, превратилась в модель интерпретации мира, создание которой стало реакцией европейских культур на страх перед наступлением аномии, питаемый представлением о пугающей «изнанке прогресса»[77 - Nye. Crime, Madness, and Politics. P. 97–170; Degeneration: The Dark Side of Progress / Ed. by J. E. Chamberlin and S. L. Gilman. New York, 1985; Drost W. Du Progr?s ? rebours. Fortschrittsglaube und Dekadenzbewu?tsein im 19. Jahrhundert: Das Beispiel Frankreich // Fortschrittsglaube und Dekadenzbewu?tsein im Europa des 19. Jahrhunderts / Hg. von W. Drost. Heidelberg, 1986. S. 13–29; Pick D. Faces of Degeneration: A European Disorder, c. 1848 – c. 1918. Cambridge, 1989; Roelcke. Krankheit und Kulturkritik.]. В теории вырождения с самого начала присутствует антимодернистское социокультурное измерение: уже Морель, оглядываясь на Руссо, объясняет возникновение дегенеративных феноменов влиянием «неестественных» социальных структур XIX века[78 - «[L]’influence des institutions sociales en dеsaccord avec la nature». Morel. Traitе des dеgеnеrescences. P. 3.], общественными процессами модернизации[79 - Morel. Traitе des dеgеnеrescences. P. 50–51. См. также главу IV этой книги.]. Маньян говорит в связи с этим об «эксцессах» современной цивилизации как о первопричине дегенерации[80 - «Les exc?s d’une civilisation avancеe». Legrain, Magnan. Les dеgеnеrеs. P. 80.]. Теория вырождения обещает представить проявления социальной дезинтеграции чем-то однозначным и очевидным (не в последнюю очередь при помощи подробных перечней стигматов) и, таким образом, «защищает общество»[81 - Фуко М. «Нужно защищать общество». Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975–1976 учебном году / Пер. с фр. Е. А. Самарской. СПб., 2005. С. 266–278.].
В этом контексте Юрген Линк называет концепцию вырождения «протонормалистской (protonormalistisch)» реакцией на «страх перед денормализацией (Denormalisierung)», возникающий в XIX столетии из?за размывания границ между нормой и отклонением[82 - Link J. Versuch ?ber den Normalismus. Wie Normalit?t produziert wird. 2. Aufl. Opladen; Wiesbaden, 1999. S. 236–237.]. Жорж Кангилем связывает эту смену парадигмы с так называемым «принципом Бруссе», согласно которому разница между «нормальным» и «патологическим» из качественной перешла в количественную[83 - Canguilhem G. Le normal et le pathologique. Paris, 1966. P. 18–31.]. Норма становится «динамическим понятием, поскольку нормальность определяется через нормативность, т. е. через установление того, что следует считать нормальным»[84 - Warning R. Kompensatorische Bilder einer «wilden Ontologie»: Zolas Les Rougon-Macquart // Poetica. 1990. № 22. S. 355–338. S. 359.]. С одной стороны, теория вырождения считает переход от нормального к патологическому цепью незаметных изменений, начало которой теряется в сфере нормальности[85 - «Если не проведено границы, очерчивающей суть нормального, то ни один индивид не может считаться раз и навсегда надежно защищенным от денормализации» (Link. Versuch ?ber den Normalismus. S. 541).]; с другой стороны, – и в этом состоит протонормалистская сторона теории – дегенерат изображается как сущностно Другой, как тот, чья природа испорчена (как правило, бесповоротно) дефективной наследственностью. Таким образом, теория вырождения заново устанавливает строгую границу между нормой и отклонением, в то же время размывая ее слишком широким пониманием патологии[86 - Эта парадоксальность ярко проявилась в трудах П. Ю. Мёбиуса: с одной стороны, он утверждает, что понятие вырождения позволяет постичь «пограничные состояния» между душевной болезнью и здоровьем; с другой стороны, указывает, что теория вырождения вообще сделала невозможным «утверждение о совершенной нормальности того или иного человека» (M?bius P. J. ?ber Entartung. Wiesbaden, 1900. S. 102–111).].
Научное повествование и истории болезней. Вырождение как нарратив
Действенность концепции вырождения во второй половине XIX века – и как медицинской теории, и как социально- и культурно-критического дискурса – можно понять лишь с учетом ее нарративного аспекта. Нарративный потенциал дегенерации – это не только и не столько структурная предпосылка для ее художественного освоения в натурализме, сколько неотъемлемая центральная составляющая самой психиатрической теории: «Лишь генеалогический рассказ устанавливает между явлениями значимую связь, которая вне нарративной модели осталась бы бездоказательной»[87 - F?cking. Pathologia litteralis. S. 301.]. Ведь теория вырождения всегда сохраняла статус умозрительной гипотезы, так как существование механизмов наследования, обеспечивающих передачу и прогрессирование приобретенных поражений, невозможно было доказать эмпирически[88 - Weingart P. u. a. Rasse, Blut und Gene. Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in Deutschland. Frankfurt a. M., 1988. S. 77–79.].
Взаимная обусловленность знания и повествовательности делает теорию вырождения хотя и крайним, однако отнюдь не особым случаем в научном дискурсе эпохи: ее нарративность основана на «генетической мысли» (Рудольф Вирхов)[89 - F?cking. Pathologia litteralis. S. 19.] XIX века, т. е. на концептуализации временной глубины жизни, которой естественная история XVIII столетия еще не знала[90 - Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. В. П. Визгина и Н. С. Автономовой. СПб., 1994. С. 243–274; Lepenies W. Das Ende der Naturgeschichte. Wandel kultureller Selbstverst?ndlichkeiten in den Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts. M?nchen; Wien, 1976.]. Эта смена парадигмы заставила науки о жизни усиленно заняться поиском структур повествовательности, наилучшим образом подходящих для выражения идей темпорализации[91 - О нарративной конъюнктуре XIX века, «an extraordinary need or desire for plots» [исключительной потребности в сюжетах или желании сюжетов], см.: Brooks P. Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative. New York, 1984. P. 5.]. Так, наррация составляет неотъемлемый элемент дарвиновского учения о происхождении видов, где эволюционный «сюжет» используется для придания научной убедительности эмпирически не доказуемому и не поддающемуся точной формализации знанию[92 - Beer G. Darwin’s Plots. Evolutionary Narrative in Darwin, George Eliot and Nineteenth-Century Fiction. 3rd ed. Cambridge, 2009. P. 80.].
В медицине рубежа XVIII–XIX столетий наблюдается переход от естественно-научного, преимущественно нозологического подхода, основанного на представлении об онтологически неизменной природе болезней, к подходу клиническому, для которого важно протекание болезни во времени[93 - Фуко М. Рождение клиники / Пер. с фр. А. Ш. Тхостова. М., 2010; Lepenies. Das Ende der Naturgeschichte. S. 78–87.]. Из новаторского «Медико-философского трактата о душевных болезнях» («Traitе mеdico-philosophique sur l’aliеnation mentale», 1801) Филиппа Пинеля видно, что «акцент в семиотической практике смещается на этапы истории болезни – как своего рода знакообразующие элементы»[94 - Frey C. Am Beispiel der Fallgeschichte. Zu Pinels «Traitе mеdico-philosophique sur l’aliеnation» // Das Beispiel. Epistemologie des Exemplarischen / Hg. von J. Ruchatz u. a. Berlin, 2007. S. 263–278. S. 271. Курсив оригинала.]:
Трактат Пинеля ‹…› исходит из положения о бессвязном, не поддающемся интерпретации характере внешних признаков болезни в случае, когда речь идет о психических расстройствах. ‹…› Лишь история болезни позволяет в какой-то мере преодолеть и упорядочить сумбурную разрозненность отдельных проявлений[95 - Ibid. S. 272.].
Морелевская концепция вырождения радикализирует этот нарративный аспект психиатрического дискурса: отныне повествовательные приемы призваны компенсировать эмпирическую слабость теории. Таким образом, речь идет не только и не столько о ретроспективном придании знанию наглядности, сколько о самом производстве знания: идея дегенерации немыслима в отрыве от соответствующей повествовательной модели.
В рамках теории вырождения все патологические девиантные явления выступают составляющими причинно-временного парадигматического ряда, связанными между собой отношением метонимии. Внутри этого органического континуума не существует такого болезненного проявления, которое не могло бы быть дегенеративным симптомом, так как уже само включение в историю вырождения устанавливает причинность и, следовательно, создает смысл. Временная последовательность подразумевает здесь и причинную связь, поскольку в нарративе о вырождении воплощается принцип post hoc, ergo propter hoc, т. е. приравнивания временной последовательности к логическому следованию: одно, следующее за другим, понимается еще и как следующее из другого[96 - Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму / Пер. с фр., сост., вступ. ст. Г. К. Косикова. М., 2000. С. 196–238. С. 207; Korthals H. Zwischen Drama und Erz?hlung. Ein Beitrag zur Theorie geschehendarstellender Literatur. Berlin, 2003. S. 91–92. Ивонн Вюббен не учитывает этого аспекта и потому приходит к противоположному выводу, согласно которому рассказ о вырождении представляет собой «а-каузальное повествование»: «Учение о вырождении не допускает каузального повествования, предусматривая лишь хронологическое перечисление отдельных событий» (W?bben Y. Verr?ckte Sprache. Psychiater und Dichter in der Anstalt des 19. Jahrhunderts. Konstanz, 2012. S. 193).].
Теория вырождения обретает научную доказательность исключительно благодаря нарративной структуре, в которой действует линейный временной порядок, вносящий смысл в бескрайний жизненный континуум[97 - О смыслопорождающей функции нарративов единственно «в силу их структурного устройства» см.: M?ller-Funk W. Die Kultur und ihre Narrative. Wien; New York, 2002. S. 29.]. Это происходит двояким образом. С одной стороны, путем установления отправной точки дегенерации, «трещины» (f?lure) в родословной какой-либо семьи, причем поиск первого звена дегенеративной цепи, по сути, не может привести к достоверному результату ввиду многообразия рассматриваемых патологических явлений и вынужденной необходимости полагаться на рассказы самих пациентов о своих предках, редко поддающиеся проверке[98 - F?cking. Pathologia litteralis. S. 298.]. С другой стороны, указанный эффект достигается развитием монокаузальной схемы дегенеративного процесса, предусматривающей неизбежный конец истории – угасание семьи на протяжении считаных поколений.
Модель дегенерации как конечной истории, имеющей начало, середину и окончание, требует аукториального субъекта познания, «который, направляя взгляд в прошлое и будущее, устанавливая необходимые аналогии и используя в высшей степени спекулятивные теории о наследственности (hеrеditе), должен подняться над эмпирическими данными»[99 - Ibid.]. Психиатр теперь выступает – mutatis mutandis – в роли рассказчика, который из аморфного континуума «событий», из неподатливой, понимаемой в биологико-виталистском ключе «жизни»[100 - О понимании жизни как фундаментальной витальной силы в науке XIX века см.: Фуко. Слова и вещи. С. 288–304.] отбирает определенные элементы: «трещину в семейном организме», конкретные события и болезненные проявления в жизни пациента и его предков, – и увязывает все это в «историю», т. е. пролагает через события «смысловую линию», тем самым помещая отобранный материал в определенную перспективу[101 - О понятиях «событие», «история» и «смысловая линия» как составляющих нарративных трансформаций в повествовательном тексте см.: Шмид В. Нарратология. М., 2003. С. 158–174. Впрочем, придерживающийся теории вырождения психиатр сопоставим скорее с рассказчиком документального – а не художественного – текста, поскольку фиктивный рассказчик выдумывает заведомо фиктивные события, тогда как события документального текста обладают бытийной автономией. О наррации в психиатрическом дискурсе XIX века см.: W?bben Y. Die kranke Stimme. Erz?hlinstanz und Figurenrede im Psychiatrie-Lehrbuch des 19. Jahrhunderts // Der ?rztliche Fallbericht. Epistemische Grundlagen und textuelle Strukturen dargestellter Beobachtung / Hg. von R. Behrens und C. Zelle. Wiesbaden, 2012. S. 151–170.]. Нарратив о вырождении функционирует подобно динамическому силовому полю, в котором одновременно действует, с одной стороны, линеаризация, сегментирующая повествование, гипертрофирующая его связность и «усмиряющая» хаотическую «агрессию» патологического, а с другой – принцип максимальной семантической открытости. Это сообщает нарративу чрезвычайную гибкость при описании разрозненных девиантных проявлений и компенсирует отсутствие эмпирических доказательств. Такая нарративная гибкость делает теорию вырождения нефальсифицируемой[102 - Thomе H. Autonomes Ich und «inneres Ausland». Studien ?ber Realismus, Tiefenpsychologie und Psychiatrie in deutschen Erz?hltexten (1848–1914). T?bingen, 1993. S. 173.].
Таким образом, жанр истории болезни совершенно необходим для пояснения теории, которая сама по себе доказательств представить не может[103 - Истории частных случаев вырождения – одно из выражений курса на описание индивидуальных случаев, взятого науками о человеке на рубеже XVIII–XIX столетий и впервые описанного Мишелем Фуко (Рождение клиники). Об эпистемологии и поэтологии форм научно-литературного письма в жанре case studies см., в частности: Pethes N. Vom Einzelfall zur Menschheit. Die Fallgeschichte als Medium der Wissenspopularisierung zwischen Recht, Medizin und Literatur // Popularisierung und Popularit?t // Hg. von G. Blaseio u. a. K?ln, 2005. S. 63–92; Fallstudien: Theorie – Geschichte – Methode / Hg. von J. S??mann u. a. Berlin, 2007; Fall. Fallgeschichte. Fallstudie. Theorie und Geschichte einer Wissensform / Hg. von S. D?well und N. Pethes. Frankfurt a. M.; New York, 2014; Was der Fall ist. Casus und Lapsus / Hg. von I. M?lder-Bach und M. Ott. Paderborn, 2014; Pethes N. Literarische Fallgeschichten. Zur Poetik einer epistemologischen Schreibweise. Konstanz, 2016.]. В данном случае «нарратологическому дискурсу» отдается явное методологическое преимущество перед «семиологическим дискурсом»[104 - Понятия «семиологического» и «нарратологического» дискурсов заимствованы из: Kiceluk S. Der Patient als Zeichen und als Erz?hlung: Krankheitsbilder, Lebensgeschichten und die erste psychoanalytische Fallgeschichte // Psyche. 1993. № 47/9. S. 815–854.]: семиотическая практика, которая основана «на описательной модели, предполагающей наличие дискретной патологической сущности со специфической этиологией, равно как и специфическим протеканием и результатом», и понимающей болезнь как «особую группу клинических признаков»[105 - Ibid. S. 817.], оказывается здесь недостаточной. На смену «визуально-семиотической деятельности», выстраиванию «клинической картины» приходит теперь «нарратологическая» модель, направленная на «выразимое словами и носящее временной характер» и нацеленная на «создание клинической „истории“»[106 - Ibid. Теория вырождения не укладывается в схему развития обеих моделей, которые выделяет Стефани Кайслук, а вслед за ней и Михаэла Ральзер (Ralser M. Der Fall und seine Geschichte. Die klinisch-psychiatrische Fallgeschichte als Narration an der Schwelle // Wissen. Erz?hlen. Narrative der Humanwissenschaften. Hg. von A. H?cker. Bielefeld, 2006. S. 115–126): история психиатрии XIX века отнюдь не представляет собой триумфального шествия «семиологического дискурса», а «нарратологический дискурс» утвердился лишь с приходом Адольфа Майера и, прежде всего, Зигмунда Фрейда. Как и у Пинеля (ср.: Frey. Am Beispiel der Fallgeschichte. S. 271–272), в теории вырождения семиотический подход оказывается недостаточным: создание как можно более полной картины болезни обязательно дополняется реконструкцией генеалогической истории заболевания. О жанре психиатрической истории болезни см. также: Steinlechner G. Fallgeschichten. Krafft-Ebing, Panizza, Freud, Tausk. Wien, 1995; Zum Fall machen, zum Fall werden. Wissensproduktion und Patientenerfahrung in Medizin und Psychiatrie des 19. und 20. Jahrhunderts / Hg. von S. Br?ndli. Frankfurt a. M.; New York, 2009; W?bben. Verr?ckte Sprache; Zelle C. Zur Sachprosa des «Falls». Psychiatrische Fallerz?hlungen um 1850/70 in der «Allgemeinen Zeitschrift f?r Psychiatrie» und im «Archiv f?r Psychiatrie und Nervenkrankheiten» // Fallgeschichten. Text- und Wissensformen exemplarischer Narrative in der Kultur der Moderne / Hg. von S. Br?ndli. W?rzburg, 2015. S. 47–71.].
На примере истории болезни «jeune imbеcile Joseph…» [молодого имбецила Жозефа] Марк Фёкинг показал, каким образом эти нарративные операции функционируют у Мореля[107 - Morel. Traitе des dеgеnеrescences. P. 123–127; F?cking. Pathologia litteralis. S. 299–305.]. Морель рассматривает «слабоумие» Жозефа не как самостоятельную болезнь, а как конечную точку, как последний – поскольку приведший к бесплодию пациента – патологический эпизод семейной истории вырождения, начало которой Морель усматривает в пьянстве прадеда. Впрочем, такие временны?е рамки вырождения представляются всего лишь нарративной установкой, поскольку неочевидно, почему нервный диатез начинается именно с прадеда, а не с более отдаленного предка[108 - По мнению Фёкинга, то обстоятельство, что нарратив относит отправную точку семейного вырождения к эпохе Великой французской революции, может иметь символическую антимодернистскую окраску: F?cking. Pathologia litteralis. S. 302.]. Диахронический взгляд вглубь семейной истории «доказывает» предусматриваемое теорией прогрессивное, изменчивое развитие дегенеративного процесса: все «странности» потомков прадеда – dеpravation, abrutissement moral, acc?s maniaques, tendances hypocondriaques, tendances homicides, stupiditе[109 - Morel. Traitе des dеgеnеrescences. P. 125.] и т. д. – Морель интерпретирует как проявления потомственного нервного диатеза; затем они подводятся «под не зависящую от наблюдений эпистемологическую генеалогическую схему, позволяющую отличать случайные факты от детерминированных»[110 - F?cking. Pathologia litteralis. S. 304.].
Итак, с целью сделать теорию вырождения правдоподобной Морель задействует – разумеется, бессознательно, но совершенно явным образом – когнитивные, эпистемологические (в самом широком смысле) возможности повествования[111 - Об эпистемологической плодотворности повествования в научном дискурсе см.: Koschorke A. Wahrheit und Erfindung. Grundz?ge einer Allgemeinen Erz?hltheorie. Frankfurt a. M., 2012. S. 328–398. О значении нарративных структур в научном дискурсе см., в частности: Harrе R. Some Narrative Conventions of Scientific Discourse // Narrative in Culture. The Use of Storytelling in the Sciences, Philosophy, and Literature / Ed. by C. Nash. London; New York, 1990. P. 81–101; Holmes F. L. Argument and Narrative in Scientific Writing // The Literary Structure of Scientific Argument: Historical Studies / Ed. by P. Dear. Philadelphia, 1991. P. 164–181; Clark W. Narratology and the History of Science // Studies in History and Philosophy of Science. 1995. № 26. P. 1–71; Kreiswirth M. Merely Telling Stories? Narrative and Knowledge in the Human Sciences // Poetics Today. 2000. № 21/2. P. 293–318.]. Повествовательная связность и замкнутость нарратива о вырождении позволяют упростить совокупность патологических явлений, тем самым преодолев их внутренне случайный характер. Уже упомянутые приемы: установление причинных связей путем простого включения различных патологий в нарративную синтагму и завершение нарратива неизбежным концом дегенерации, наступающим на протяжении считаных поколений, – обеспечивают «обнадеживающую» нормализацию патологического, которое тем самым лишается своей хаотической, непостижимой разорванности[112 - О нормализирующей функции нарратива, основанной на синтагматической причинно-следственной связи и завершенности (closure), см.: Abbott H. P. The Cambridge Introduction to Narrative. Cambridge, 2002. P. 40–66.].
Однако это обуздание изменчивой природы вырождения становится возможным главным образом благодаря тому обстоятельству, что дегенерация не только удовлетворяет минимальным критериям нарратива, представляя собой репрезентацию цепи событий или «изменение некоей исходной ситуации» во времени[113 - Шмид. Нарратология. С. 13. См. также: Abbott. The Cambridge Introduction to Narrative. P. 13.], но еще и является базовой образцовой схемой, допускающей изложение в бесчисленном множестве вариаций. Дегенерация в качестве masterplot[114 - Abbott. The Cambridge Introduction to Narrative. P. 47.] функционирует как устойчивая когнитивная модель, позволяющая «возводить избыток неупорядоченных эмпирических данных к типическим, легко узнаваемым формам»[115 - Koschorke. Wahrheit und Erfindung. S. 29.] и устанавливать логические связи благодаря одной лишь связности повествования.
Эти свойства нарратива как повествовательной модели особенно важны в трудах В. Маньяна: вследствие осуществленных им расширения и обобщения теории, о которых говорилось выше, появляется минимальный общий знаменатель, позволяющий причислить к проявлениям дегенерации неврозы, психозы и девиантное поведение – «неуравновешенность душевной жизни»[116 - Magnan. Psychiatrische Vorlesungen. Bd. 2/3. S. 4.] человека. Уже сама эта дисгармония толкуется Маньяном как «однозначный» симптом состояния, претерпевающего непрерывные превращения: «неустойчивость» характерна как для дегенерата, так и для дегенерации. Теперь принципиальный полиморфизм вырождения выражается уже не в трансформации из поколения в поколение, а в самом индивиде: на разных этапах жизни дегенерация принимает форму различных патологий, представляющих собой «эпизоды» одной и той же «истории»[117 - Ibid. S. VIII.].
В написанных Маньяном историях болезней дегенерация обеспечивает широкий набор сюжетных вариаций, главная роль в которых принадлежит нестабильности. На уровне симптоматики это проявляется – независимо от конкретной болезни, в которую непосредственно вылилась дегенерация, – в импульсивности, скачкообразном и непредсказуемом характере припадков[118 - «Потребность» или «навязчивое влечение» всегда «непреодолимы», навязчивые мысли возникают «внезапно, без видимого повода». Ibid. S. 18–19.]. Неуправляемый характер отклонений[119 - Маньян пишет об одном случае дипсомании: «Стоило этой женщине, столь целомудренной и скромной в промежутках между приступами, начать пить, как она утрачивала всякое самообладание, всякое чувство стыда» (Ibid. S. 82).], неподвластных воле больного, подразумевает в первую очередь бессмысленность и бесцельность навязчивых действий и идей, представляющих собой напрасную трату энергии[120 - Об одном случае «тиков» и «навязчивых действий» говорится: «С утра до вечера он совершал навязчивые и совершенно бессмысленные движения» (Ibid. S. 20).]. Отсутствие у действий целенаправленности отличает дегенерата от «нормального» человека, способного оптимально распределять свои силы. Дегенерация предстает энтропической, изменчивой силой, внезапные и немотивированные превращения[121 - Маньян пишет о «дегенеративном помешательстве»: «Вся суть во внезапном возникновении бредовых идей. ‹…› Формы бывают самые разные: мания, мистицизм, эротизм, мания величия и т. д. ‹…› Одна форма перетекает в другую; больной, вчера одержимый манией величия, сегодня выказывает бред преследования, а через несколько дней превратится в помешанного ипохондрика» (Ibid. S. 25).] которой составляют полную противоположность процессу постепенного развития, характерному для эпохи прогресса[122 - О связи дегенерации и энтропии см.: Degeneration / Ed. by Chamberlin and Gilman. P. 271–275.].
Достижение осмысленной связности и «логическое» обуздание этого хаоса первобытных инстинктов становятся возможны исключительно благодаря повествовательной схеме, позволяющей очертить смысловой горизонт путем повторения одного и того же. Почти безграничному разнообразию симптомов противостоит однообразное постоянство накапливающихся историй болезней, похожих между собой с точки зрения семантики, структуры и языка описания. На парадигматическом уровне изображаемые феномены утрачивают свой пугающий полиморфизм в тот момент, когда оказываются истолкованы как симптомы наследственно обусловленного вырождения. На синтагматическом уровне нарративному обузданию дегенерации способствуют повторяющиеся элементы, такие как последовательность структурных сегментов (диагноз, наличие патологий у родителей и других родственников, изображение дегенеративного процесса как цепи синдромов в порядке появления, информация о лечении и указание на дегенеративное потомство) и топосы[123 - Ср., в частности, топос проявления симптомов уже в детском возрасте, всегда получающий одну и ту же языковую реализацию (следующие примеры взяты из разных историй болезней): «У него сызмальства имелись странные идеи»; «В воспитательном заведении Жоржетта с ранних лет выделялась своей распущенностью»; «Уже в раннем возрасте у больного проявились некоторые моральные извращения»; «Больной с детства отличался чудаковатостью и суеверностью» (Magnan. Psychiatrische Vorlesungen. Bd. 2/3. S. 20, 26, 31, 50).]. Повторяя одну и ту же (интерпретационную) схему, авторы историй болезней создают нарратив, позволяющий выводить одну и ту же смысловую линию из безграничной референциальности. Примечательно, что эта смысловая линия проявляется также тогда, когда остается невидимой, т. е. в промежутках, когда больной – ввиду скачкообразного течения болезни – кажется нормальным[124 - «При относительно слабой предрасположенности или при особо благоприятных условиях жизни дегенераты могут долгое время внешне ничем не отличаться от здоровых» (Ibid. S. X).]. Дегенерация не исчерпывается патологическими проявлениями. Ее суть неизбежно остается смутной и неуловимой, так как наследуются не те или иные патологии, а само вырождение[125 - О вырождении как self-reproducing force [самовоспроизводящейся силе] см.: Cartron. Degeneration and «Alienism». P. 159.].
Ввиду своей детерминистской предсказуемости нарратив о вырождении, каким он предстает в написанных Маньяном историях болезней, обладает низким уровнем событийности, так как частые изменения состояния, неожиданные и необъяснимые для самого больного, в глазах психиатра-интерпретатора являются всего лишь этапами одного и того же дегенеративного процесса и, соответственно, не представляют собой существенных перемен. Если обратиться к выдвинутому Вольфом Шмидом понятию события[126 - Шмид. Нарратология. С. 13–18.], то можно увидеть, что описанные у Маньяна происшествия не удовлетворяют критериям «непредсказуемости» и «неповторяемости», которые, наряду с другими условиями, определяют уровень событийности того или иного изменения[127 - О разнице между простым событием, предполагающим только изменение состояния (event I), и событием более сложным, удовлетворяющим определенным критериям, например непредвиденности (event II), см.: H?hn P. Event and Eventfulness // Handbook of Narratology / Ed. by P. H?hn et al. Berlin; New York, 2009. P. 80–97.].
Впрочем, тексты о вырождении оказываются бессобытийными и в более широком смысле. Нарратив о вырождении знает лишь одно настоящее событие – начало самой дегенерации, выступающее «скандальным» отклонением от «нормального» человеческого типа, т. е. пересечением антропологической границы. Согласно данному Юрием Лотманом семиотическому определению события[128 - Hauschild С. Jurij Lotmans semiotischer Ereignisbegriff. Versuch einer Neubewertung // Slavische Erz?hltheorie. Russische und tschechische Ans?tze / Hg. von W. Schmid. Berlin; New York, 2009. S. 141–186.], событие (происшествие) – это «значимое уклонение от нормы»[129 - Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998. С. 14–285. С. 224.], «пересечение границы запрета»[130 - Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики // Там же. С. 288–372. С. 339.] между разными семантическими полями. Однако в нарративе о вырождении «трещина» в семейной наследственности фигурирует уже не только как начало рассказа, но и как своего рода протособытие, перемещающее пораженную семью через границу между семантическими полями нормального и патологического[131 - При этом вся семья – вместе со своим наследственным материалом – в медицинском и семиотическом смысле выступает в роли «пациента», переживающего изменение состояния.]. Это протособытие, аналептически изложенное в историях болезней, в свою очередь, создает замкнутый космос дегенерации, «запрещающую границу» которого больше нельзя пересечь: протагонисты отдельных историй болезней «рождаются» в предзаданный нарративный мир вырождения, откуда нет выхода. Их метаморфозы вследствие тех или иных новых патологий уже не представляют собой повторного пересечения границы, а лишь подтверждают неизменное как с медицинской, так и с семиотической точки зрения состояние (еtat). Поэтому тексты о вырождении – в терминологии Лотмана – это «бессюжетные» тексты, моделирующие замкнутый мир, незыблемое устройство которого подтверждается снова и снова[132 - О различии между «бессюжетными» и «сюжетными», или «мифологическими», текстами см.: Лотман. Структура художественного текста. С. 226–229; Лотман Ю. М. Происхождение сюжета в типологическом освещении // Лотман Ю. М. Статьи по семиотике и топологии культуры: В 3 т. Т. 1. Таллин, 1992. С. 224–242.].
В маньяновских историях болезней может показаться странным тот удивительный факт, что в них отсутствуют существенные составляющие нарратива о вырождении, такие как начало, «трещина» в «семейном организме», а главное – прогрессирующее развитие вырождения, качественное нарастание патологий из поколения в поколение. Скупые упоминания дегенеративных симптомов у родителей[133 - Подчас эти симптомы граничат с абсурдом, когда речь идет не о болезнях, а о «причудах». Ср., в частности: «Наряду с прочими странностями, отец его имел обыкновение отирать лицо кроличьей шкуркой» (Magnan. Psychiatrische Vorlesungen. Bd. 2/3. S. 45).], а иногда даже лишь у более или менее близких родственников обозначают пунктирную линию наследственности, начало которой остается невыясненным, а развитие крайне редко носит прогрессирующий характер; как правило, все патологии рассматриваются как равнозначные[134 - Это объясняется, в частности, тем фактом, что семейные истории редко охватывают более двух поколений. Напротив, в историях болезней, написанных Морелем, очень важным моментом выступает развитие болезни на протяжении нескольких поколений (F?cking. Pathologia litteralis. S. 299–305).]. Анализы Маньяна – это портреты единичных, пребывающих в постоянном превращении «нестабильных сущностей», предполагающие, однако не изображающие incrementum дегенерации несмотря на необходимость представить «доказательства» вырождения. Однако этот классический circulus vitiosus отнюдь не опровергает теорию, а скорее раскрывает сущность дегенерации как (выражаясь языком Фуко) объективной трансценденталии: принципа, предпосланного феноменологическим фактам как условие их возможности, однако при этом недоступного позитивному познанию. Позитивистская наука маскировала эту характерную для эпистемы XIX века апорическую дихотомию эмпирии и глубинной метафизики[135 - Фуко. Слова и вещи. С. 269–274.], стремясь представлять эти трансценденталии как нечто такое, что можно постичь из эмпирического наблюдения явлений.
II.2. Эпическая линейность, разрыв наррации и литературный модернизм. Роман о вырождении
«Примером семейной дегенерации, обнаруживающим влияние теории Мореля, служит цикл романов Золя о Ругон-Маккарах»[136 - Kraepelin E. Psychiatrie. Ein Lehrbuch f?r Studierende und ?rzte. Bd. 1. 8. Aufl. Leipzig, 1909. S. 188.]. Это высказывание Эмиля Крепелина, содержащееся в его новаторском учебнике психиатрии, свидетельствует о сильном взаимопроникновении науки и литературы в дискурсе о вырождении. Конечно, использование художественного романного цикла в качестве иллюстрации морелевского учения не лишено уничижительных коннотаций, поскольку Крепелин отвергал детерминистский «мортализм» и «простую закономерность»[137 - Ibid.] Мореля, выступая за более сложное, менее схематичное понимание механизмов вырождения. Вместе с тем такое соотнесение науки и литературы указывает на принципиальную возможность перевода нарративной модели дегенерации в художественные категории, ставшую основой возникновения романов о вырождении[138 - У термина «роман о вырождении» (Degenerationsroman), который я использую как чисто аналитическую категорию, не слишком славная предыстория: в заключениях, использованных на цензурных процессах рубежа XIX–XX веков против немецких натуралистов (Карла Гауптмана, Оскара Паниццы), оно служило пейоративным обозначением литературы натурализма как литературы, созданной авторами-«дегенератами» (W?bben Y. Verr?ckte Sprache. Psychiater und Dichter in der Anstalt des 19. Jahrhunderts. Konstanz, 2012. S. 184).] в европейских литературах конца XIX века[139 - Некоторые произведения, называемые мною романами о вырождении, Каролина Просс (Pross C. Dekadenz. Studien zu einer gro?en Erz?hlung der fr?hen Moderne. G?ttingen, 2013, особенно S. 74–84) называет «декадентскими романами» (Dekadenzromane), выявляя при этом, как и я в случае с романом о вырождении, похожий интердискурсивный контекст возникновения, связанный с соответствующей психиатрической теорией, и похожие художественные структурные элементы. Однако Просс интересует не столько связь между знанием и повествованием, эпистемологией и поэтологией, сколько культурные самоописания немецкой литературы раннего модернизма.]. Не в последнюю очередь эта переводимость обеспечивается заключенным в дискурсе о вырождении «колоссальным фикциональным „потенциалом“»[140 - Link-Heer U. ?ber den Anteil der Fiktionalit?t an der Psychopathologie des 19. Jahrhunderts // Zeitschrift f?r Literaturwissenschaft und Linguistik. 1983. № 51/52. S. 280–302. S. 297.], который в максимально «эпической» форме раскрывает семейная эпопея Золя «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи» («Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire», 1871–1893), «родоначальница» текстов о вырождении[141 - Link-Heer U. «Le mal a marchе trop vite». Fortschritts- und Dekadenzbewu?tsein im Spiegel des Nervosit?ts-Syndroms // Fortschrittsglaube und Dekadenzbewu?tsein im Europa des 19. Jahrhunderts / Hg. von W. Drost. Heidelberg, 1986. S. 45–67. S. 60.].
Генеалогический императив[142 - Tobin P. D. Time and the Novel. The Genealogical Imperative. Princeton, 1978.] семейного романа – т. е. связь линейного повествования с мышлением в категориях причины и следствия, истока и протекания – в романе о вырождении смещается в сторону биологизма под влиянием новейших медико-психиатрических знаний о наследственности и вырождении[143 - О «генеалогическом романе» см.: Zucker A. E. The Genealogical Novel, a New Genre // Publications of the Modern Language Association of America. 1928. № 43. P. 551–560. О взаимосвязи теории наследственности с семейным романом в немецкой литературе рубежа XIX–XX веков с гендерной точки зрения см.: Erhart W. Familienm?nner. ?ber den literarischen Ursprung moderner M?nnlichkeit. M?nchen, 2001. S. 101–122; 232–352.]. Однако роман о вырождении определяется не только на содержательном уровне, т. е. не только как текст о биологически мотивированном семейном упадке. В таком романе наблюдается еще и повествовательный синтаксис, опирающийся на вышеописанные нарративные особенности научной теории вырождения, однако при этом также укорененный в эпистемологической повествовательной системе литературного натурализма. Ведь ранние романы о вырождении – романный цикл Золя и его европейские «последователи» 1880?х и 1890?х годов – представляют собой как артикуляции, так и конститутивные элементы этой повествовательной системы.
Эпистемологическая повествовательная система натурализма и роман о вырождении
Несмотря на национально-филологическую специфику, в нарративной структуре натуралистических повествовательных произведений можно выделить базовые структурные элементы, играющие важнейшую роль в определении повествовательного синтаксиса романа о вырождении[144 - Трансфилологической, сравнительной точке зрения на натурализм в литературоведении до сих пор уделялось на удивление мало внимания. Kirt R. Komparatistische Naturalismus-Forschung. Eine Standortbestimmung // Revue luxembourgeoise de littеrature gеnеrale et comparе. 1988. P. 85–90. P. 86. Так, бросается в глаза, что те немногочисленные работы, в которых эксплицитно рассматриваются межнациональные литературные отношения, как правило, посвящены исключительно влиянию Золя на другие национальные варианты натурализма: Zola sans fronti?res. Actes du colloque international de Strasbourg (Mai 1994) / Еd. par A. Dezalay. Strasbourg, 1996; Zola et le texte naturaliste en Europe et aux Amеriques: Gеnеricitе, intertextualitе et influences / Еd. par A. Gural-Migdal. Lewiston, 2006. Подчас попытки концептуального осмысления ограничиваются составлением европейского текстуального канона, в рамках которого вопрос о существующих внутри натурализма связях подразумевает лишь хронологический аспект: Chevrel Y. Probleme einer komparatistischen Literaturgeschichtsschreibung – am Beispiel des Naturalismus in den europ?ischen Literaturen // Germanistik und Komparatistik. DFG-Symposion 1993 / Hg. von H. Birus. Stuttgart, 1995. S. 466–480. В сравнительной – правда, ограниченной романскими литературами – перспективе, учитывающей повествовательную технику, натурализм рассматривается в: Anf?nge vom Ende. Schreibweisen des Naturalismus in der Romania / Hg. von L. Schneider und X. Jing. Paderborn, 2014.]. В самом общем смысле литература натурализма моделирует такой художественный мир, в котором воспринимаемая действительность представляет собой лишь уровень манифестации по отношению к изначальному уровню биологического обоснования. Эти произведения исходят из представления о «витальной силе»[145 - St?ber Th. Vitalistische Energetik und literarische Transgression im franz?sischen Realismus-Naturalismus. Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola. T?bingen, 2006. S. 117–148.], которая предопределяет все человеческие поступки и порождает среду, «получающую от изначального мира себе на долю временный характер»[146 - Делёз Ж. Кино 1. Образ-движение // Делёз Ж. Кино / Пер. с фр. Б. Скуратова. М.: Ad Marginem, 2004. С. 201–146. С. 96.]. «Научные» притязания натуралистической литературы состоят в придании этому «изначальному миру» нарративной формы путем причинно-временной линеаризации. Натурализм берет на вооружение такие бионарративы, как наследственность, вырождение или борьба за существование, разработанные тогдашней наукой для концептуализации (опять-таки выражаясь языком Фуко) объективной трансценденталии «жизнь»[147 - Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. В. П. Визгина, Н. С. Автономовой. СПб., 1994. С. 269–271.], и организует структуру текста вокруг этой биологически определяемой оси[148 - Как инсценировка определенной конфигурации знания литература натурализма представляет собой «эпистемологическую метафору», пишет Эльке Кайзер, используя термин Умберто Эко metafora epistemologica (Kaiser E. Wissen und Erz?hlen bei Zola. Wirklichkeitsmodellierung in den Rougon-Macquart. T?bingen, 1990. S. 10–11).].
В результате натуралистический текст расщепляется на разные уровни повествования: основополагающую, однородную базовую схему, воспроизводящую детерминистские «законы природы», – и повествовательный дискурс, раскрывающий многообразные проявления этого фундаментального «закона» на уровне рассказываемой истории[149 - О повествовательной системе натурализма на примере фикционализации «борьбы за существование» в немецкой литературе см.: St?ckmann I. Der Wille zum Willen. Der Naturalismus und die Gr?ndung der literarischen Moderne 1880–1900. Berlin; New York, 2009. S. 41–137.]. Такая базовая структура свойственна и роману о вырождении: в данном случае диахроническая логика дегенеративной наследственности определяет как отбор событийных моментов для создания истории, так и придание им формы линейной временной последовательности, которой – согласно нарратологической модели «нарративного конституирования»[150 - Шмид В. Нарратология. М., 2003. С. 88–103.] – обусловливается трансформация истории в повествование в любом повествовательном произведении. Роман о вырождении превращает аморфную совокупность носящих естественный, инстинктивный характер событий в эпическую смысловую линию, каузальность которой получает статус детерминистской закономерности[151 - Жиль Делёз говорит в этой связи о «великой эпической наследственности»: Делёз Ж. Золя и трещина // Делёз Ж. Логика смысла / Пер. с фр. Я. И. Свирского. М., 2011. С. 422–437. С. 426. О преемственности по отношению к натурализму поэтики реализма, которая точно так же стремится свести все многообразие действительности к «базовым структурам», см.: Pross. Dekadenz. S. 60–70; Albers I. Sehen und Wissen. Das Photographische im Romanwerk Emile Zolas. M?nchen, 2002.].
Такая эпистемологическая базовая структура натуралистических романов о вырождении напоминает уже описанную повествовательную модель дегенерации в психиатрическом дискурсе, которая выполняет структурирующую функцию «усмирения» «буйного» патологического начала и обретает нарративную реализацию в историях болезней (гл. II.1). Однако у романов о вырождении есть и собственное диегетическое измерение, благодаря которому возможно многообразное варьирование нарративной базовой схемы. Этим они отличаются от психиатрических анализов, в которых научная достоверность гарантируется (навязчивым) повторением одной и той же повествовательной схемы. При этом наблюдается широкий спектр повествовательных возможностей, представляющий собой континуум между двумя полюсами: с одной стороны, приверженность эпической линейности закономерным образом приводит masterplot вырождения к разрыву наррации, обусловленному редукцией событийности; с другой стороны, роман о вырождении позволяет патологической девиации «просочиться» на поверхность текста, так что инсценировка все более сильных нарративных трансгрессий подрывает замкнутую форму повествовательного образца.
Эпическая линейность и разрыв наррации
Как и в психиатрическом базовом нарративе, в романе о вырождении биологическая граница между нормой и патологией составляет центральную семантическую границу, а именно «трещину» (f?lure) в наследственности пораженной семьи. В семейном эпосе Золя функция трещины приписывается нервному расстройству Аделаиды Фук, «прародительницы» Ругон-Маккаров[152 - Ср. первый том цикла о Ругон-Маккарах «Карьера Ругонов» («La Fortune des Rougon», 1871). Как и у Мореля (гл. II.1), локализация «трещины» здесь тоже имеет символический аспект, связывающий потомственные семейные патологии с социальной патологичностью современной эпохи, у истоков которой стоят исторические потрясения, в данном случае – Великая французская революция (в 1789 году Аделаида вступает в любовную связь с пьяницей и контрабандистом Жаном Маккаром). Pick D. Faces of Degeneration: A European Disorder, c. 1848 – c. 1918. Cambridge, 1989. P. 83.]. Вместе с тем эта начальная точка дегенерации представляет собой явную нарративную установку, так как с точки зрения науки о наследственности совершенно не очевидно, что «тетя Дида» должна считаться носительницей первого патологического отклонения в семье: еще «ее отец умер в сумасшедшем доме»[153 - Золя Э. Карьера Ругонов / Пер. с фр. Е. Александровой // Золя Э. Собрание сочинений: В 26 т. Т. 3. Карьера Ругонов. Добыча. М., 1962. С. 7–344. С. 45. «‹…› le p?re mourut fou» (Zola Е. Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire / Еd. par H. Mitterand. Vol. 1. Paris, 1959. P. 41).]. Золя не пытается скрыть это противоречие, а скорее отрицает дискретность семьи, моделируя «начало без начала», «становление и гибель под знаком вечного возвращения дикого бытия»[154 - Warning R. Zola als Erz?hler // Anf?nge vom Ende. Schreibweisen des Naturalismus in der Romania / Hg. von L. Schneider und X. Jing. Paderborn, 2014. S. 29–48. S. 33.] жизни, нарративное обуздание которого, перенятое у науки, предстает во всей своей противоречивости[155 - F?cking M. Pathologia litteralis. Erz?hlte Wissenschaft und wissenschaftliches Erz?hlen im franz?sischen 19. Jahrhundert. T?bingen, 2002. S. 318–321.].
Этой нарративной установкой обусловлена структурная необходимость в романе о вырождении аналептического повествования, знакомящего с отправной точкой семейной патологии в интра- или додиегетической форме. Как и в психиатрических историях болезней, «трещина» выступает протособытием, запускающим распространение болезненных отклонений и создающим фиктивный мир, где уже невозможно повторное пересечение границы между нормой и патологией. Поскольку действие романа о вырождении разворачивается согласно детерминистской схеме накопления патологий и прогрессирующей дегенерации, возможность изменения состояния героя-дегенерата оказывается под сомнением. «Перемещение персонажа через границу семантического поля», «значимое уклонение от нормы»[156 - Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998. С. 14–285. С. 224.], в котором Ю. Лотман усматривает суть нарративного события, в тексте о вырождении возможно лишь с оговорками. Прогрессирующее развитие фиктивного мира подразумевает здесь не какие-либо событийные превращения, а лишь постоянное подтверждение биологического порядка вещей. Порядок этот нередко отражается в дихотомической, антагонистической системе персонажей, в рамках которой вырождающимся, слабовольным героям противопоставлены здоровые и деятельные; тем самым оппозиция нормы и патологии приобретает наглядный характер[157 - О такой особой системе персонажей в романе о вырождении, нередко соотнесенной с семантически сходным членением пространства, см.: Pross. Dekadenz. S. 133–134. Просс исследует эту структуру на примере романа «Болезнь века» («Die Krankheit des Jahrhunderts», 1887) Макса Нордау.].
Поэтому сюжетосложение многих романов о вырождении заключается в парадигматическом нанизывании все более тяжких патологических рецидивов, утрачивающих событийность по мере прогрессирования дегенерации[158 - Об этой сюжетной схеме натурализма см.: Baguley D. Naturalist Fiction: The Entropic Vision. Cambridge, 1990. P. 97–119; о книге Джованни Верги «Мастро дон Джезуальдо» («Mastro Don Gesualdo», 1888) см.: K?pper J. Vergas Antwort auf Zola. «Mastro Don Gesualdo» als «Vollendung» des naturalistischen Projekts // 100 Jahre Rougon-Macquart im Wandel der Rezeptionsgeschichte / Hg. von W. Engler u. a. T?bingen, 1995. S. 109–136. S. 120–121.]. Подобный бессобытийный застой приводит к разрыву нарративной ткани. Отрицательный телеологизм нередко влечет за собой все большее снижение «способности быть рассказанным» (Erz?hlbarkeit), так как каждый новый эпизод растянутой на несколько поколений истории упадка предстает, невзирая на изображение тех или иных событий, повторением одного и того же сюжетного образца. По мере неумолимого развития вырождения фиктивный мир все больше застывает в фаталистической неизменности, о которой можно поведать все меньше и меньше. Этот тип романа о вырождении отказывается от острого сюжетного драматизма в пользу «поэтики повтора»[159 - «Poеtique de la rеpеtition» – термин, который Ив Шеврель употребляет в связи с натурализмом в целом (Chevrel Y. Le Naturalisme. Paris, 1982. P. 118).], которая описывает жизнь как однообразное, банальное повторение одного и того же, подчеркивая тем самым ее неизменность и предсказуемость. Такова, в частности, структура романов «Западня» («L’Assomoir», 1877) Золя, «Дряхлеющий век» («Haabl?se Sl?gter», 1880/1884) Германа Банга и «Семья Малаволья» («I Malavoglia», 1881) Джованни Верги[160 - Джино Теллини говорит в связи с «Семьей Малаволья» о «механической статичности» (meccanica staticit?) и «удушающей меланхолии» (melanconia soffocante) (Tellini G. Il romanzo italiano dell’Ottocento e Novecento. Milano, 2000. P. 198).].
Так, внебрачная связь Жервезы Купо с Лантье приводит не к драматическому сюжетному повороту в традиционном смысле, а к «банальному» любовному треугольнику, который, хотя все с ним мирятся, одновременно являет собой очередной этап прогрессирующей, неумолимой деградации героини. Как и натуралистический протагонист в целом, она не сознает безвыходности своего положения и машинально движется навстречу гибели, на которую читателю намекают с самого начала, причем дегенеративный процесс, ведущий к пьянству, одиночеству, психофизическому упадку и отупению, сопровождается все большим измельчанием и запустением жизненного пространства[161 - В этом опять-таки проявляется определенная цикличность: теснота и бедность комнаты в пансионе, занимаемой Жервезой и Лантье в начале романа, диаметрально отражается в «дыре» – последнем обиталище Жервезы, где она и умирает в одиночестве, забытая всеми. Фаталистическая клаустрофобия натуралистического пространства присутствует в романе с самого начала, ср. предчувствие Жервезы в конце первой главы: «И вот на эту пышущую жаром мостовую ее выбросили одну с двумя малышами; она скользила взглядом по внешним бульварам, влево, вправо, из конца в конец, и в ней поднимался безмерный ужас, будто отныне вся жизнь ее должна замкнуться здесь – между бойней и больницей» (Золя Э. Западня / Пер. c фр. О. Моисеенко и Е. Шишмаревой // Золя Э. Собрание сочинений: В 26 т. Т. 6. Ругон-Маккары. Западня. М., 1962. С. 39). («C’еtait sur ce pavе, dans cet air de fournaise, qu’on la jetait toute seule avec les petits; et elle enfila d’un regard les boulevards extеrieurs, ? droite, ? gauche, s’arr?tant aux deux bouts, prise d’une еpouvante sourde, comme si sa vie, dеsormais, allait tenir l?, entre un abattoir et un h?pital» – Zola. Les Rougon-Macquart. Vol. 2. P. 403.)].
Аналогичный нарративный телеологизм последовательно проводится и в сербском романе о вырождении «Дурная кровь» («Necista krv», 1910) Боры Станковича; целенаправленный ход дегенерации выливается в своего рода вечное настоящее, где вырождение предстает длящимся состоянием застоя[162 - Nicolosi R. Unreine Liebe. B. Stankovics «Necista krv» als Degenerationsroman // Darstellung der Liebe in bosnischer, kroatischer und serbischer Literatur. Von der Renaissance ins 21. Jahrhundert / Hg. von R. Hodel. Frankfurt a. M., 2007. S. 159–176.]. История материального, социального и физического упадка старинного тюркизированного рода, разворачивающаяся в южносербском городе Вране на историческом фоне постепенного ухода Османской империи с Балкан, складывается из нагнетаемого повторения неизменной схемы дегенерации. Параллельно деградации героини, Софки, идет «на спад» и сама повествовательная форма, оборачиваясь разрывом наррации. Это проявляется в изменении соотношения между повествовательным временем и временем повествования, сжатием и растяжением. За кульминационными сценами романа, которые связаны со свадьбой Софки (ритуальное омовение в хаммаме, гротескное церковное венчание и оргиастическое празднество) и которым присуще выраженное нарративное растяжение, следуют все более короткие главы, отмеченные все более сжатым повествованием и все меньшим уровнем событийности, а финальная сцена – в которой отец Софки наносит оскорбление ее сербскому мужу-простолюдину, что и приводит к окончательной катастрофе, – оказывается заметно короче всех предшествующих кульминационных эпизодов. В последних трех главах романа временны?е координаты растворяются в неопределенном континууме, который соответствует восприятию времени самой Софкой, проводящей дни между буйными выходками мужа и апатией. В последней главе, начинающейся словами «И ничего не происходит»[163 - «И ништа се не деси» (Станковиh Б. Сабрана дела Борисава Станковиhа. Кн. 3 (Нечиста крв). Београд, 1970. С. 260).], грамматическое повествовательное время сменяется с прошедшего на аорист, превращая время повествования в вечное настоящее. У ожидания смерти, в котором живет Софка, нет фикционального конца, отчего безысходность ее дегенеративного состояния усиливается еще больше. Похожее сжатие повествовательного темпа наблюдается и в романе «Нильс Люне» («Niels Lyhne», 1880) Йенса Петера Якобсена, причем рассказ о последних событиях в жизни героя: о свадьбе, рождении сына, безвременной кончине жены и ребенка, участии в войне и, наконец, смерти, – становится все более небрежным.
Такой отказ от категории события чрезвычайно важен для русского романа о вырождении и характерен для него с самого начала. Наиболее последовательно этот повествовательный прием воплощен в «Господах Головлевых» (1875–1880) М. Е. Салтыкова-Щедрина, хронологически первом русском романе о вырождении. Как будет показано в главе II.4, Салтыков-Щедрин моделирует поместье семьи Головлевых как замкнутое, вселяющее чувство клаустрофобии пространство, как застывший мир, где прогрессирующее развитие дегенеративного процесса оборачивается навязчивым повторением одного и того же. Захваченные неудержимым процессом психофизического разложения, символизирующим вымирание целого социального класса – поместного дворянства, Головлевы бессильны изменить свое состояние.
В отличие от редукции событийности во французском натурализме, которую следует рассматривать скорее в контексте флоберовской традиции[164 - Warning R. Erz?hlen im Paradigma. Kontingenzbew?ltigung und Kontingenzexposition // Romanistisches Jahrbuch. 2001. № 52. S. 176–209.], в романе Салтыкова-Щедрина происходит явный разрыв с русской реалистической традицией событийного повествования. Так, в произведениях Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского структурообразующее событие инсценируется как «прозрение» или «просветление», т. е. как «ментальная перипетия, как когнитивный, душевный или нравственный переворот»[165 - Schmid W. Ereignishaftigkeit in den «Br?dern Karamasow» // Dostoevsky Studies, New Series. 2005. № 9. P. 31–44. P. 33. Хрестоматийным примером такого события служит преображение Дмитрия Карамазова, нарушающее своей парадоксальностью границы ожидаемого и предсказуемого.]. Отказ Салтыкова-Щедрина как от реалистической модели мира, допускающей способность человека к глубоким внутренним переменам, так и от реалистической поэтики события, в контексте русской литературы оказывается предвосхищением модернистского повествования, возможности которого раскроются сполна лишь в прозе Чехова.
Трансгрессивный нарратив и фрагментарное изображение действительности
Одной из особенностей романа о вырождении является возможность по-разному реализовывать базовую схему предопределенного упадка. Некоторые тексты о вырождении облекают ее в форму не вышеописанного нарративного разрыва, а все большего нагромождения трансгрессивных событий, скандальных поступков, обусловленных девиантным поведением ненормального персонажа[166 - Warning R. Chronotopik und Heterotopik: Zolas Rougon-Macquart // Warning R. Heterotopien als R?ume ?sthetischer Erfahrung. Paderborn; M?nchen, 2009. S. 145–168. Варнинг использует лотмановское понятие «несюжетной коллизии», означающее пересечение нормативной границы вплоть до полного ее стирания, «‹…› то есть катаклизм, обрушение целого культурного порядка» (Там же. S. 153). Согласно этой интерпретации, романы Золя последовательно разрушают любую форму нормативности, инсценируя катастрофы мифической силы, в которых трансгрессивная витальность «жизни» ниспровергает какую угодно упорядочивающую структуру. Я же, напротив, подчеркиваю напряжение, возникающее в семейном эпосе Золя между макроструктурной упорядочивающей структурой дегенеративной наследственности и трансгрессивными нарративными эпизодами.]. Впрочем, столь высокая возможность дегенерации раскрываться в повествовании не означает роста уровня событийности, так как – что уже разъяснялось – с точки зрения текста в целом подобные трансгрессивные эпизоды, ввиду своей повторяемости и предсказуемости, не влекут за собой событийного изменения состояния персонажей. Ярче всего это протеическое многообразие дегенеративных поступков и персонажей проявляется в цикле «Ругон-Маккары», рисующем подробнейшую картину вырождения на материале пяти поколений и самых разных патологий. «Дикое бытие»[167 - Warning R. Kompensatorische Bilder einer «wilden Ontologie»: Zolas Les Rougon-Macquart // Poetica. 1990. № 22. S. 355–383.] патологического, «бушующее» на микроструктурном уровне отдельных романов, подчинено контролю макроструктурной наследственной линии, занимающей более высокое, аукториальное положение[168 - О сложном соотношении структур диахронии и синхронии в романной эпопее Золя и их различных оценках см., в частности: Gumbrecht H. U. Zola im historischen Kontext. F?r eine neue Lekt?re des Rougon-Macquart-Zyklus. M?nchen, 1978. S. 32–33; F?cking. Pathologia litteralis. S. 311–330.].
Проект генеалогического изображения целого наследственного ряда требует гетеродиегетического, аукториального рассказчика, который, подобно врачу, распознает и истолковывает проявляющиеся в фиктивном мире признаки вырождения; признаки, которых сами действующие лица обычно не замечают[169 - М. Фёкинг усматривает в этом «реинсталляцию трансцендентального субъекта», от которого отказался roman clinique (в частности, Флобер) (Там же. S. 322–330). Однако Фёкинг не учитывает того обстоятельства, что макроструктурная аукториальность цикла о Ругон-Маккарах частично нейтрализуется нередким отказом Золя от центральной интерпретирующей точки зрения аукториального рассказчика на микроструктурном уровне отдельных романов, так что голос повествователя сливается с голосами персонажей и «общественным мнением» в несобственно-прямой речи. Это сообщает романам Золя чрезвычайно полифоническую форму.]. Лишь в последнем романе цикла, «Доктор Паскаль» («Le Docteur Pascal», 1893), эту двойную структуру, складывающуюся из микро- и макроструктурного уровней, нарушает появление персонажа нового типа – врача и исследователя вопросов наследственности Паскаля Ругона, который на правах интрадиегетического porte-parole аукториального рассказчика[170 - Речь идет о типе персонажа, характерном для натуралистического романа в целом, т. е. о таком действующем лице, которое выступает авторским рупором, высказывая научные идеи, призванные объяснить происходящее в вымышленном мире. Baguley. Naturalist Fiction. P. 95; Kaiser. Wissen und Erz?hlen bei Zola. S. 33–34.] обобщает и интерпретирует историю вырождения собственной семьи с научной точки зрения. При этом пятая глава «Доктора Паскаля», где Паскаль Ругон объясняет своей племяннице Клотильде семейную историю Ругон-Маккаров в свете учения о наследственности на основе генеалогического древа и собранных материалов, предстает проявлением принципа mise en abyme, который заново раскрывает макроструктурную схему романного цикла с ее функцией глубинной структуры, определяющей всю совокупность разрозненных, по видимости, случайных явлений[171 - Pross. Dekadenz. S. 65–66. Behrens R., Guthm?ller M. Krankes/gesundes Leben schreiben. Emile Zolas Le docteur Pascal im Umgang mit dem Heredit?ts- und Lebenswissen des ausgehenden 19. Jahrhunderts // Krankheit schreiben. Aufzeichnungsverfahren in Medizin und Literatur / Hg. von Y. W?bben und C. Zelle. G?ttingen, 2013. S. 432–457.].
В романе о вырождении наблюдается взаимодействие между приверженностью традиционной эпической линейности, телеологически заостряемой с позиций биологического детерминизма, и расшатыванием или растворением этой линейности при помощи приемов, предвосхищающих модернистское письмо. Чем больше наррация в романе о вырождении тяготеет к повторам, чем более предсказуемой становится, тем сильнее возрастает и доля описательности: для текста о дегенерации характерно покидать временну?ю ось линейности и углубляться в пространственные меандры фрагментарной действительности, в частности в пространных описаниях, выступающих – прежде всего у Золя – моделью современного человеческого восприятия как своего рода лабиринта[172 - Дэвид Багули усматривает динамический аспект натуралистического романа в напряжении, возникающем между «the imperious causality and directionality of the scientific thesis» [властной каузальностью и направленностью научного тезиса], с одной стороны, и «the disruptiveness and fragmentation of the descriptive set» [разорванностью и фрагментарностью описаний] – с другой (Baguley. Naturalist Fiction. P. 94). О «несоразмерности» повествования и описания ср. классическую работу Г. Лукача: Лукач Г. Рассказ или описание / Пер. с нем. Н. Волькенау // Литературный критик. 1936. № 8. Впрочем, преобладание описательного начала в произведениях натурализма Лукач рассматривает как проявление упадка, а не как современный литературный прием. К вопросу о притязании Золя на всеохватное изображение действительности см.: Vinken B. Zola – alles sehen, alles wissen, alles heilen. Der Fetischismus im Naturalismus // Historische Anthropologie und Literatur. Romanistische Beitr?ge zu einem neuen Paradigma der Literaturwissenschaft / Hg. von R. Behrens u. a. W?rzburg, 1995. S. 215–226.].
Это свойство романа о вырождении восходит к особой семиотической практике натурализма в целом. Представляется, что в своей программной установке на миметическую воспроизводимость действительности натурализм радикализирует семиотическую практику реализма в двояком отношении. С одной стороны, он идет еще дальше в типичной для реализма дереференциализации художественного мира[173 - Schneider S. Einleitung // Die Dinge und die Zeichen. Dimensionen des Realistischen in der Erz?hlliteratur des 19. Jahrhunderts / Hg. von S. Schneider und B. Hunfeld. W?rzburg, 2008. S. 11–24.], добиваясь «фотографической» иллюзии действительности. С другой стороны, натурализм (в известном смысле вопреки первой тенденции) продолжает реалистическую практику разрушения созданной иллюзии путем «вторжения» в нее реальности – с той, впрочем, разницей, что вторжение это оказывается «скандальным» постольку, поскольку натурализм сознательно стремится к радикальному изображению насилия, сексуальности, нищеты и т. д.
Однако вместе с тем в натуралистическом мимесисе наблюдаются специфически модернистские элементы, разительно отличающие его от мимесиса реалистического. Так, на первый взгляд может показаться, что характерная для натурализма гипертрофия descriptio, одерживающего верх над narratio, подчеркивает важность внетекстовой референции в сравнении с «романическим» началом. Но de facto достигается эффект прямо противоположный, поскольку такая гипертрофированность сообщает описаниям самостоятельный характер, заставляя действительность выглядеть случайным нагромождением атомизированных впечатлений, уже не составляющих целого. Можно было бы даже сказать, что все эти потоки реалий, упоминаемых в описаниях, а прежде всего – в характерных для натурализма каталогообразных перечислениях, кажутся чем-то реальным, чуждым фиктивному миру и в своей (неконвертируемой) настойчивости ставящим под угрозу завершенность аукториальных и эстетических порядков. Однако такому центробежному движению натуралистических текстов противодействует тенденция к пониманию действительности исключительно как проявления глубинной эпистемологической структуры, претворение которой в фиктивный мир, собственно, и составляет основную миметическую операцию натурализма.
Между этими полюсами: приверженностью принципу связного, логичного, осмысленного целого и «упадочным разложением» целостных форм[174 - О декадентском стиле как процессе разложения целого ср. слова Поля Бурже: «Un style de dеcadence est celui o? l’unitе du livre se dеcompose pour laisser la place ? l’indеpendance de la page, o? la page se dеcompose pour laisser la place ? l’indеpendance de la phrase, et la phrase pour laisser la place ? l’indеpendance du mot» (Bourget P. Charles Baudelaire [1881] // Bourget P. Cuvre Compl?tes. Vol. 1 (Critique). Paris, 1899. P. 3–20. P. 15–16). Ср. также у Фридриха Ницше: «Чем характеризуется всякий литературный декаданс? Тем, что целое уже не проникнуто более жизнью. Слово становится суверенным и выпрыгивает из предложения, предложение выдается вперед и затемняет смысл страницы, страница получает жизнь за счет целого – целое уже не является больше целым» (Ницше Ф. Случай «Вагнер» / Пер. с нем. Н. Н. Полилова // Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 5: По ту сторону добра и зла. К генеалогии морали. Случай «Вагнер». М., 2012. С. 383–422. С. 400. Курсив оригинала).]; телеологическим повествованием и фрагментарным описанием; неизменной нормой и протеической патологией, – роман о вырождении вырабатывает изобразительные формы, которые ставят его в промежуточное положение между реализмом и модернизмом. Если интерпретировать романы о Ругон-Маккарах как цикл о вырождении, можно увидеть парадоксальный характер литературы натурализма, которая, с одной стороны, кладет в основу наррации научный детерминизм, а с другой – допускает изображение лишь «непосредственных причин»: натуралист, утверждает Золя в статье «Экспериментальный роман» («Le roman expеrimental», 1879), ищет ответа на вопрос не о том, «почему» возникает то или иное явление (ответить на который невозможно), а о том, «каким образом» оно непосредственно происходит, т. е. каковы те конкретные условия, при которых возможен определенный феномен в определенной ситуации[175 - «‹…› мы никогда не будем знать первопричину вещей – мы будем знать лишь, каким образом происходит явление» (Золя Э. Экспериментальный роман / Пер. c фр. Н. Немчиновой // Золя Э. Собрание сочинений: В 26 т. Т. 24. Из сборников «Что мне ненавистно», «Экспериментальный роман». М., 1966. С. 239–280. С. 255. («‹…› nous ignorerons toujours le pourquoi des choses; nous ne pouvons savoir que le comment» – Zola Е. Le roman expеrimental // Zola Е. Cuvres compl?tes / Еd. par H. Mitterand. Vol. 10. Paris, 1968. P. 1173–1203. P. 1185). Об экспериментальной поэтике Золя см. главу III.1 этой книги.].
Фундаментальная апория позитивизма, пусть и отвергающего метафизические системы, однако в конце концов разработавшего метафизику истории, отражается в натурализме, который создает повествовательные тексты в поле напряжения между трансцендентальным, телеологическим детерминизмом и тенденцией к разрушению этой монокаузальности при помощи хаотичной, фрагментарной картины действительности. Так, умножение числа таких «непосредственных» причин в романе «Западня» приводит к множественной детерминации судьбы Жервезы Купо, чье физическое, психическое и моральное вырождение выступает следствием сразу многих факторов: наследственности (предрасположенности к алкоголизму и к лени по материнской линии); среды в самом широком смысле, т. е. и плохих условий жизни в рабочем квартале, и «общественного мнения», сложившегося о Жервезе у соседей и как будто тоже влияющего на ее поступки; а также социальной дерзости героини, стремящейся выбраться из поставленных рамок жалкого существования.
Отказ Золя от характеризации персонажей путем приписывания им размышлений о своем ненормальном состоянии[176 - В этом отношении ярким исключением выступает Жак Лантье, персонаж романа «Человек-зверь» («La b?te humaine», 1890), где замечания рассказчика о душевной ограниченности Лантье и его неспособности к рефлексии сочетаются с неотличимостью внутреннего монолога героя от несобственно-прямой речи повествования, что позволяет предположить относительное понимание героем своего состояния. О повествовательной перспективации у Золя см.: Kaiser. Wissen und Erz?hlen bei Zola. S. 25–35.] и его приверженность научно-аукториальной нарративной точке зрения обусловлены среди прочего тем обстоятельством, что цикл о Ругон-Маккарах во многом идет вслед за учением Мореля, сосредоточенным на представителях низших социальных слоев. Лишь в ходе дискурсивной интеграции учения о неврастении в теорию вырождения (гл. IV.1) высшие (буржуазные) слои общества тоже становятся протагонистами романов о вырождении: теперь патологическое служит очерчиванию современных характеров, поскольку дегенеративный обладатель расшатанной нервной системы воплощает собой чувствительность модерна[177 - Хрестоматийным примером персонажа, у которого духовное совершенствование сопровождается физическим упадком, служит Флорессас дез Эссент из романа Жориса-Карла Гюисманса «Наоборот» («? rebours», 1884). В самом начале своей «библии декаданса» Гюисманс ссылается в форме экфрасиса на нарратив о вырождении: описание портретной галереи предков выступает наглядной иллюстрацией неудержимого вырождения рода дез Эссентов. Процесс этот предстает энтропическим истощением жизненных сил семьи, выразившимся среди прочего в том, что «мужчины все более утрачивали мужественность» (Гюисманс Ж.-К. Наоборот / Пер. с фр. Е. Л. Кассировой под ред. В. М. Толмачева. М., 2005. С. 9). Однако «Наоборот» нельзя считать романом о вырождении, поскольку обозначенный было нарратив не получает дальнейшего развития: описание причудливого, синестетического восприятия протагониста заменяет собой любую форму повествования, тем самым блокируя нарративное развитие наследственной линии.]. При этом повествовательная перспектива – если использовать терминологию Жерара Женетта[178 - Женетт Ж. Повествовательный дискурс / Пер. с фр. Н. Перцова // Женетт Ж. Фигуры: В 2 т. Т. 2. Фигуры III. М., 1998. С. 60–281. C. 205–212.] – сменяется с аукториальной нулевой фокализации на фокализацию внутреннюю: «ненормальная» психика дегенерата становится «героиней» истории, на уровне действия почти лишенной событий[179 - Об отношениях обмена и взаимодействия между учением о неврастении и литературой см.: Neurasthenie. Die Krankheit der Moderne und die moderne Literatur / Hg. von M. Bergengruen u. a. Freiburg i. Br., 2010.].
Такое эстетизирующее обращение полюсов «нормы» и «патологии», которое обозначилось в скандинавских романах о вырождении 1880?х годов, в значительной степени характерно для «Будденброков» («Buddenbrooks») Томаса Манна[180 - Дальнейшие рассуждения о «Будденброках» опираются на работу Просс: Pross. Dekadenz. S. 256–282.]. Можно заметить, как по мере развития действия фокус изображения все больше смещается внутрь сознания персонажей, а ненормальные проявления наблюдаются скорее в сфере восприятия и мышления, нежели поступков. Вместе с тем эта беспрецедентная в немецкой литературе психологизация вырождения, финальным аккордом которой становится изображение нервной гиперчувствительности на примере Ганно Будденброка, сопровождается деаукториализацией и умышленно неоднозначной подачей научного знания, лежащего в основе нарратива. Знание это уже не исходит из аукториальной повествовательной инстанции, а содержится в преднамеренно затемненной форме – речь здесь идет о туманной «обреченности упадку» – на уровне персонажей, которые могут лишь строить предположения о применимости интерпретационной схемы нервного вырождения к истории своей семьи[181 - Каролина Просс (там же) подчеркивает, как важны для этих попыток интерпретации «записки» или «семейные бумаги», куда Будденброки заносят главные события в истории семьи.].