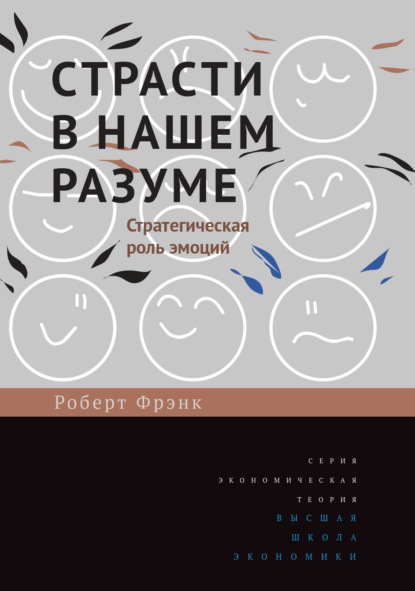По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Страсти в нашем разуме. Стратегическая роль эмоций
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мотивация честности
Когда оппортуниста заставляют вести себя морально, его почти незамедлительный, хотя и невысказанный вслух, вопрос: «Что я от этого получу?» Традиционное обоснование максимы «Честность – лучшая политика»: обман зачастую сурово карается, и никогда нельзя быть уверенным, что тебя не раскроют. Далее срабатывает инерция: однажды сдержанное обещание создает впечатление, что вы сделаете то же самое в будущем. Это, в свою очередь, располагает людей больше вам доверять, что порой дает решающее преимущество.
В некоторых случаях легко увидеть, почему честность – это действительно лучшая политика, согласно традиционно приводимым доводам. Рассмотрим, например, практику, которая со всей очевидностью зиждется на доверии: чаевые в ресторане. Поскольку чаевые принято оставлять в конце, официант или официантка должны полагаться на имплицитное обещание клиента наградить их за быстрое и вежливое обслуживание[11 - Недавняя карикатура в журнале The New Yorker подсказывает способ уменьшить риск для официанта. Она изображает одинокого клиента в самый разгар обеда. На столе стоит тарелка с горсткой монет и табличка, на которой написано: «Ваши чаевые на данный момент».]. Добившись хорошего обслуживания, клиент может надуть официанта. Но хотя так время от времени и происходит, для большинства людей, неоднократно посещающих одни и те же рестораны, такая политика была бы неразумной. Человек, оставляющий щедрые чаевые всякий раз, когда посещает свой любимый ресторан, может рассматриваться как тот, кто делает рациональную инвестицию в получение хорошего обслуживания в будущем. Выполнение его имплицитного обещания, очевидно, не только не противоречит реализации его эгоистического интереса, но даже необходимо для активного стремления к этой реализации.
Трудность в том, что на самом деле поведение дающего чаевые в данном случае не отражает то, что мы понимаем под «честностью». Возможно, точнее будет описать его как «осторожность». Он выполнил обещание, да, но, поскольку его невыполнение привело бы к плохому обслуживанию в будущем, мы не можем заключить, что верность обещанию была здесь важным фактором мотивации.
Соблюдают ли люди свои договоренности, когда предполагают, что будут взаимодействовать с нами неоднократно, – это, конечно, важно. Но большую часть времени мы озабочены тем, как они себя поведут либо при мимолетной встрече, либо в ситуациях, когда за их поведением нельзя проследить. В конце концов, именно в таких ситуациях по-настоящему проверяется характер человека. В них честный поступок будет действительно требовать самопожертвования. Яркий пример – чаевые, оставленные в ресторане в далеком городе. Когда приезжий нарушает имплицитное обещание оставить чаевые, он экономит какие-то деньги, а у разгневанного официанта нет возможности с ним поквитаться.
Держа в голове подобные ситуации, многие люди цинично реагируют на идею, что честность – лучшая политика. Они понимают, что гарантированный успех – необязательное условие прибыльности обмана. Конечно, всегда есть некоторая вероятность, что официант, разозлившись, устроит сцену, свидетелем которой станет кто-то из ваших знакомых. Но, если не брать в расчет знаменитостей, этот риск не страшен или же слишком мал, чтобы всерьез рассматриваться как эгоистическое основание для чаевых. Трудность с традиционными эгоистическими апелляциями к морали в том, что они не дают причин не обманывать в ситуациях, в которых разоблачение абсолютно невозможно.
Модель обязательства предлагает совершенно иное основание для честности, одновременно и эгоистичное, и релевантное для ситуаций, в которых обман нельзя разоблачить. Если в человеке можно заметить такие черты характера, как честность, честный человек выиграет, имея возможность решить важные проблемы обязательства. Он окажется достойным доверия в ситуациях, в которых законченный эгоист будет казаться недостаточно надежным и потому будет не особенно популярен в ситуациях, предполагающих доверие.
Оставляя чаевые в далеком городе, человек подкрепляет собственные привычки, которые хочет в себе культивировать. Ибо, хотя современные биологи установили, что способность развивать различные черты характера является наследственной, никто до сих пор успешно не оспорил оставшееся с XIX века представление: для того чтобы проявились черты характера, нужны воспитание и практика. Таким образом, причинно-следственные отношения между характером и поведением действуют в обе стороны. Характер, конечно же, влияет на поведение. Но поведение так же влияет на характер. Несмотря на наши очевидные способности к самообману и рационализации, лишь немногие люди могут сохранять способности к честному поведению, если при этом им приходится часто демонстрировать явно оппортунистическое поведение.
Цель оппортуниста – выглядеть честным, не упуская при этом ни одной возможности для личной выгоды. Он хочет выглядеть хорошим человеком перед людьми, которые важны для него, но в то же время не оставлять чаевые в далеком городе. Однако, если черты характера считываются, это может оказаться невозможно. Может случиться и так: чтобы выглядеть честным, необходимо или по крайней мере полезно быть честным.
Эти наблюдения содержат в себе зерно совершенно иного основания для того, чтобы оставлять чаевые в ресторанах в далеком городе. Мотивация не в том, чтобы избежать поимки с поличным, а в том, чтобы поддерживать и укреплять склонность к честному поведению. То, что я не оставлю чаевые в далеком городе, помешает мне культивировать эмоции, мотивирующие поступать честно в других ситуациях. Именно это изменение в моем эмоциональном настрое, а не факт отсутствия чаевых может быть замечен другими людьми.
Философы морали и проч. часто подчеркивали негативные социальные последствия необузданной погони за своим эгоистическим интересом. Представители утилитаризма, например, призывают нас практиковать сдержанность, ибо мир станет лучше, если все будут сдержаннее. Но для оппортунистов такие призывы непривлекательны. С внешне безупречной логикой они рассуждают о том, что их собственное поведение не слишком влияет на то, что делают другие. Поскольку положение в мире оказывается в основном независимым от их собственного поведения, они делают вывод, что им лучше брать все, что можно, и предполагать, что другие поступают так же. По мере того как все больше людей начинают придерживаться этих взглядов, даже по-настоящему честным людям становится все труднее поступать иначе.
Многие из моих друзей и я сам в прошлые годы жаловались, что чувствуем себя идиотами, когда платим подоходный налог, в то время как так много людей открыто уклоняются от его уплаты. Однако не так давно занятия моделью обязательства радикально изменили взгляды на этот вопрос. Я по-прежнему раздражаюсь, когда сантехник просит меня заплатить наличными, но теперь мою обиду сглаживает мысль, что уплата налогов – это моя инвестиция в поддержание моей предрасположенности к честности. Добродетель здесь не только сама по себе награда, она также может привести к материальному вознаграждению в других контекстах. Больше ли этот внешний выигрыш того, что я мог бы спокойно украсть у государства – я точно не знаю. Но факты, как мы увидим, подсказывают, что, может быть, и больше.
Сама возможность подобных вознаграждений трансформирует решение человека, культивировать ли ему в себе склонность к честности или нет. С традиционной точки зрения на мораль, оппортунисты имеют все основания нарушать правила (и учить своих детей поступать так же) всегда, когда они могут сделать это с пользой для себя. Модель обязательства ставит под сомнение саму суть этого взгляда, что для меня является самой восхитительной ее особенностью. Поскольку эта модель дает понятный ответ на насущный вопрос: «Что я от этого получу?», я надеюсь, что она вдохновит даже самых закоренелых циников с большим уважением относиться к другим людям.
II. Парадокс альтруизма
Во «Взрослении» Рассел Бейкер рассказывает о родственниках матери, собравшихся за кухонным столом поздно ночью во время Великой депрессии и разговаривающих о давно потерянном семейном состоянии. О нем стало известно много лет назад, когда дедушка, «Папа», ездил в Европу изучать историю семьи. Там он узнал, что происходит из рода «сказочно богатого старого епископа Лондонского времени герцога Мальборо и королевы Анны».
Епископ, по-видимому, завещал свое состояние родственникам из Вирджинии – т. е. предкам Бейкера – но по каким-то причинам оно так и не перебралось через Атлантику. Папа сообщили, что оно было «возвращено Короне» и теперь является собственностью империи. Семья, однако, не сомневалась, что их законное состояние было украдено у них «британскими интриганами».
По их словам, потеря была ощутимой. «Возможно, миллион долларов в нынешних деньгах», как сказал дядя Рассела, Аллен. «Скорее пятьдесят или шестьдесят миллионов», по мнению его дяди Хэла.
Одиннадцатилетний Рассел одурманен былым семейным богатством. Но его сестра Дорис, хоть и на два года младше, настроена более скептически. Вот как об этом рассказывает Бейкер:
Мое волнение по поводу утраченного семейного богатства охладила Дорис. Однажды вечером я привычно ныл, сетуя, что приходится продавать журналы:
– Если бы мамин отец получил то богатство, мне бы не пришлось работать.
На что она спросила:
– Ты же не веришь в эти бредни?
Тогда-то я и расстался с иллюзиями. Еще не хватало, чтобы какая-то девятилетняя девчонка переплюнула меня по части скептицизма.
Подобно юному Бейкеру, многие ученые-бихевиористы страшно боятся, что коллеги сочтут их наивными. Им неприятно, когда их просят объяснить, почему дантист бесплатно работает в совете директоров местного благотворительного фонда. Возможно, он взялся за это добровольно – из благородных побуждений, но приземленные бихевиористы с неохотой говорят о таких мотивах. Они чувствуют себя гораздо увереннее, когда думают, что дантист надеется привлечь благосклонное внимание и тем самым заманить больше народу выдирать зубы, когда это понадобится. В самом деле, среди членов «Ротари-клуба» или других организаций «с миссией» мы в избытке находим юристов, страховых агентов и других, кому есть что продать, но не слишком много работников почты или пилотов самолетов.
Для материалистичного ученого нет большего унижения, чем назвать какое-то действие альтруистическим, а потом увидеть, как более изощренный коллега продемонстрирует, что оно было эгоистическим. Этот страх, безусловно, объясняет невероятное количество чернил, которые бихевиористы извели на то, чтобы раскопать хоть какой-нибудь эгоистический мотив для якобы самоотверженных действий. В этой главе я собираюсь рассмотреть самые важные из этих усилий и показать, что они объясняют некоторые, хотя и никак не все, из наших неудач в погоне за эгоистическим интересом.
Невидимая рука
Внимание современного ученого-бихевиориста к эгоистическому интересу напрямую восходит к Адаму Смиту. Прозорливая идея шотландского философа, если выразить ее в двух предложениях, такова:
Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов. Мы обращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму, и никогда не говорим им о наших нуждах, но об их выгодах[12 - Здесь и далее цитаты приводятся по изданию: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Наука, 1992. – Примеч. науч. ред.].
В схеме Смита поиски личной выгоды часто приносят пользу другим людям. Торговец, стремящийся получить прибыль, действует так, как будто невидимая рука заставляет его поставлять продукты, которые мы желаем получить. Однако Смит не строил иллюзий насчет того, что у этого явления всегда благотворные последствия. «Представители одного и того же вида торговли и ремесла редко собираются вместе ‹…› без того, чтобы их разговор не кончился заговором против публики или каким-либо соглашением о повышении цен», – замечает он.
Многих людей – бихевиористов среди них вызывающе мало – оскорбляет предположение, что поведение так сильно подчинено эгоистическому интересу. Даже сам Адам Смит в более ранней книге «Теория нравственных чувств» трогательно писал о сострадании человека к своим собратьям:
Какую бы степень эгоизма мы ни предположили в человеке, природе его, очевидно, свойственно участие к тому, что случается с другими, участие, вследствие которого счастье их необходимо для него, даже если бы оно состояло только в удовольствии быть его свидетелем. Оно-то и служит источником жалости или сострадания и различных ощущений, возбуждаемых в нас несчастьем посторонних, увидим ли мы его собственными глазами или же представим его себе. Нам слишком часто приходится страдать страданиями другого, чтобы такая истина требовала доказательств. Чувство это, подобно прочим страстям, присущим нашей природе, обнаруживается не только в людях, отличающихся особенным человеколюбием и добродетелью, хотя, без всякого сомнения, они и наиболее восприимчивы к нему. Оно существует до известной степени в сердцах самых великих злодеев, людей, дерзким образом нарушивших общественные законы[13 - Smith A. The Theory of Moral Sentiments. N.Y.: Kelley, 1966 [1759]. P. 46 (рус. пер.: Смит А. Теория нравственных чувств. М.: Республика, 1997. C. 31).].
Однако кто будет отрицать, что большинство людей думает сначала о себе и о своей семье? Или то, что этот подход, безусловно, позволяет объяснять поведение? Когда детектив расследует убийство, его первый вопрос: «Кому выгодна смерть жертвы?» Когда экономист изучает государственное регулирование, он старается разобраться, в чью пользу оно работает, чьи доходы повышает. Когда сенатор предлагает новую статью расходов, политолог пытается понять, кто из его избирателей станет главным бенефициаром этого проекта. То, что эти вопросы так полезно задавать, не доказывает, что только лишь эгоистические мотивы имеют значение. Но даже в этом случае их важность едва ли вызывает сомнения.
Эгоизм и дарвиновская модель
Самое убедительное интеллектуальное основание для модели эгоистического интереса предлагается не в «Исследовании богатства народов» Адама Смита, а в «Происхождении видов» Чарльза Дарвина (1859 год). Дарвин объяснил, что единственный способ, каким унаследованное свойство может получить широкое распространение, – усилить репродуктивные способности индивидов, являющихся его носителями. Согласно Дарвину, отдельно взятое свойство мало что значит для благополучия популяции в целом.
Одни из наиболее ярких доказательств этого предположения – свойства и черты, обусловленные выбором партнера. Самку павлина по каким-то причинам привлекают самцы с большими и ярко раскрашенными перьями в хвосте – чем больше, тем лучше. Это предпочтение могло возникнуть, потому что такие большие перья – полезный признак крепкого здоровья в целом, хорошая черта для того, чтобы передать потомству. Но как бы оно ни возникло, раз образовавшись, такое предпочтение в дальнейшем самовоспроизводится. Самка павлина, озабоченная репродуктивным успехом собственного мужского потомства, не нуждается ни в какой иной причине, чтобы отдавать предпочтение большим, красочным хвостам, кроме той, что большинство других самок тоже предпочитает такие хвосты. Любая самка, спаривающаяся с самцом с небольшими перьями на хвосте, будет иметь больше шансов получить сыновей с короткими хвостовыми перьями, которые тоже в свою очередь столкнутся с трудностями в привлечении партнерш.
Если большая часть потомства произойдет от павлинов с длинным хвостовым оперением, среди самцов неизбежно начнется «гонка вооружений в хвостовом оперении». На каждом ее витке половой отбор будет поддерживать самцов с самым большим хвостовым оперением. В результате выживающие самцы будут иметь такое большое хвостовое оперение, что станут уязвимы для хищников. Павлины как группа, очевидно, имели бы больше преимуществ, если бы у всех было короткое хвостовое оперение. И тем не менее самцу-мутанту с существенно более коротким оперением будет труднее, чем остальным, поскольку он будет менее привлекателен для самок.
Пример с павлинами проясняет крайне важный тезис: единицей отбора в дарвиновской модели является индивид, а не группа или вид. Учитывая уровень, на котором происходит отбор, поведение и физические характеристики любого вида должны развиваться так, чтобы благоприятствовать репродуктивным интересам не вида в целом, а его индивидуальных членов. Оказавшись перед выбором между действием, которое принесет пользу другим, и действием, которое служит его собственным узким интересам, каждое животное, как считается, запрограммировано силами эволюции следовать по второму пути.
Это фундаментальный принцип. Он применим не только к размерам хвостового оперения, но и к вопросу, обманывать или нет. Британский биолог Ричард Докинз иллюстрирует идею следующим описанием поведения только что вылупившихся птенцов:
Многие виды птиц кормят своих птенцов в гнезде. Все птенцы раскрывают клювы и кричат, а родители бросают в раскрытый рот одного из них червяка или другой лакомый кусочек. Чем голоднее птенец, тем громче он кричит. Поэтому, если родители всякий раз дают пищу тому, кто кричит громче всех, все птенцы в конечном счете получают свою долю, потому что после того, как один из них получит достаточно пищи, он уже не кричит так громко. Во всяком случае, так должны были бы обстоять дела в этом лучшем из миров, если бы индивидуумы не мошенничали. Но в свете нашей концепции эгоистичного гена мы должны ожидать, что индивидуумы будут мошенничать – врать относительно того, насколько они голодны. Ситуация будет обостряться, причем, надо полагать, это окажется довольно бессмысленным, поскольку может показаться, что если все их громкие крики – обман, то такой уровень громкости превратится в норму и, в сущности, перестанет вводить в заблуждение. Однако процесс этот нельзя повернуть вспять, потому что любой птенец, который попытается сделать первый шаг, понизив громкость крика, тут же будет наказан: он получит меньше пищи и, по всей вероятности, будет голодать[14 - Dawkins R. The Selfish Gene. N.Y.: Oxford University Press, 1976. P. 139 (рус. пер.: Докинз Р. Эгоистичный ген. М.: АСТ, 2013. C. 213).].
Если бы человеческая природа тоже формировалась силами естественного отбора, по-видимому, пришлось бы сделать неизбежный вывод, что поведение человека должно быть в фундаментальном смысле эгоистическим, на манер описываемых Докинзом птенцов. Однако факт такого распространения дарвиновской модели на поведение человека остается глубоко спорным, в большой степени из-за того, что многие неохотно соглашаются с отрицанием существования у людей по-настоящему альтруистических побуждений.
Родственный отбор
Биологи неоднократно пытались объяснить поведение, которое внешне представляется жертвенным. Многие из них использовали предложенное Уильямом Хэмилтоном понятие родственного отбора[15 - Hamilton W.D. The Genetical Theory of Social Behavior // Journal of Theoretical Biology. 1964. Vol. 7. No. 1. P. 1–32.]. Согласно Хэмилтону, индивид часто бывает способен улучшать свое генетическое будущее, жертвуя собой ради других индивидов, носителей таких же, как у него, генов. Действительно, для некоторых особей некоторых видов (например, у рабочих муравьев, которые не могут размножаться) помощь родственникам – единственный способ помочь выживанию копий их собственных генов. Модель родственного отбора предсказывает, что родители пойдут на «альтруистические» жертвы ради своего потомства, братья – ради сестер и т. д. (Предвосхитив аргумент Хэмилтона на несколько десятков лет, Дж. Б.С. Хэлдейн однажды заметил, что для него было бы целесообразно пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы спасти жизни своих восьми двоюродных братьев и сестер – потому что двоюродные братья и сестры в среднем имеют одну восьмую общего генетического материала.)
Модель родственного отбора хорошо встраивается в концепцию Дарвина и пользуется большим влиянием в том, что касается предсказаний. Э.О. Уилсон, например, показал, что то, в какой степени муравьи помогают друг другу, очень точно предсказывается степенью их родства[16 - Wilson E.O. Sociobiology: The New Synthesis. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1975.]. Роберт Трайверс даже показал, что модель родства предсказывает специфические конфликты между родственниками. Он, например, продемонстрировал конфликт матери и потомства из-за отнятия от груди: период грудного вскармливания, отвечающий репродуктивным интересам матери, значительно короче, чем тот, который лучше всего служит ее потомству[17 - Trivers R. Parent-Offspring Conflict // American Zoologist. 1974. Vol. 14. No. 1. P. 249–264.].
Жертвы, принесенные ради родственников, – пример того, что Э.О. Уилсон называет «“жестким” альтруизмом, набором реакций, на которые не оказывают особого влияния социальные вознаграждения или наказания за пределами детского возраста»[18 - Wilson E.O. On Human Nature. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1978. P. 155.]. С одной точки зрения поведение, которое объясняется моделью родственного отбора, отнюдь не является жертвенным. Когда особь помогает родственнику, она просто помогает той части себя, которая воплощается в генах этого родственника.
Однако, как отмечает философ Филип Китчер, этот взгляд слишком быстро списывает невероятные личные издержки, которые иногда приходится нести тем, кто жертвует собой ради родственников.
Когда мы вспоминаем случаи альтруистического поведения в отношении родственников, мы вспоминаем в первую очередь не родителей, которые бросаются спасать детей прежде, чем осознают, что опасность грозит и им самим. Нет, мы думаем о политических заключенных, которые выдерживают пытки, чтобы защитить своих родных, о Корделии, следующей за отцом в тюрьму, о решимости Антигоны похоронить своего брата. Это не те случаи, от которых мы склонны отмахнуться как от реакций, «оставшихся более или менее неизменными за пределами детского возраста». Наоборот, они предстают перед нами как мужественные акты самопожертвования, на которое человек решился после глубокого размышления[19 - Kitcher Ph. Vaulting Ambition. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1985. P. 401.].
Но самая главная трудность использования модели родственного отбора для наших целей состоит не в том, что она не объясняет некоторых из проявлений благородного поведения, подпадающих под рубрику жесткого альтруизма. Проблема, скорее, в том, что она не объясняет многих вполне понятных случаев по-настоящему альтруистического поведения в отношении неродственников.
Некоторые аналитики предлагали считать жесткий альтруизм эволюционным рудиментом, паттерном, сформированным родственным отбором в те времена, когда люди жили исключительно в группах близких родственников. С этой точки зрения особая концентрация на различиях между родственниками и неродственниками никогда не приносила каких-либо особенных преимуществ, ибо все в той или иной степени состояли в родстве.
Действительно, наши предки существовали небольшими родственными группами на протяжении всей эволюции человека, и совершенно логично говорить о том, что черты, каким отдавалось предпочтение в течение этого периода, могли сохраниться до наших дней. Но даже в ранних группах охотников и собирателей модель родственного отбора не будет предсказывать альтруистического поведения ко всем без исключения.
Так происходит просто потому, что генетическое родство стремительно уменьшается, как только мы выходим за пределы нуклеарной семьи. Родные братья и сестры имеют в среднем половину общих генов, двоюродные – только одну восьмую, а троюродные – только одну тридцатьвторую. Таким образом, с точки зрения генетики троюродные родственники мало чем отличаются от совершенно чужих людей, а модель родственного отбора предсказывает, что помощь им принесет лишь небольшую выгоду. Было показано, что насекомые меняют свое поведение при оказании помощи с учетом еще более мелких вариаций в степени родства, чем эта[20 - Wilson E.O. Sociobiology…]. Поскольку всегда есть крайне существенные вариации в степени генетического родства даже между членами самых мелких групп охотников и собирателей, маловероятно, чтобы силы родственного отбора могли породить неразборчивое альтруистическое поведение.
Когда оппортуниста заставляют вести себя морально, его почти незамедлительный, хотя и невысказанный вслух, вопрос: «Что я от этого получу?» Традиционное обоснование максимы «Честность – лучшая политика»: обман зачастую сурово карается, и никогда нельзя быть уверенным, что тебя не раскроют. Далее срабатывает инерция: однажды сдержанное обещание создает впечатление, что вы сделаете то же самое в будущем. Это, в свою очередь, располагает людей больше вам доверять, что порой дает решающее преимущество.
В некоторых случаях легко увидеть, почему честность – это действительно лучшая политика, согласно традиционно приводимым доводам. Рассмотрим, например, практику, которая со всей очевидностью зиждется на доверии: чаевые в ресторане. Поскольку чаевые принято оставлять в конце, официант или официантка должны полагаться на имплицитное обещание клиента наградить их за быстрое и вежливое обслуживание[11 - Недавняя карикатура в журнале The New Yorker подсказывает способ уменьшить риск для официанта. Она изображает одинокого клиента в самый разгар обеда. На столе стоит тарелка с горсткой монет и табличка, на которой написано: «Ваши чаевые на данный момент».]. Добившись хорошего обслуживания, клиент может надуть официанта. Но хотя так время от времени и происходит, для большинства людей, неоднократно посещающих одни и те же рестораны, такая политика была бы неразумной. Человек, оставляющий щедрые чаевые всякий раз, когда посещает свой любимый ресторан, может рассматриваться как тот, кто делает рациональную инвестицию в получение хорошего обслуживания в будущем. Выполнение его имплицитного обещания, очевидно, не только не противоречит реализации его эгоистического интереса, но даже необходимо для активного стремления к этой реализации.
Трудность в том, что на самом деле поведение дающего чаевые в данном случае не отражает то, что мы понимаем под «честностью». Возможно, точнее будет описать его как «осторожность». Он выполнил обещание, да, но, поскольку его невыполнение привело бы к плохому обслуживанию в будущем, мы не можем заключить, что верность обещанию была здесь важным фактором мотивации.
Соблюдают ли люди свои договоренности, когда предполагают, что будут взаимодействовать с нами неоднократно, – это, конечно, важно. Но большую часть времени мы озабочены тем, как они себя поведут либо при мимолетной встрече, либо в ситуациях, когда за их поведением нельзя проследить. В конце концов, именно в таких ситуациях по-настоящему проверяется характер человека. В них честный поступок будет действительно требовать самопожертвования. Яркий пример – чаевые, оставленные в ресторане в далеком городе. Когда приезжий нарушает имплицитное обещание оставить чаевые, он экономит какие-то деньги, а у разгневанного официанта нет возможности с ним поквитаться.
Держа в голове подобные ситуации, многие люди цинично реагируют на идею, что честность – лучшая политика. Они понимают, что гарантированный успех – необязательное условие прибыльности обмана. Конечно, всегда есть некоторая вероятность, что официант, разозлившись, устроит сцену, свидетелем которой станет кто-то из ваших знакомых. Но, если не брать в расчет знаменитостей, этот риск не страшен или же слишком мал, чтобы всерьез рассматриваться как эгоистическое основание для чаевых. Трудность с традиционными эгоистическими апелляциями к морали в том, что они не дают причин не обманывать в ситуациях, в которых разоблачение абсолютно невозможно.
Модель обязательства предлагает совершенно иное основание для честности, одновременно и эгоистичное, и релевантное для ситуаций, в которых обман нельзя разоблачить. Если в человеке можно заметить такие черты характера, как честность, честный человек выиграет, имея возможность решить важные проблемы обязательства. Он окажется достойным доверия в ситуациях, в которых законченный эгоист будет казаться недостаточно надежным и потому будет не особенно популярен в ситуациях, предполагающих доверие.
Оставляя чаевые в далеком городе, человек подкрепляет собственные привычки, которые хочет в себе культивировать. Ибо, хотя современные биологи установили, что способность развивать различные черты характера является наследственной, никто до сих пор успешно не оспорил оставшееся с XIX века представление: для того чтобы проявились черты характера, нужны воспитание и практика. Таким образом, причинно-следственные отношения между характером и поведением действуют в обе стороны. Характер, конечно же, влияет на поведение. Но поведение так же влияет на характер. Несмотря на наши очевидные способности к самообману и рационализации, лишь немногие люди могут сохранять способности к честному поведению, если при этом им приходится часто демонстрировать явно оппортунистическое поведение.
Цель оппортуниста – выглядеть честным, не упуская при этом ни одной возможности для личной выгоды. Он хочет выглядеть хорошим человеком перед людьми, которые важны для него, но в то же время не оставлять чаевые в далеком городе. Однако, если черты характера считываются, это может оказаться невозможно. Может случиться и так: чтобы выглядеть честным, необходимо или по крайней мере полезно быть честным.
Эти наблюдения содержат в себе зерно совершенно иного основания для того, чтобы оставлять чаевые в ресторанах в далеком городе. Мотивация не в том, чтобы избежать поимки с поличным, а в том, чтобы поддерживать и укреплять склонность к честному поведению. То, что я не оставлю чаевые в далеком городе, помешает мне культивировать эмоции, мотивирующие поступать честно в других ситуациях. Именно это изменение в моем эмоциональном настрое, а не факт отсутствия чаевых может быть замечен другими людьми.
Философы морали и проч. часто подчеркивали негативные социальные последствия необузданной погони за своим эгоистическим интересом. Представители утилитаризма, например, призывают нас практиковать сдержанность, ибо мир станет лучше, если все будут сдержаннее. Но для оппортунистов такие призывы непривлекательны. С внешне безупречной логикой они рассуждают о том, что их собственное поведение не слишком влияет на то, что делают другие. Поскольку положение в мире оказывается в основном независимым от их собственного поведения, они делают вывод, что им лучше брать все, что можно, и предполагать, что другие поступают так же. По мере того как все больше людей начинают придерживаться этих взглядов, даже по-настоящему честным людям становится все труднее поступать иначе.
Многие из моих друзей и я сам в прошлые годы жаловались, что чувствуем себя идиотами, когда платим подоходный налог, в то время как так много людей открыто уклоняются от его уплаты. Однако не так давно занятия моделью обязательства радикально изменили взгляды на этот вопрос. Я по-прежнему раздражаюсь, когда сантехник просит меня заплатить наличными, но теперь мою обиду сглаживает мысль, что уплата налогов – это моя инвестиция в поддержание моей предрасположенности к честности. Добродетель здесь не только сама по себе награда, она также может привести к материальному вознаграждению в других контекстах. Больше ли этот внешний выигрыш того, что я мог бы спокойно украсть у государства – я точно не знаю. Но факты, как мы увидим, подсказывают, что, может быть, и больше.
Сама возможность подобных вознаграждений трансформирует решение человека, культивировать ли ему в себе склонность к честности или нет. С традиционной точки зрения на мораль, оппортунисты имеют все основания нарушать правила (и учить своих детей поступать так же) всегда, когда они могут сделать это с пользой для себя. Модель обязательства ставит под сомнение саму суть этого взгляда, что для меня является самой восхитительной ее особенностью. Поскольку эта модель дает понятный ответ на насущный вопрос: «Что я от этого получу?», я надеюсь, что она вдохновит даже самых закоренелых циников с большим уважением относиться к другим людям.
II. Парадокс альтруизма
Во «Взрослении» Рассел Бейкер рассказывает о родственниках матери, собравшихся за кухонным столом поздно ночью во время Великой депрессии и разговаривающих о давно потерянном семейном состоянии. О нем стало известно много лет назад, когда дедушка, «Папа», ездил в Европу изучать историю семьи. Там он узнал, что происходит из рода «сказочно богатого старого епископа Лондонского времени герцога Мальборо и королевы Анны».
Епископ, по-видимому, завещал свое состояние родственникам из Вирджинии – т. е. предкам Бейкера – но по каким-то причинам оно так и не перебралось через Атлантику. Папа сообщили, что оно было «возвращено Короне» и теперь является собственностью империи. Семья, однако, не сомневалась, что их законное состояние было украдено у них «британскими интриганами».
По их словам, потеря была ощутимой. «Возможно, миллион долларов в нынешних деньгах», как сказал дядя Рассела, Аллен. «Скорее пятьдесят или шестьдесят миллионов», по мнению его дяди Хэла.
Одиннадцатилетний Рассел одурманен былым семейным богатством. Но его сестра Дорис, хоть и на два года младше, настроена более скептически. Вот как об этом рассказывает Бейкер:
Мое волнение по поводу утраченного семейного богатства охладила Дорис. Однажды вечером я привычно ныл, сетуя, что приходится продавать журналы:
– Если бы мамин отец получил то богатство, мне бы не пришлось работать.
На что она спросила:
– Ты же не веришь в эти бредни?
Тогда-то я и расстался с иллюзиями. Еще не хватало, чтобы какая-то девятилетняя девчонка переплюнула меня по части скептицизма.
Подобно юному Бейкеру, многие ученые-бихевиористы страшно боятся, что коллеги сочтут их наивными. Им неприятно, когда их просят объяснить, почему дантист бесплатно работает в совете директоров местного благотворительного фонда. Возможно, он взялся за это добровольно – из благородных побуждений, но приземленные бихевиористы с неохотой говорят о таких мотивах. Они чувствуют себя гораздо увереннее, когда думают, что дантист надеется привлечь благосклонное внимание и тем самым заманить больше народу выдирать зубы, когда это понадобится. В самом деле, среди членов «Ротари-клуба» или других организаций «с миссией» мы в избытке находим юристов, страховых агентов и других, кому есть что продать, но не слишком много работников почты или пилотов самолетов.
Для материалистичного ученого нет большего унижения, чем назвать какое-то действие альтруистическим, а потом увидеть, как более изощренный коллега продемонстрирует, что оно было эгоистическим. Этот страх, безусловно, объясняет невероятное количество чернил, которые бихевиористы извели на то, чтобы раскопать хоть какой-нибудь эгоистический мотив для якобы самоотверженных действий. В этой главе я собираюсь рассмотреть самые важные из этих усилий и показать, что они объясняют некоторые, хотя и никак не все, из наших неудач в погоне за эгоистическим интересом.
Невидимая рука
Внимание современного ученого-бихевиориста к эгоистическому интересу напрямую восходит к Адаму Смиту. Прозорливая идея шотландского философа, если выразить ее в двух предложениях, такова:
Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов. Мы обращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму, и никогда не говорим им о наших нуждах, но об их выгодах[12 - Здесь и далее цитаты приводятся по изданию: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Наука, 1992. – Примеч. науч. ред.].
В схеме Смита поиски личной выгоды часто приносят пользу другим людям. Торговец, стремящийся получить прибыль, действует так, как будто невидимая рука заставляет его поставлять продукты, которые мы желаем получить. Однако Смит не строил иллюзий насчет того, что у этого явления всегда благотворные последствия. «Представители одного и того же вида торговли и ремесла редко собираются вместе ‹…› без того, чтобы их разговор не кончился заговором против публики или каким-либо соглашением о повышении цен», – замечает он.
Многих людей – бихевиористов среди них вызывающе мало – оскорбляет предположение, что поведение так сильно подчинено эгоистическому интересу. Даже сам Адам Смит в более ранней книге «Теория нравственных чувств» трогательно писал о сострадании человека к своим собратьям:
Какую бы степень эгоизма мы ни предположили в человеке, природе его, очевидно, свойственно участие к тому, что случается с другими, участие, вследствие которого счастье их необходимо для него, даже если бы оно состояло только в удовольствии быть его свидетелем. Оно-то и служит источником жалости или сострадания и различных ощущений, возбуждаемых в нас несчастьем посторонних, увидим ли мы его собственными глазами или же представим его себе. Нам слишком часто приходится страдать страданиями другого, чтобы такая истина требовала доказательств. Чувство это, подобно прочим страстям, присущим нашей природе, обнаруживается не только в людях, отличающихся особенным человеколюбием и добродетелью, хотя, без всякого сомнения, они и наиболее восприимчивы к нему. Оно существует до известной степени в сердцах самых великих злодеев, людей, дерзким образом нарушивших общественные законы[13 - Smith A. The Theory of Moral Sentiments. N.Y.: Kelley, 1966 [1759]. P. 46 (рус. пер.: Смит А. Теория нравственных чувств. М.: Республика, 1997. C. 31).].
Однако кто будет отрицать, что большинство людей думает сначала о себе и о своей семье? Или то, что этот подход, безусловно, позволяет объяснять поведение? Когда детектив расследует убийство, его первый вопрос: «Кому выгодна смерть жертвы?» Когда экономист изучает государственное регулирование, он старается разобраться, в чью пользу оно работает, чьи доходы повышает. Когда сенатор предлагает новую статью расходов, политолог пытается понять, кто из его избирателей станет главным бенефициаром этого проекта. То, что эти вопросы так полезно задавать, не доказывает, что только лишь эгоистические мотивы имеют значение. Но даже в этом случае их важность едва ли вызывает сомнения.
Эгоизм и дарвиновская модель
Самое убедительное интеллектуальное основание для модели эгоистического интереса предлагается не в «Исследовании богатства народов» Адама Смита, а в «Происхождении видов» Чарльза Дарвина (1859 год). Дарвин объяснил, что единственный способ, каким унаследованное свойство может получить широкое распространение, – усилить репродуктивные способности индивидов, являющихся его носителями. Согласно Дарвину, отдельно взятое свойство мало что значит для благополучия популяции в целом.
Одни из наиболее ярких доказательств этого предположения – свойства и черты, обусловленные выбором партнера. Самку павлина по каким-то причинам привлекают самцы с большими и ярко раскрашенными перьями в хвосте – чем больше, тем лучше. Это предпочтение могло возникнуть, потому что такие большие перья – полезный признак крепкого здоровья в целом, хорошая черта для того, чтобы передать потомству. Но как бы оно ни возникло, раз образовавшись, такое предпочтение в дальнейшем самовоспроизводится. Самка павлина, озабоченная репродуктивным успехом собственного мужского потомства, не нуждается ни в какой иной причине, чтобы отдавать предпочтение большим, красочным хвостам, кроме той, что большинство других самок тоже предпочитает такие хвосты. Любая самка, спаривающаяся с самцом с небольшими перьями на хвосте, будет иметь больше шансов получить сыновей с короткими хвостовыми перьями, которые тоже в свою очередь столкнутся с трудностями в привлечении партнерш.
Если большая часть потомства произойдет от павлинов с длинным хвостовым оперением, среди самцов неизбежно начнется «гонка вооружений в хвостовом оперении». На каждом ее витке половой отбор будет поддерживать самцов с самым большим хвостовым оперением. В результате выживающие самцы будут иметь такое большое хвостовое оперение, что станут уязвимы для хищников. Павлины как группа, очевидно, имели бы больше преимуществ, если бы у всех было короткое хвостовое оперение. И тем не менее самцу-мутанту с существенно более коротким оперением будет труднее, чем остальным, поскольку он будет менее привлекателен для самок.
Пример с павлинами проясняет крайне важный тезис: единицей отбора в дарвиновской модели является индивид, а не группа или вид. Учитывая уровень, на котором происходит отбор, поведение и физические характеристики любого вида должны развиваться так, чтобы благоприятствовать репродуктивным интересам не вида в целом, а его индивидуальных членов. Оказавшись перед выбором между действием, которое принесет пользу другим, и действием, которое служит его собственным узким интересам, каждое животное, как считается, запрограммировано силами эволюции следовать по второму пути.
Это фундаментальный принцип. Он применим не только к размерам хвостового оперения, но и к вопросу, обманывать или нет. Британский биолог Ричард Докинз иллюстрирует идею следующим описанием поведения только что вылупившихся птенцов:
Многие виды птиц кормят своих птенцов в гнезде. Все птенцы раскрывают клювы и кричат, а родители бросают в раскрытый рот одного из них червяка или другой лакомый кусочек. Чем голоднее птенец, тем громче он кричит. Поэтому, если родители всякий раз дают пищу тому, кто кричит громче всех, все птенцы в конечном счете получают свою долю, потому что после того, как один из них получит достаточно пищи, он уже не кричит так громко. Во всяком случае, так должны были бы обстоять дела в этом лучшем из миров, если бы индивидуумы не мошенничали. Но в свете нашей концепции эгоистичного гена мы должны ожидать, что индивидуумы будут мошенничать – врать относительно того, насколько они голодны. Ситуация будет обостряться, причем, надо полагать, это окажется довольно бессмысленным, поскольку может показаться, что если все их громкие крики – обман, то такой уровень громкости превратится в норму и, в сущности, перестанет вводить в заблуждение. Однако процесс этот нельзя повернуть вспять, потому что любой птенец, который попытается сделать первый шаг, понизив громкость крика, тут же будет наказан: он получит меньше пищи и, по всей вероятности, будет голодать[14 - Dawkins R. The Selfish Gene. N.Y.: Oxford University Press, 1976. P. 139 (рус. пер.: Докинз Р. Эгоистичный ген. М.: АСТ, 2013. C. 213).].
Если бы человеческая природа тоже формировалась силами естественного отбора, по-видимому, пришлось бы сделать неизбежный вывод, что поведение человека должно быть в фундаментальном смысле эгоистическим, на манер описываемых Докинзом птенцов. Однако факт такого распространения дарвиновской модели на поведение человека остается глубоко спорным, в большой степени из-за того, что многие неохотно соглашаются с отрицанием существования у людей по-настоящему альтруистических побуждений.
Родственный отбор
Биологи неоднократно пытались объяснить поведение, которое внешне представляется жертвенным. Многие из них использовали предложенное Уильямом Хэмилтоном понятие родственного отбора[15 - Hamilton W.D. The Genetical Theory of Social Behavior // Journal of Theoretical Biology. 1964. Vol. 7. No. 1. P. 1–32.]. Согласно Хэмилтону, индивид часто бывает способен улучшать свое генетическое будущее, жертвуя собой ради других индивидов, носителей таких же, как у него, генов. Действительно, для некоторых особей некоторых видов (например, у рабочих муравьев, которые не могут размножаться) помощь родственникам – единственный способ помочь выживанию копий их собственных генов. Модель родственного отбора предсказывает, что родители пойдут на «альтруистические» жертвы ради своего потомства, братья – ради сестер и т. д. (Предвосхитив аргумент Хэмилтона на несколько десятков лет, Дж. Б.С. Хэлдейн однажды заметил, что для него было бы целесообразно пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы спасти жизни своих восьми двоюродных братьев и сестер – потому что двоюродные братья и сестры в среднем имеют одну восьмую общего генетического материала.)
Модель родственного отбора хорошо встраивается в концепцию Дарвина и пользуется большим влиянием в том, что касается предсказаний. Э.О. Уилсон, например, показал, что то, в какой степени муравьи помогают друг другу, очень точно предсказывается степенью их родства[16 - Wilson E.O. Sociobiology: The New Synthesis. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1975.]. Роберт Трайверс даже показал, что модель родства предсказывает специфические конфликты между родственниками. Он, например, продемонстрировал конфликт матери и потомства из-за отнятия от груди: период грудного вскармливания, отвечающий репродуктивным интересам матери, значительно короче, чем тот, который лучше всего служит ее потомству[17 - Trivers R. Parent-Offspring Conflict // American Zoologist. 1974. Vol. 14. No. 1. P. 249–264.].
Жертвы, принесенные ради родственников, – пример того, что Э.О. Уилсон называет «“жестким” альтруизмом, набором реакций, на которые не оказывают особого влияния социальные вознаграждения или наказания за пределами детского возраста»[18 - Wilson E.O. On Human Nature. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1978. P. 155.]. С одной точки зрения поведение, которое объясняется моделью родственного отбора, отнюдь не является жертвенным. Когда особь помогает родственнику, она просто помогает той части себя, которая воплощается в генах этого родственника.
Однако, как отмечает философ Филип Китчер, этот взгляд слишком быстро списывает невероятные личные издержки, которые иногда приходится нести тем, кто жертвует собой ради родственников.
Когда мы вспоминаем случаи альтруистического поведения в отношении родственников, мы вспоминаем в первую очередь не родителей, которые бросаются спасать детей прежде, чем осознают, что опасность грозит и им самим. Нет, мы думаем о политических заключенных, которые выдерживают пытки, чтобы защитить своих родных, о Корделии, следующей за отцом в тюрьму, о решимости Антигоны похоронить своего брата. Это не те случаи, от которых мы склонны отмахнуться как от реакций, «оставшихся более или менее неизменными за пределами детского возраста». Наоборот, они предстают перед нами как мужественные акты самопожертвования, на которое человек решился после глубокого размышления[19 - Kitcher Ph. Vaulting Ambition. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1985. P. 401.].
Но самая главная трудность использования модели родственного отбора для наших целей состоит не в том, что она не объясняет некоторых из проявлений благородного поведения, подпадающих под рубрику жесткого альтруизма. Проблема, скорее, в том, что она не объясняет многих вполне понятных случаев по-настоящему альтруистического поведения в отношении неродственников.
Некоторые аналитики предлагали считать жесткий альтруизм эволюционным рудиментом, паттерном, сформированным родственным отбором в те времена, когда люди жили исключительно в группах близких родственников. С этой точки зрения особая концентрация на различиях между родственниками и неродственниками никогда не приносила каких-либо особенных преимуществ, ибо все в той или иной степени состояли в родстве.
Действительно, наши предки существовали небольшими родственными группами на протяжении всей эволюции человека, и совершенно логично говорить о том, что черты, каким отдавалось предпочтение в течение этого периода, могли сохраниться до наших дней. Но даже в ранних группах охотников и собирателей модель родственного отбора не будет предсказывать альтруистического поведения ко всем без исключения.
Так происходит просто потому, что генетическое родство стремительно уменьшается, как только мы выходим за пределы нуклеарной семьи. Родные братья и сестры имеют в среднем половину общих генов, двоюродные – только одну восьмую, а троюродные – только одну тридцатьвторую. Таким образом, с точки зрения генетики троюродные родственники мало чем отличаются от совершенно чужих людей, а модель родственного отбора предсказывает, что помощь им принесет лишь небольшую выгоду. Было показано, что насекомые меняют свое поведение при оказании помощи с учетом еще более мелких вариаций в степени родства, чем эта[20 - Wilson E.O. Sociobiology…]. Поскольку всегда есть крайне существенные вариации в степени генетического родства даже между членами самых мелких групп охотников и собирателей, маловероятно, чтобы силы родственного отбора могли породить неразборчивое альтруистическое поведение.