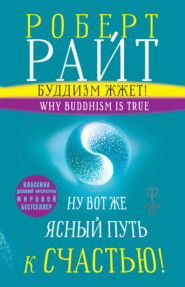По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Моральное животное
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тут может возникнуть закономерный и весьма щекотливый вопрос: распространяются ли консервативные взгляды современных дарвинистов и на политическую сферу? Естественно, все уже давно открестились от социального дарвинизма как от фатального, трагического заблуждения (и правильно сделали), однако мало кто решится отрицать, что вопрос о природной добродетели людей имеет явный политический подтекст, – связь идеологии и воззрений на природу человека слишком очевидна. За два прошлых столетия смысл политического «либерализма» и «консерватизма» изменился почти до неузнаваемости, но между ними все же сохранилось одно четкое отличие – политические либералы (например, как Милль в свое время) смотрят на природу человека в радужном свете и поэтому ратуют за более свободный моральный климат.
Актуальна ли эта связь между моралью и политикой в современном контексте? Новая эволюционная парадигма (в отличие от теории эволюции в целом) имеет обоснованный, умеренный политический подтекст, причем в равной степени как с левым, так и с правым уклоном. Хотя в отдельных случаях – с радикально левым (Карлу Марксу бы понравилось, но, увы, не все). Новая парадигма, с одной стороны, демонстрирует либералам идеологическую необходимость некоторых принципов нравственного консерватизма, а с другой стороны, показывает, что консерватизм только выиграет от либеральной социальной политики.
Анализируя Дарвина
Доказать состоятельность дарвинистского подхода я решил на примере самого Чарлза Дарвина. Его мысли, эмоции и поведение отлично иллюстрируют принципы эволюционной психологии.
В 1876 году в первом абзаце своей автобиографии он признался: «Нижеследующий рассказ о самом себе я старался написать так, словно бы меня уже не было в живых и я оглядывался бы на свою жизнь из другого мира», а затем с характерной мрачной отрешенностью добавил: «И не скажу, чтобы это было для меня трудно, ибо жизнь моя почти закончена»[9 - Дарвин Ч. Автобиография. Ч. 1.]. Я тешу себя дерзкой надеждой, что, пиши Дарвин свои воспоминания сейчас, вооруженный открытиями нового эволюционизма, у него получилось бы что-то похожее на эту книгу.
Биография Дарвина послужит нам даже не столько иллюстрацией, сколько пробным камнем для современной, улучшенной версии его теории естественного отбора. Дарвин и его последователи (не исключая меня) считали и считают, что с помощью теории эволюции можно объяснить природу всего живого. Если это так, то в качестве подопытного кролика подойдет любой человек, и почему бы в таком случае нам не взять того, кто и заварил всю эту кашу. Я считаю, что эволюционный подход лучше всего годится для анализа биографии Дарвина и его социального окружения – викторианской Англии. В этом отношении он и его современники подобны всем прочим объектам органической природы (простите мне такую дерзость).
Я признаю, что в контексте естественного отбора мы прежде всего думаем о беспощадной борьбе за существование и выживании сильнейших, а никак не о Дарвине, который, по воспоминаниям современников, всегда был вежливым и мягкосердечным (за исключением случаев, когда задевались его нравственные принципы, например, если он слышал, как оправдывают рабство, или видел извозчика, бьющего лошадь)[10 - LLCD. Т. 3. С. 20. Автобиография.]. Даже слава ничуть его не изменила. Английский литературный критик Лесли Стивен так отзывался о Дарвине: «Из всех выдающихся людей, с которыми мне довелось встретиться, он без сомнения вызывает у меня наибольшую симпатию. Есть что-то трогательное в его простоте и приветливости»[11 - Clark (1984). С. 168.]. Именно таких людей Смайлс называл «истинными джентльменами».
Дарвин прочитал «Саморазвитие» в пятьдесят один год, хотя ему уже нечему было учиться у Смайлса: он и так жил под девизом постоянной борьбы с «нравственным невежеством, себялюбием и пороками». По общему мнению, Дарвин был скромен до чрезмерности, и если ему и требовалось психологическое руководство, то скорее одно из тех, что издаются сейчас, – о том, как поверить в себя и полюбить себя.
Джон Боулби (1907–1990), английский психиатр и проницательный биограф, полагал, что Дарвин страдал от «мучительного презрения к самому себе» и «сверхактивной совести»: «Его простота и строжайшие моральные принципы привлекали к нему людей: родственников, друзей, коллег – и до сих пор вызывают искреннее восхищение, однако они развились так рано и с такой силой, что доставляли ему немало мук»[12 - Bowlby (1991). С. 74–75; Смайлс (1859).].
Это, по-моему, делает Дарвина идеальным объектом для изучения. Я попробую доказать, что его характерные качества: скромность, совестливость, неприятие грубости – для естественного отбора, казалось бы, бесполезные, все же естественным отбором и обусловлены. Именно таких людей, как Дарвин – благородных, добрых, честных, – мы мечтали бы видеть вокруг себя. Однако, по сути, он ничем от нас не отличался. Даже Чарлз Дарвин был животным.
Часть первая
Секс, романтические отношения и любовь
Глава 1
Юный Дарвин и старая Англия
Что касается английских леди, я почти забыл, что это такое…
Нечто ангельское и прекрасное, я полагаю.
Письмо с корабля Ее Величества «Бигль» (1835)[13 - CCD. Т. 1. С. 460.]
Юношам, родившимся в Англии XIX века, обычно рекомендовали не искать сексуальных наслаждений и не делать вещи, которые могут навести на мысли о таких наслаждениях. В своей книге «Функции и расстройства репродуктивных органов» викторианский врач Уильям Эктон предостерегает от опасностей, которые таят в себе «классические» произведения литературы: «В них много написано об удовольствиях, но ничего – о расплате за половые излишества. Мальчик и не подозревает, что, если сексуальные желания возникнут, для их обуздания потребуется сила воли, коей большинство юношей не обладают. Он не знает, что взрослый мужчина вынужден платить высокую цену за ошибки юности; что на одного спасшегося приходится десять, чью жизнь отравляют страдания; что ужасный риск сопутствует ненормальным заменителям половых отношений и что длительное потворство собственным слабостям в конечном итоге может привести к ранней смерти или самоубийству»[14 - Marcus (1974). С. 16–17.].
Книга Эктона была издана в 1857 году и отражала нравственные нормы так называемого средневикторианского периода. Впрочем, сексуальный аскетизм давно витал в воздухе – еще до восхождения на трон королевы Виктории в 1837 году. Фактически к нему призывали и до 1830 года – начала Викторианской эры в ее наиболее широкой трактовке. На рубеже веков жесткий моральный кодекс активно подпитывало евангелическое движение[15 - См.: Stone (1977). С. 422; Himmelfarb (1968). С. 278; Young (1936). С. 1–5; Houghton (1957).]. Как отмечает Дж. М. Янг в своем труде «Портрет эпохи», все мысли и поступки юноши, рожденного в Англии в 1810 году (на год позже Дарвина), «направляло и вдохновляло немыслимое давление евангелистской дисциплины». Это касалось не только сексуальной сдержанности, но и сдержанности вообще – закономерное следствие масштабной войны с распущенностью. Всякому юноше надлежало усвоить, как выразился Янг, что «мир в высшей степени порочен. Неосторожный взгляд, слово, жест, картина или роман могли посеять семя разврата в самом невинном сердце»[16 - Young (1936). С. 1–2.]. Другой исследователь викторианства охарактеризовал жизнь в те времена как «постоянную борьбу – не только с соблазнами и искушениями, но и с желаниями эго»; путем «строжайшей самодисциплины человек должен был заложить фундамент хороших привычек и тем самым обрести самоконтроль»[17 - Houghton (1957). С. 233–34.].
Именно эту идеологию Сэмюэль Смайлс, появившийся на свет через три года после Дарвина, отстаивал в своем «Саморазвитии». Как показывает популярность этой книги, евангелическое мировоззрение распространилось далеко за пределы методистских церквей, которые некогда послужили его источником: оно проникло в дома англиканцев, унитариев и даже агностиков[18 - Houghton (1957). С. 62, 238; Young (1936). С. 1–4.]. Хороший тому пример – семья Дарвина. Хотя родители Чарлза придерживались унитарианских взглядов (отец Дарвина был вольнодумцем, правда тихим и безобидным), сам он впитал пуританский дух того времени. Об этом наглядно свидетельствует его обостренное чувство совести и строгие нормы поведения, которых он придерживался всю жизнь. Спустя много лет после отказа от своей веры Дарвин писал: «Высшая степень нравственного развития, которой мы можем достигнуть, есть та, когда мы сознаем, что мы должны контролировать свои мысли и [как сказал Теннисон] «даже в самых затаенных мыслях не вспоминать грехов, делавших прошедшее столь приятным для нас». Все, что позволяет нашему уму освоиться с каким-нибудь дурным делом, облегчает совершение последнего. Марк Аврелий давно сказал: «Каковы твои постоянные мысли, таков будет и склад твоего ума, потому что душа окрашивается мыслями»[19 - Дарвин Ч. Происхождение человека. Гл. IV. С. 236.].
Хотя юность и зрелость Дарвина в некотором роде весьма необычны, в данном отношении они типичны для того времени: он жил под сильнейшим моральным давлением. В его мире вопросы о том, что хорошо, а что плохо, задавали на каждом шагу. Более того, на эти вопросы можно было дать ответ – четкий и ясный, хотя подчас и не самый приятный. Одним словом, наш мир очень отличается от мира королевы Виктории, причем во многом благодаря самому Дарвину.
Неожиданный герой
Первоначально Чарлз Дарвин намеревался стать врачом: «Мой отец… говорил, что из меня получился бы весьма удачливый врач, разумея под этим такого врача, у которого будет много пациентов. Он утверждал, что главный залог успеха заключается в умении внушать доверие к себе; я не знаю, однако, какие качества он мог усмотреть во мне, которые привели его к убеждению, что я мог бы возбуждать доверие к себе». Тем не менее в шестнадцать лет Чарлз послушно покинул уютное семейное поместье в Шрусбери и в сопровождении старшего брата Эразма отправился в Эдинбургский университет изучать медицину.
Особого энтузиазма профессия эскулапа у Дарвина не вызывала. В Эдинбурге Чарлз учился неохотно и старательно избегал анатомического театра (наблюдения за хирургическими операциями до изобретения хлороформа явно пришлись ему не по вкусу), зато посвящал много времени разного рода факультативным занятиям. Вместе с рыбаками он ловил устриц, увлекался охотой, брал уроки таксидермии, гулял и беседовал с Робертом Грантом – большим знатоком губок, который горячо верил в эволюцию, но, разумеется, понятия не имел, как она работает.
Через два года отец заподозрил, что хорошего врача из сына все-таки не получится; как позже вспоминал Дарвин-младший, «возможность моего превращения в праздного любителя cпорта – а такая моя будущность казалась тогда вероятной – совершенно справедливо приводила его в страшное негодование»[20 - Дарвин Ч. Автобиография. Ч. 1.]. В конце концов доктор Роберт счел нужным прибегнуть к плану Б и предложил «непутевому» отпрыску сделаться священником.
Такое предложение может показаться странным, особенно если учесть, что исходило оно, во-первых, от человека, который сам не верил в Бога, а во-вторых, предназначалось юноше, который не только не был вопиюще набожным, но и питал выраженный интерес к зоологии. Но отец Дарвина был человеком практичным. В то время зоология и теология считались двумя сторонами одной монеты. Если все живые существа суть творения Господни, то изучение их искусного строения равноценно постижению духа Божьего. Самым известным сторонником подобных взглядов был Уильям Пейли, автор книги «Естественная теология» (1802), в которой различные природные явления рассматривались как доказательства существования Бога. Подобно тому как часы подразумевают часовщика, утверждал Пейли, так и мир, полный замысловато устроенных организмов, идеально приспособленных для выполнения определенных задач, подразумевает творца[21 - См.: Gruber (1981). С. 52–59; современный ответ Пейли см.: Докинз Р. Слепой часовщик.]. (Пейли, безусловно, прав. Вопрос в том, кто этот творец – всевидящий Бог или бессознательный процесс.)
Поскольку естественная теология быстро снискала популярность, любой сельский священник отныне мог без зазрения совести тратить уйму времени на изучение и описание природы. Возможно, именно поэтому молодой Дарвин весьма благосклонно отреагировал на идею облачиться в рясу: «Я попросил дать мне некоторое время на размышление, потому что на основании тех немногих сведений и мыслей, которые были у меня на этот счет, я не мог без колебаний заявить, что верю во все догматы англиканской церкви; впрочем, в других отношениях мысль стать сельским священником нравилась мне. Я старательно прочитал поэтому… несколько… богословских книг, а так как у меня не было в то время ни малейшего сомнения в точной и буквальной истинности каждого слова Библии, то я скоро убедил себя в том, что наше вероучение необходимо считать полностью приемлемым». И Дарвин записался в Кембриджский университет. Там он прочел Пейли и был «очарован и убежден длинной цепью доказательств»[22 - Дарвин Ч. Автобиография. Ч. 2.].
Правда, ненадолго. Сразу после окончания Кембриджа Дарвину представилась возможность поступить натуралистом на корабль Ее Величества «Бигль». Остальное, конечно, уже история. Хотя на борту «Бигля» Дарвин не задумывался о естественном отборе, наблюдения за дикой природой в самых разных уголках земного шара не только убедили его, что эволюция действительно существует, но и подсказали некоторые из ее важнейших законов. Спустя два года после возвращения из пятилетнего плавания Дарвин наконец сообразил, как она действует. Планы принять духовный сан не выдержали этого озарения и навсегда остались в прошлом. Кстати, будущие биографы Дарвина найдут особый символизм в томике стихов, который он взял в путешествие. Это был «Потерянный рай» Джона Мильтона[23 - Дарвин Ч. Автобиография. Ч. 2. О приобщении Дарвина к эволюционизму и создании теории естественного отбора см.: Sulloway (1982) и Sulloway (1984).].
Когда Дарвин покидал Англию, никто и представить не мог, что спустя полтора века люди станут писать о нем книги. Его юность, как совершенно справедливо отметил один из биографов, «была лишена даже малейших признаков гения»[24 - Clark (1984). Ч. 6.]. Разумеется, к подобным заявлениям следует относиться критично (серая юность великих умов всегда вызывает у читателя особый интерес), а к этому заявлению – критично вдвойне: оно основано на личных суждениях Дарвина, а он был отнюдь не склонен к превознесению собственных талантов. «В течение всей своей жизни я был на редкость неспособен овладеть каким-либо [иностранным] языком… – пишет Дарвин. – He думаю, чтобы я когда-либо мог добиться успеха за пределами элементарной математики… Кажется, все мои учителя и отец считали меня весьма заурядным мальчиком, стоявшим в интеллектуальном отношении, пожалуй, даже ниже среднего уровня». Может, это в самом деле было так, а может, и нет. Вероятно, больший акцент следует сделать на другом его даре – умении заводить дружбу с людьми «намного старше и по возрасту, и по академическому положению»: «Должно быть, было во мне что-то несколько возвышавшее меня над общим уровнем молодежи»[25 - Дарвин Ч. Автобиография. Ч. 1, 2.].
В любом случае отсутствие ослепительного интеллекта далеко не единственное, что заставило некоторых биографов считать Чарлза «маловероятным кандидатом на бессмертие и неувядаемую славу»[26 - Clark (1984). С. 3.]. Не исключено, что Дарвин просто не был выдающимся человеком. Чересчур добропорядочный, приятный, лишенный безудержных амбиций. В нем было что-то от деревенского мальчика, замкнутого и простого. «Почему именно Дарвину, менее тщеславному, менее образованному, менее одаренному воображением, чем многие его коллеги, – вопрошал один автор, – было суждено сформулировать концепцию, которую так рьяно искали другие? Как так получилось, что некто, столь ограниченный интеллектуально и невосприимчивый культурно, сумел разработать теорию, столь грандиозную по структуре и значительности?»[27 - Himmelfarb (1959). С. 8.]
На этот вопрос есть два ответа: мы можем либо оспорить характеристику Дарвина (чем мы займемся чуть позже), либо, что гораздо легче, оспорить характеристику его теории. Идея естественного отбора грандиозна «по значительности», но далеко не «по структуре». Это маленькая и простая теория, которая вовсе не требует недюжинного интеллекта. Ознакомившись с ней, Томас Генри Гексли, хороший друг Дарвина, верный защитник и активный популяризатор его идей, воскликнул: «Как же глупо было не додуматься до этого самому!»[28 - Clark (1984). С. 137.]
Всю теорию естественного отбора можно кратко сформулировать так: если среди представителей некоего вида имеются индивидуальные вариации в наследственных признаках и если одни признаки больше содействуют выживанию и размножению, чем другие, то со временем первые окажутся более распространены в этой популяции, чем вторые. В результате совокупный набор наследуемых признаков вида изменится. Вот и все. Оба положения очевидны.
Конечно, в рамках любого заданного поколения такое изменение может выглядеть незначительным. Тем не менее если длинные шеи помогают животным доставать драгоценные листья, то особи с короткими шеями будут умирать до достижения половой зрелости, а значит, средний размер шеи у вида постепенно увеличится. Пока в новых поколениях возникают вариации в длине шеи (посредством половой рекомбинации или генетической мутации, как мы знаем сейчас) и естественному отбору есть из чего «выбирать», средняя длина шеи будет стремиться вверх. В итоге вид, который изначально имел шею, как у лошади, со временем разовьет шею, как у жирафа. Короче говоря, это будет уже совсем другой вид.
Сам Дарвин обобщил теорию естественного отбора в восьми словах: «размножение, варьирование, выживание наиболее сильных и гибель наиболее слабых»[29 - Дарвин Ч. Происхождение видов. Гл. VIII.]. Здесь под «наиболее сильным» подразумевается не самый мускулистый, а наилучшим образом приспособленный к имеющимся условиям, будь то за счет маскировки, сообразительности или любого другого свойства, которое содействует выживанию и размножению[30 - Дарвин разграничивал «выживание» и «размножение». Признаки, ведущие к успешному спариванию, он приписывал не естественному, а «половому» отбору. Современное определение «естественного отбора» охватывает оба вышеупомянутых аспекта: сохранение признаков, которые так или иначе способствуют передаче генов организма следующему поколению.]. Обычно вместо прилагательного «сильнейший» используется словосочетание «наиболее приспособленный» (неологизм, который придумал не Дарвин, но который он тем не менее охотно принял) – «пригодность» организма к передаче своих генов новому поколению в рамках окружающей его среды. «Приспособленность» – то самое свойство, которое естественный отбор, бесконечно переделывая и перекраивая виды, «стремится» максимизировать. Именно приспособленность сделала нас такими, какие мы есть сегодня.
Если вам кажется, что в этом нет ничего сверхъестественного, то вы, вероятно, не уловили суть. Все ваше тело – гораздо более сложное и гармоничное, чем любое творение рук человеческих, – сформировалось в результате сотен тысяч случайных модификаций; каждый крошечный шажок, который отделяет нас от прародительской бактерии, помогал некоему промежуточному предку передавать свои гены следующему поколению.
Как часто замечают креационисты, вероятность того, что человек мог возникнуть посредством случайных генетических изменений, и вероятность того, что обезьяна когда-нибудь напечатает пьесу Шекспира, примерно одинаковы (разумеется, речь идет не о целом произведении, а о некоторых длинных, узнаваемых отрывках). На самом деле, если следовать логике естественного отбора, такие вещи не так уж немыслимы.
Предположим, у одной обезьяны появилась некая удачная мутация – ген XL, который, скажем, наделяет родителей особой любовью к своему потомству, любовью, выражающейся в более усердном кормлении. В жизни каждой отдельно взятой обезьяны этот ген, скорее всего, не будет играть критически важной роли. Но допустим, вероятность дожить до зрелого возраста у детенышей с геном XL в среднем на один процент выше, чем у детенышей без него. Пока это крошечное преимущество сохраняется, доля обезьян с геном XL будет расти, а доля обезьян без него – уменьшаться, поколение за поколением. В итоге мы рано или поздно получим популяцию, в которой все особи будут иметь ген XL. В этот момент мы можем сказать, что ген XL достиг точки «фиксации». Это значит, что отныне виду присуща более высокая степень родительской любви, чем раньше.
Но насколько вероятно, что удача будет сопутствовать этим обезьянам и впредь, иными словами, каковы шансы, что следующее случайное генетическое изменение приведет к дальнейшему усилению родительской любви? Насколько вероятно, что за мутацией XL последует мутация XXL? В случае одной конкретной обезьяны – крайне маловероятно. Однако в популяции теперь целое множество обезьян с геном XL. Если любой из них или любому из ее потомков удастся заполучить ген XXL, то этот ген, скорее всего, распространится. Тем временем, разумеется, другие обезьяны получат менее благоприятные для выживания гены, причем некоторые из них могут привести к полному исчезновению линии, в которой они появились. Что ж, такова жизнь.
Выходит, естественный отбор делает невозможное? В действительности так только кажется. Зачарованные линии, населяющие мир сегодня, гораздо менее вероятны, чем тупиковые вариации. Во всяком случае, последние возникали куда чаще. Мусорная корзина генетической истории переполнена неудачными экспериментами – длинными цепочками кодов, которые жили и здравствовали вплоть до судьбоносного всплеска речи. Их ликвидация – плата за развитие путем проб и ошибок. Но пока эту цену можно заплатить – пока естественный отбор не испытывает недостатка в поколениях и позволяет себе выбраковывать неудачные линии оптом, – его творения будут воистину впечатляющими. Естественный отбор – неодушевленный процесс, лишенный сознания, и все же это неутомимый улучшатель, искусный мастер[31 - В этой книге я иногда буду говорить о том, что естественный отбор «хочет» или «намерен» сделать то-то или то-то, а также о том, какие «ценности» заложены в нем изначально. В таких случаях я всегда буду использовать кавычки, ибо это просто метафоры. Впрочем, к метафорам не стоит относиться свысока: они помогут нам морально свыкнуться с позициями дарвинизма.].
Каждый орган внутри вас – свидетельство его искусства: ваше сердце, ваши легкие, ваш желудок. Все эти «адаптации» – продукты непреднамеренного замысла, механизмы, которые сохранились до сегодняшнего дня только потому, что в прошлом внесли особый вклад в приспособленность ваших предков. И все они видотипичны. Хотя легкие одного человека могут отличаться от легких другого (в том числе по генетическим причинам), почти все гены, задействованные в их формировании, одинаковы у вас, у вашего соседа, у эскимоса и карлика. Как отмечают эволюционные психологи Джон Туби и Леда Космидес, любая страница «Анатомии» Грэя применима ко всем людям в мире. С какой стати, спрашивают они, анатомия психики должна быть другой? Рабочий тезис эволюционной психологии гласит: различные «ментальные органы», составляющие человеческую психику, – например, «орган», побуждающий родителей любить своих детей, – видотипичны[32 - Обсуждение концептуальных основ эволюционной психологии, см.: Cosmides & Tooby (1987), Tooby & Cosmides (1992), Symons (1989), Symons (1990).]. Иными словами, эволюционные психологи исповедуют так называемое «психическое единство человечества».
Климат-контроль
От австралопитека, который ходил прямо, но имел мозг размером с обезьяний, нас отделяют несколько миллионов лет – сто тысяч, может, двести тысяч поколений. На первый взгляд, не так уж и много, верно? С другой стороны, чтобы превратить волка в чихуахуа и сенбернара, понадобилось всего пять тысяч поколений. Конечно, собаки развивались путем искусственного, а не естественного отбора. Но, как подчеркивал Дарвин, в сущности, это одно и то же; в обоих случаях признаки выводятся из популяции на основании критериев, которые сохраняются в течение многих поколений. Если «давление отбора» велико – если гены выводятся достаточно быстро, – эволюция протекает весьма энергично.
«Но разве давление отбора могло быть так уж велико во время недавней эволюции человека?» – спросите вы. В конце концов, главный фактор, который обычно создает давление, – это враждебная среда: засухи, ледниковые периоды, сильные хищники, нехватка добычи, а в ходе эволюции человека значимость таких вещей постепенно уменьшалась. Изобретение орудий труда, огонь, развитие способности к планированию и стратегий совместной охоты – все это привело к растущему контролю над окружающей средой и относительной независимости от капризов природы. Как же тогда мозг обезьяны сумел превратиться в человеческий?
По всей вероятности, ответ заключается в том, что среду, в которой протекала эволюция человека, населяли люди (или пралюди)[33 - См.: Humphrey (1976), Alexander (1974). С. 335, Ridley (1994).]. В каменном веке все члены общества соперничали друг с другом за передачу своих генов следующему поколению. При этом успешное распространение генов в основном зависело от взаимодействия с соседями (одним помогали, других игнорировали, третьих эксплуатировали, четвертых любили, пятых ненавидели), а также от способности определить оптимальный стиль взаимодействия с тем или иным человеком в тот или иной момент. Таким образом, эволюция человеческих существ в основном сводилась к их адаптации друг к другу.
Поскольку каждая новая адаптация трансформирует социальное окружение, она неизбежно влечет за собой новый виток адаптации. Если ген XXL присутствует у всех родителей, ни один из них не получает дополнительных преимуществ в соперничестве за производство наиболее жизнеспособного и плодовитого потомства. Итог – гонка вооружений продолжается. В нашем примере «приз достается» самому любвеобильному. Но в жизни так происходит редко.
В определенных кругах нынче модно умалять значимость адаптации, упорядоченного эволюционного развития. Рассуждая об эволюции, популяризаторы биологического подхода чаще акцентируют не приспособленность, а случай, хаос. Безусловно, в результате изменения климата, которое произошло ни с того ни с сего, некоторые – не самые везучие – виды флоры и фауны действительно могли исчезнуть с лица Земли, трансформировав весь контекст эволюции видов, переживших бедствие. Космический крупье бросает кости, и все меняется. Конечно, такое бывает, и с этой стороны случайность в самом деле оказывает значимое влияние на эволюцию. Но есть и другие стороны. Так, генерация новых признаков, которые отбирает (или не отбирает) естественный отбор, судя по всему, носит случайный характер[34 - Некоторые дарвинисты убеждены, что в данном контексте термин «случайный» некорректен. По их мнению, процесс генерации порождает признаки, у которых вероятность оказаться полезными выше, чем у признаков, которые дал бы подлинно случайный процесс. Некоторые полагают, что процесс генерации признаков сам развился через естественный отбор – что гены, управляющие этим процессом, были специально отобраны для обеспечения генерации полезных генов. См., например: Wills (1989). Это важный вопрос, но он не имеет отношения к теме данной книги; хотя ответ на него может пролить свет на скорость, с которой протекает эволюция, он никак не повлияет на наши представления о том, каким типам признаков она благоволит.]. Впрочем, никакая «случайность» в естественном отборе не должна затмевать его главную особенность: ключевым критерием отбора выступает приспособленность. Да, кости бросают заново, и контекст эволюции опять меняется. Признак, который адаптивен сегодня, необязательно останется таковым завтра. Посему естественный отбор часто ограничивается тем, что просто-напросто подновляет устаревшие признаки. В результате такого непрерывного приспособления некоторые виды приобретают качества, весьма далекие от совершенных. (Именно по этой причине у людей часто бывают проблемы со спиной: если бы вы создавали ходячий организм с нуля, а не путем пошаговой адаптации бывших древесных обитателей, вы бы никогда не сотворили такие ужасные спины.) Правда, изменения в природных условиях обычно происходят относительно медленно, и эволюция вполне успевает за ними угнаться (пусть даже временами, когда давление отбора становится слишком велико и она вынуждена переходить на рысь).
Всю дорогу ее определение удачного строения остается неизменным. Тысячи и тысячи генов, влияющих на человеческое поведение – генов, которые строят мозг и управляют нейротрансмиттерами и другими гормонами, тем самым формируя наши «ментальные органы», – появились не случайно. Причина в том, что они помогали нашим предкам передавать свои гены следующему поколению. Если теория естественного отбора верна, то с его позиций можно описать почти всю человеческую психику. Все, что мы ощущаем, думаем и говорим друг другу, – все наши базовые чувства и мысли находятся при нас исключительно благодаря тому вкладу, который они однажды внесли в нашу генетическую приспособленность.
Сексуальная жизнь Дарвина
Ничто не влияет на передачу генов более явно, чем секс. Посему из всех проявлений человеческой психологии наиболее очевидные кандидаты на эволюционное объяснение – те состояния психики, которые ведут к сексу: грубая похоть, мечтательная влюбленность, сильная любовь и так далее – основополагающие силы, под влиянием которых люди взрослели и продолжают взрослеть во всем мире.
Когда Дарвин покидал Англию, ему было двадцать два года. По всей вероятности, его переполняли гормоны, коим по традиции и положено переполнять молодых людей. Он вздыхал по паре местных девушек, особенно по хорошенькой, популярной и очень кокетливой Фанни Оуэн. Однажды он дал ей выстрелить из охотничьего ружья; она так очаровательно притворялась, будто отдача не ударила ей в плечо, что даже спустя десятки лет Дарвин вспоминал об этом инциденте с явным трепетом и нежностью[35 - ED. Т. 1. С. 226–27.]. Из Кембриджа он вел с ней робкий флирт по почте, впрочем, неясно, осмелился ли он хоть раз ее поцеловать.
Актуальна ли эта связь между моралью и политикой в современном контексте? Новая эволюционная парадигма (в отличие от теории эволюции в целом) имеет обоснованный, умеренный политический подтекст, причем в равной степени как с левым, так и с правым уклоном. Хотя в отдельных случаях – с радикально левым (Карлу Марксу бы понравилось, но, увы, не все). Новая парадигма, с одной стороны, демонстрирует либералам идеологическую необходимость некоторых принципов нравственного консерватизма, а с другой стороны, показывает, что консерватизм только выиграет от либеральной социальной политики.
Анализируя Дарвина
Доказать состоятельность дарвинистского подхода я решил на примере самого Чарлза Дарвина. Его мысли, эмоции и поведение отлично иллюстрируют принципы эволюционной психологии.
В 1876 году в первом абзаце своей автобиографии он признался: «Нижеследующий рассказ о самом себе я старался написать так, словно бы меня уже не было в живых и я оглядывался бы на свою жизнь из другого мира», а затем с характерной мрачной отрешенностью добавил: «И не скажу, чтобы это было для меня трудно, ибо жизнь моя почти закончена»[9 - Дарвин Ч. Автобиография. Ч. 1.]. Я тешу себя дерзкой надеждой, что, пиши Дарвин свои воспоминания сейчас, вооруженный открытиями нового эволюционизма, у него получилось бы что-то похожее на эту книгу.
Биография Дарвина послужит нам даже не столько иллюстрацией, сколько пробным камнем для современной, улучшенной версии его теории естественного отбора. Дарвин и его последователи (не исключая меня) считали и считают, что с помощью теории эволюции можно объяснить природу всего живого. Если это так, то в качестве подопытного кролика подойдет любой человек, и почему бы в таком случае нам не взять того, кто и заварил всю эту кашу. Я считаю, что эволюционный подход лучше всего годится для анализа биографии Дарвина и его социального окружения – викторианской Англии. В этом отношении он и его современники подобны всем прочим объектам органической природы (простите мне такую дерзость).
Я признаю, что в контексте естественного отбора мы прежде всего думаем о беспощадной борьбе за существование и выживании сильнейших, а никак не о Дарвине, который, по воспоминаниям современников, всегда был вежливым и мягкосердечным (за исключением случаев, когда задевались его нравственные принципы, например, если он слышал, как оправдывают рабство, или видел извозчика, бьющего лошадь)[10 - LLCD. Т. 3. С. 20. Автобиография.]. Даже слава ничуть его не изменила. Английский литературный критик Лесли Стивен так отзывался о Дарвине: «Из всех выдающихся людей, с которыми мне довелось встретиться, он без сомнения вызывает у меня наибольшую симпатию. Есть что-то трогательное в его простоте и приветливости»[11 - Clark (1984). С. 168.]. Именно таких людей Смайлс называл «истинными джентльменами».
Дарвин прочитал «Саморазвитие» в пятьдесят один год, хотя ему уже нечему было учиться у Смайлса: он и так жил под девизом постоянной борьбы с «нравственным невежеством, себялюбием и пороками». По общему мнению, Дарвин был скромен до чрезмерности, и если ему и требовалось психологическое руководство, то скорее одно из тех, что издаются сейчас, – о том, как поверить в себя и полюбить себя.
Джон Боулби (1907–1990), английский психиатр и проницательный биограф, полагал, что Дарвин страдал от «мучительного презрения к самому себе» и «сверхактивной совести»: «Его простота и строжайшие моральные принципы привлекали к нему людей: родственников, друзей, коллег – и до сих пор вызывают искреннее восхищение, однако они развились так рано и с такой силой, что доставляли ему немало мук»[12 - Bowlby (1991). С. 74–75; Смайлс (1859).].
Это, по-моему, делает Дарвина идеальным объектом для изучения. Я попробую доказать, что его характерные качества: скромность, совестливость, неприятие грубости – для естественного отбора, казалось бы, бесполезные, все же естественным отбором и обусловлены. Именно таких людей, как Дарвин – благородных, добрых, честных, – мы мечтали бы видеть вокруг себя. Однако, по сути, он ничем от нас не отличался. Даже Чарлз Дарвин был животным.
Часть первая
Секс, романтические отношения и любовь
Глава 1
Юный Дарвин и старая Англия
Что касается английских леди, я почти забыл, что это такое…
Нечто ангельское и прекрасное, я полагаю.
Письмо с корабля Ее Величества «Бигль» (1835)[13 - CCD. Т. 1. С. 460.]
Юношам, родившимся в Англии XIX века, обычно рекомендовали не искать сексуальных наслаждений и не делать вещи, которые могут навести на мысли о таких наслаждениях. В своей книге «Функции и расстройства репродуктивных органов» викторианский врач Уильям Эктон предостерегает от опасностей, которые таят в себе «классические» произведения литературы: «В них много написано об удовольствиях, но ничего – о расплате за половые излишества. Мальчик и не подозревает, что, если сексуальные желания возникнут, для их обуздания потребуется сила воли, коей большинство юношей не обладают. Он не знает, что взрослый мужчина вынужден платить высокую цену за ошибки юности; что на одного спасшегося приходится десять, чью жизнь отравляют страдания; что ужасный риск сопутствует ненормальным заменителям половых отношений и что длительное потворство собственным слабостям в конечном итоге может привести к ранней смерти или самоубийству»[14 - Marcus (1974). С. 16–17.].
Книга Эктона была издана в 1857 году и отражала нравственные нормы так называемого средневикторианского периода. Впрочем, сексуальный аскетизм давно витал в воздухе – еще до восхождения на трон королевы Виктории в 1837 году. Фактически к нему призывали и до 1830 года – начала Викторианской эры в ее наиболее широкой трактовке. На рубеже веков жесткий моральный кодекс активно подпитывало евангелическое движение[15 - См.: Stone (1977). С. 422; Himmelfarb (1968). С. 278; Young (1936). С. 1–5; Houghton (1957).]. Как отмечает Дж. М. Янг в своем труде «Портрет эпохи», все мысли и поступки юноши, рожденного в Англии в 1810 году (на год позже Дарвина), «направляло и вдохновляло немыслимое давление евангелистской дисциплины». Это касалось не только сексуальной сдержанности, но и сдержанности вообще – закономерное следствие масштабной войны с распущенностью. Всякому юноше надлежало усвоить, как выразился Янг, что «мир в высшей степени порочен. Неосторожный взгляд, слово, жест, картина или роман могли посеять семя разврата в самом невинном сердце»[16 - Young (1936). С. 1–2.]. Другой исследователь викторианства охарактеризовал жизнь в те времена как «постоянную борьбу – не только с соблазнами и искушениями, но и с желаниями эго»; путем «строжайшей самодисциплины человек должен был заложить фундамент хороших привычек и тем самым обрести самоконтроль»[17 - Houghton (1957). С. 233–34.].
Именно эту идеологию Сэмюэль Смайлс, появившийся на свет через три года после Дарвина, отстаивал в своем «Саморазвитии». Как показывает популярность этой книги, евангелическое мировоззрение распространилось далеко за пределы методистских церквей, которые некогда послужили его источником: оно проникло в дома англиканцев, унитариев и даже агностиков[18 - Houghton (1957). С. 62, 238; Young (1936). С. 1–4.]. Хороший тому пример – семья Дарвина. Хотя родители Чарлза придерживались унитарианских взглядов (отец Дарвина был вольнодумцем, правда тихим и безобидным), сам он впитал пуританский дух того времени. Об этом наглядно свидетельствует его обостренное чувство совести и строгие нормы поведения, которых он придерживался всю жизнь. Спустя много лет после отказа от своей веры Дарвин писал: «Высшая степень нравственного развития, которой мы можем достигнуть, есть та, когда мы сознаем, что мы должны контролировать свои мысли и [как сказал Теннисон] «даже в самых затаенных мыслях не вспоминать грехов, делавших прошедшее столь приятным для нас». Все, что позволяет нашему уму освоиться с каким-нибудь дурным делом, облегчает совершение последнего. Марк Аврелий давно сказал: «Каковы твои постоянные мысли, таков будет и склад твоего ума, потому что душа окрашивается мыслями»[19 - Дарвин Ч. Происхождение человека. Гл. IV. С. 236.].
Хотя юность и зрелость Дарвина в некотором роде весьма необычны, в данном отношении они типичны для того времени: он жил под сильнейшим моральным давлением. В его мире вопросы о том, что хорошо, а что плохо, задавали на каждом шагу. Более того, на эти вопросы можно было дать ответ – четкий и ясный, хотя подчас и не самый приятный. Одним словом, наш мир очень отличается от мира королевы Виктории, причем во многом благодаря самому Дарвину.
Неожиданный герой
Первоначально Чарлз Дарвин намеревался стать врачом: «Мой отец… говорил, что из меня получился бы весьма удачливый врач, разумея под этим такого врача, у которого будет много пациентов. Он утверждал, что главный залог успеха заключается в умении внушать доверие к себе; я не знаю, однако, какие качества он мог усмотреть во мне, которые привели его к убеждению, что я мог бы возбуждать доверие к себе». Тем не менее в шестнадцать лет Чарлз послушно покинул уютное семейное поместье в Шрусбери и в сопровождении старшего брата Эразма отправился в Эдинбургский университет изучать медицину.
Особого энтузиазма профессия эскулапа у Дарвина не вызывала. В Эдинбурге Чарлз учился неохотно и старательно избегал анатомического театра (наблюдения за хирургическими операциями до изобретения хлороформа явно пришлись ему не по вкусу), зато посвящал много времени разного рода факультативным занятиям. Вместе с рыбаками он ловил устриц, увлекался охотой, брал уроки таксидермии, гулял и беседовал с Робертом Грантом – большим знатоком губок, который горячо верил в эволюцию, но, разумеется, понятия не имел, как она работает.
Через два года отец заподозрил, что хорошего врача из сына все-таки не получится; как позже вспоминал Дарвин-младший, «возможность моего превращения в праздного любителя cпорта – а такая моя будущность казалась тогда вероятной – совершенно справедливо приводила его в страшное негодование»[20 - Дарвин Ч. Автобиография. Ч. 1.]. В конце концов доктор Роберт счел нужным прибегнуть к плану Б и предложил «непутевому» отпрыску сделаться священником.
Такое предложение может показаться странным, особенно если учесть, что исходило оно, во-первых, от человека, который сам не верил в Бога, а во-вторых, предназначалось юноше, который не только не был вопиюще набожным, но и питал выраженный интерес к зоологии. Но отец Дарвина был человеком практичным. В то время зоология и теология считались двумя сторонами одной монеты. Если все живые существа суть творения Господни, то изучение их искусного строения равноценно постижению духа Божьего. Самым известным сторонником подобных взглядов был Уильям Пейли, автор книги «Естественная теология» (1802), в которой различные природные явления рассматривались как доказательства существования Бога. Подобно тому как часы подразумевают часовщика, утверждал Пейли, так и мир, полный замысловато устроенных организмов, идеально приспособленных для выполнения определенных задач, подразумевает творца[21 - См.: Gruber (1981). С. 52–59; современный ответ Пейли см.: Докинз Р. Слепой часовщик.]. (Пейли, безусловно, прав. Вопрос в том, кто этот творец – всевидящий Бог или бессознательный процесс.)
Поскольку естественная теология быстро снискала популярность, любой сельский священник отныне мог без зазрения совести тратить уйму времени на изучение и описание природы. Возможно, именно поэтому молодой Дарвин весьма благосклонно отреагировал на идею облачиться в рясу: «Я попросил дать мне некоторое время на размышление, потому что на основании тех немногих сведений и мыслей, которые были у меня на этот счет, я не мог без колебаний заявить, что верю во все догматы англиканской церкви; впрочем, в других отношениях мысль стать сельским священником нравилась мне. Я старательно прочитал поэтому… несколько… богословских книг, а так как у меня не было в то время ни малейшего сомнения в точной и буквальной истинности каждого слова Библии, то я скоро убедил себя в том, что наше вероучение необходимо считать полностью приемлемым». И Дарвин записался в Кембриджский университет. Там он прочел Пейли и был «очарован и убежден длинной цепью доказательств»[22 - Дарвин Ч. Автобиография. Ч. 2.].
Правда, ненадолго. Сразу после окончания Кембриджа Дарвину представилась возможность поступить натуралистом на корабль Ее Величества «Бигль». Остальное, конечно, уже история. Хотя на борту «Бигля» Дарвин не задумывался о естественном отборе, наблюдения за дикой природой в самых разных уголках земного шара не только убедили его, что эволюция действительно существует, но и подсказали некоторые из ее важнейших законов. Спустя два года после возвращения из пятилетнего плавания Дарвин наконец сообразил, как она действует. Планы принять духовный сан не выдержали этого озарения и навсегда остались в прошлом. Кстати, будущие биографы Дарвина найдут особый символизм в томике стихов, который он взял в путешествие. Это был «Потерянный рай» Джона Мильтона[23 - Дарвин Ч. Автобиография. Ч. 2. О приобщении Дарвина к эволюционизму и создании теории естественного отбора см.: Sulloway (1982) и Sulloway (1984).].
Когда Дарвин покидал Англию, никто и представить не мог, что спустя полтора века люди станут писать о нем книги. Его юность, как совершенно справедливо отметил один из биографов, «была лишена даже малейших признаков гения»[24 - Clark (1984). Ч. 6.]. Разумеется, к подобным заявлениям следует относиться критично (серая юность великих умов всегда вызывает у читателя особый интерес), а к этому заявлению – критично вдвойне: оно основано на личных суждениях Дарвина, а он был отнюдь не склонен к превознесению собственных талантов. «В течение всей своей жизни я был на редкость неспособен овладеть каким-либо [иностранным] языком… – пишет Дарвин. – He думаю, чтобы я когда-либо мог добиться успеха за пределами элементарной математики… Кажется, все мои учителя и отец считали меня весьма заурядным мальчиком, стоявшим в интеллектуальном отношении, пожалуй, даже ниже среднего уровня». Может, это в самом деле было так, а может, и нет. Вероятно, больший акцент следует сделать на другом его даре – умении заводить дружбу с людьми «намного старше и по возрасту, и по академическому положению»: «Должно быть, было во мне что-то несколько возвышавшее меня над общим уровнем молодежи»[25 - Дарвин Ч. Автобиография. Ч. 1, 2.].
В любом случае отсутствие ослепительного интеллекта далеко не единственное, что заставило некоторых биографов считать Чарлза «маловероятным кандидатом на бессмертие и неувядаемую славу»[26 - Clark (1984). С. 3.]. Не исключено, что Дарвин просто не был выдающимся человеком. Чересчур добропорядочный, приятный, лишенный безудержных амбиций. В нем было что-то от деревенского мальчика, замкнутого и простого. «Почему именно Дарвину, менее тщеславному, менее образованному, менее одаренному воображением, чем многие его коллеги, – вопрошал один автор, – было суждено сформулировать концепцию, которую так рьяно искали другие? Как так получилось, что некто, столь ограниченный интеллектуально и невосприимчивый культурно, сумел разработать теорию, столь грандиозную по структуре и значительности?»[27 - Himmelfarb (1959). С. 8.]
На этот вопрос есть два ответа: мы можем либо оспорить характеристику Дарвина (чем мы займемся чуть позже), либо, что гораздо легче, оспорить характеристику его теории. Идея естественного отбора грандиозна «по значительности», но далеко не «по структуре». Это маленькая и простая теория, которая вовсе не требует недюжинного интеллекта. Ознакомившись с ней, Томас Генри Гексли, хороший друг Дарвина, верный защитник и активный популяризатор его идей, воскликнул: «Как же глупо было не додуматься до этого самому!»[28 - Clark (1984). С. 137.]
Всю теорию естественного отбора можно кратко сформулировать так: если среди представителей некоего вида имеются индивидуальные вариации в наследственных признаках и если одни признаки больше содействуют выживанию и размножению, чем другие, то со временем первые окажутся более распространены в этой популяции, чем вторые. В результате совокупный набор наследуемых признаков вида изменится. Вот и все. Оба положения очевидны.
Конечно, в рамках любого заданного поколения такое изменение может выглядеть незначительным. Тем не менее если длинные шеи помогают животным доставать драгоценные листья, то особи с короткими шеями будут умирать до достижения половой зрелости, а значит, средний размер шеи у вида постепенно увеличится. Пока в новых поколениях возникают вариации в длине шеи (посредством половой рекомбинации или генетической мутации, как мы знаем сейчас) и естественному отбору есть из чего «выбирать», средняя длина шеи будет стремиться вверх. В итоге вид, который изначально имел шею, как у лошади, со временем разовьет шею, как у жирафа. Короче говоря, это будет уже совсем другой вид.
Сам Дарвин обобщил теорию естественного отбора в восьми словах: «размножение, варьирование, выживание наиболее сильных и гибель наиболее слабых»[29 - Дарвин Ч. Происхождение видов. Гл. VIII.]. Здесь под «наиболее сильным» подразумевается не самый мускулистый, а наилучшим образом приспособленный к имеющимся условиям, будь то за счет маскировки, сообразительности или любого другого свойства, которое содействует выживанию и размножению[30 - Дарвин разграничивал «выживание» и «размножение». Признаки, ведущие к успешному спариванию, он приписывал не естественному, а «половому» отбору. Современное определение «естественного отбора» охватывает оба вышеупомянутых аспекта: сохранение признаков, которые так или иначе способствуют передаче генов организма следующему поколению.]. Обычно вместо прилагательного «сильнейший» используется словосочетание «наиболее приспособленный» (неологизм, который придумал не Дарвин, но который он тем не менее охотно принял) – «пригодность» организма к передаче своих генов новому поколению в рамках окружающей его среды. «Приспособленность» – то самое свойство, которое естественный отбор, бесконечно переделывая и перекраивая виды, «стремится» максимизировать. Именно приспособленность сделала нас такими, какие мы есть сегодня.
Если вам кажется, что в этом нет ничего сверхъестественного, то вы, вероятно, не уловили суть. Все ваше тело – гораздо более сложное и гармоничное, чем любое творение рук человеческих, – сформировалось в результате сотен тысяч случайных модификаций; каждый крошечный шажок, который отделяет нас от прародительской бактерии, помогал некоему промежуточному предку передавать свои гены следующему поколению.
Как часто замечают креационисты, вероятность того, что человек мог возникнуть посредством случайных генетических изменений, и вероятность того, что обезьяна когда-нибудь напечатает пьесу Шекспира, примерно одинаковы (разумеется, речь идет не о целом произведении, а о некоторых длинных, узнаваемых отрывках). На самом деле, если следовать логике естественного отбора, такие вещи не так уж немыслимы.
Предположим, у одной обезьяны появилась некая удачная мутация – ген XL, который, скажем, наделяет родителей особой любовью к своему потомству, любовью, выражающейся в более усердном кормлении. В жизни каждой отдельно взятой обезьяны этот ген, скорее всего, не будет играть критически важной роли. Но допустим, вероятность дожить до зрелого возраста у детенышей с геном XL в среднем на один процент выше, чем у детенышей без него. Пока это крошечное преимущество сохраняется, доля обезьян с геном XL будет расти, а доля обезьян без него – уменьшаться, поколение за поколением. В итоге мы рано или поздно получим популяцию, в которой все особи будут иметь ген XL. В этот момент мы можем сказать, что ген XL достиг точки «фиксации». Это значит, что отныне виду присуща более высокая степень родительской любви, чем раньше.
Но насколько вероятно, что удача будет сопутствовать этим обезьянам и впредь, иными словами, каковы шансы, что следующее случайное генетическое изменение приведет к дальнейшему усилению родительской любви? Насколько вероятно, что за мутацией XL последует мутация XXL? В случае одной конкретной обезьяны – крайне маловероятно. Однако в популяции теперь целое множество обезьян с геном XL. Если любой из них или любому из ее потомков удастся заполучить ген XXL, то этот ген, скорее всего, распространится. Тем временем, разумеется, другие обезьяны получат менее благоприятные для выживания гены, причем некоторые из них могут привести к полному исчезновению линии, в которой они появились. Что ж, такова жизнь.
Выходит, естественный отбор делает невозможное? В действительности так только кажется. Зачарованные линии, населяющие мир сегодня, гораздо менее вероятны, чем тупиковые вариации. Во всяком случае, последние возникали куда чаще. Мусорная корзина генетической истории переполнена неудачными экспериментами – длинными цепочками кодов, которые жили и здравствовали вплоть до судьбоносного всплеска речи. Их ликвидация – плата за развитие путем проб и ошибок. Но пока эту цену можно заплатить – пока естественный отбор не испытывает недостатка в поколениях и позволяет себе выбраковывать неудачные линии оптом, – его творения будут воистину впечатляющими. Естественный отбор – неодушевленный процесс, лишенный сознания, и все же это неутомимый улучшатель, искусный мастер[31 - В этой книге я иногда буду говорить о том, что естественный отбор «хочет» или «намерен» сделать то-то или то-то, а также о том, какие «ценности» заложены в нем изначально. В таких случаях я всегда буду использовать кавычки, ибо это просто метафоры. Впрочем, к метафорам не стоит относиться свысока: они помогут нам морально свыкнуться с позициями дарвинизма.].
Каждый орган внутри вас – свидетельство его искусства: ваше сердце, ваши легкие, ваш желудок. Все эти «адаптации» – продукты непреднамеренного замысла, механизмы, которые сохранились до сегодняшнего дня только потому, что в прошлом внесли особый вклад в приспособленность ваших предков. И все они видотипичны. Хотя легкие одного человека могут отличаться от легких другого (в том числе по генетическим причинам), почти все гены, задействованные в их формировании, одинаковы у вас, у вашего соседа, у эскимоса и карлика. Как отмечают эволюционные психологи Джон Туби и Леда Космидес, любая страница «Анатомии» Грэя применима ко всем людям в мире. С какой стати, спрашивают они, анатомия психики должна быть другой? Рабочий тезис эволюционной психологии гласит: различные «ментальные органы», составляющие человеческую психику, – например, «орган», побуждающий родителей любить своих детей, – видотипичны[32 - Обсуждение концептуальных основ эволюционной психологии, см.: Cosmides & Tooby (1987), Tooby & Cosmides (1992), Symons (1989), Symons (1990).]. Иными словами, эволюционные психологи исповедуют так называемое «психическое единство человечества».
Климат-контроль
От австралопитека, который ходил прямо, но имел мозг размером с обезьяний, нас отделяют несколько миллионов лет – сто тысяч, может, двести тысяч поколений. На первый взгляд, не так уж и много, верно? С другой стороны, чтобы превратить волка в чихуахуа и сенбернара, понадобилось всего пять тысяч поколений. Конечно, собаки развивались путем искусственного, а не естественного отбора. Но, как подчеркивал Дарвин, в сущности, это одно и то же; в обоих случаях признаки выводятся из популяции на основании критериев, которые сохраняются в течение многих поколений. Если «давление отбора» велико – если гены выводятся достаточно быстро, – эволюция протекает весьма энергично.
«Но разве давление отбора могло быть так уж велико во время недавней эволюции человека?» – спросите вы. В конце концов, главный фактор, который обычно создает давление, – это враждебная среда: засухи, ледниковые периоды, сильные хищники, нехватка добычи, а в ходе эволюции человека значимость таких вещей постепенно уменьшалась. Изобретение орудий труда, огонь, развитие способности к планированию и стратегий совместной охоты – все это привело к растущему контролю над окружающей средой и относительной независимости от капризов природы. Как же тогда мозг обезьяны сумел превратиться в человеческий?
По всей вероятности, ответ заключается в том, что среду, в которой протекала эволюция человека, населяли люди (или пралюди)[33 - См.: Humphrey (1976), Alexander (1974). С. 335, Ridley (1994).]. В каменном веке все члены общества соперничали друг с другом за передачу своих генов следующему поколению. При этом успешное распространение генов в основном зависело от взаимодействия с соседями (одним помогали, других игнорировали, третьих эксплуатировали, четвертых любили, пятых ненавидели), а также от способности определить оптимальный стиль взаимодействия с тем или иным человеком в тот или иной момент. Таким образом, эволюция человеческих существ в основном сводилась к их адаптации друг к другу.
Поскольку каждая новая адаптация трансформирует социальное окружение, она неизбежно влечет за собой новый виток адаптации. Если ген XXL присутствует у всех родителей, ни один из них не получает дополнительных преимуществ в соперничестве за производство наиболее жизнеспособного и плодовитого потомства. Итог – гонка вооружений продолжается. В нашем примере «приз достается» самому любвеобильному. Но в жизни так происходит редко.
В определенных кругах нынче модно умалять значимость адаптации, упорядоченного эволюционного развития. Рассуждая об эволюции, популяризаторы биологического подхода чаще акцентируют не приспособленность, а случай, хаос. Безусловно, в результате изменения климата, которое произошло ни с того ни с сего, некоторые – не самые везучие – виды флоры и фауны действительно могли исчезнуть с лица Земли, трансформировав весь контекст эволюции видов, переживших бедствие. Космический крупье бросает кости, и все меняется. Конечно, такое бывает, и с этой стороны случайность в самом деле оказывает значимое влияние на эволюцию. Но есть и другие стороны. Так, генерация новых признаков, которые отбирает (или не отбирает) естественный отбор, судя по всему, носит случайный характер[34 - Некоторые дарвинисты убеждены, что в данном контексте термин «случайный» некорректен. По их мнению, процесс генерации порождает признаки, у которых вероятность оказаться полезными выше, чем у признаков, которые дал бы подлинно случайный процесс. Некоторые полагают, что процесс генерации признаков сам развился через естественный отбор – что гены, управляющие этим процессом, были специально отобраны для обеспечения генерации полезных генов. См., например: Wills (1989). Это важный вопрос, но он не имеет отношения к теме данной книги; хотя ответ на него может пролить свет на скорость, с которой протекает эволюция, он никак не повлияет на наши представления о том, каким типам признаков она благоволит.]. Впрочем, никакая «случайность» в естественном отборе не должна затмевать его главную особенность: ключевым критерием отбора выступает приспособленность. Да, кости бросают заново, и контекст эволюции опять меняется. Признак, который адаптивен сегодня, необязательно останется таковым завтра. Посему естественный отбор часто ограничивается тем, что просто-напросто подновляет устаревшие признаки. В результате такого непрерывного приспособления некоторые виды приобретают качества, весьма далекие от совершенных. (Именно по этой причине у людей часто бывают проблемы со спиной: если бы вы создавали ходячий организм с нуля, а не путем пошаговой адаптации бывших древесных обитателей, вы бы никогда не сотворили такие ужасные спины.) Правда, изменения в природных условиях обычно происходят относительно медленно, и эволюция вполне успевает за ними угнаться (пусть даже временами, когда давление отбора становится слишком велико и она вынуждена переходить на рысь).
Всю дорогу ее определение удачного строения остается неизменным. Тысячи и тысячи генов, влияющих на человеческое поведение – генов, которые строят мозг и управляют нейротрансмиттерами и другими гормонами, тем самым формируя наши «ментальные органы», – появились не случайно. Причина в том, что они помогали нашим предкам передавать свои гены следующему поколению. Если теория естественного отбора верна, то с его позиций можно описать почти всю человеческую психику. Все, что мы ощущаем, думаем и говорим друг другу, – все наши базовые чувства и мысли находятся при нас исключительно благодаря тому вкладу, который они однажды внесли в нашу генетическую приспособленность.
Сексуальная жизнь Дарвина
Ничто не влияет на передачу генов более явно, чем секс. Посему из всех проявлений человеческой психологии наиболее очевидные кандидаты на эволюционное объяснение – те состояния психики, которые ведут к сексу: грубая похоть, мечтательная влюбленность, сильная любовь и так далее – основополагающие силы, под влиянием которых люди взрослели и продолжают взрослеть во всем мире.
Когда Дарвин покидал Англию, ему было двадцать два года. По всей вероятности, его переполняли гормоны, коим по традиции и положено переполнять молодых людей. Он вздыхал по паре местных девушек, особенно по хорошенькой, популярной и очень кокетливой Фанни Оуэн. Однажды он дал ей выстрелить из охотничьего ружья; она так очаровательно притворялась, будто отдача не ударила ей в плечо, что даже спустя десятки лет Дарвин вспоминал об этом инциденте с явным трепетом и нежностью[35 - ED. Т. 1. С. 226–27.]. Из Кембриджа он вел с ней робкий флирт по почте, впрочем, неясно, осмелился ли он хоть раз ее поцеловать.