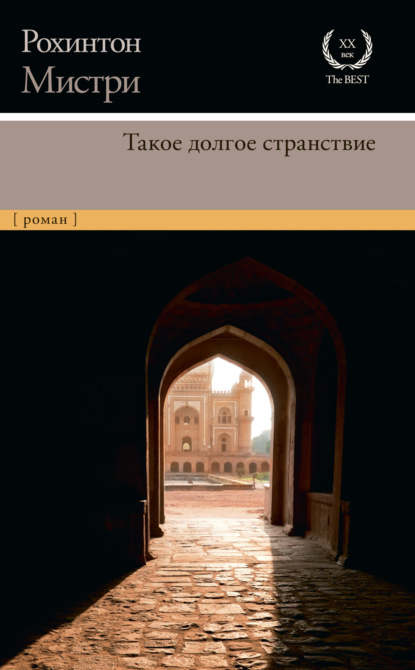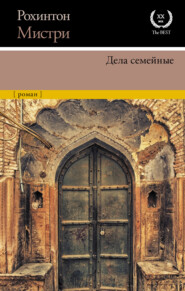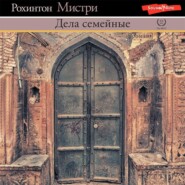По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Такое долгое странствие
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Для Дильнаваз это привычное шипящее и плюющееся бурление было сигналом к подъему. Ощупав кровать рядом с собой и убедившись, что место Густада пусто, она улыбнулась, так как ожидала, что сегодня он встанет первым, сонно взглянула на часы, перевернулась на живот и закрыла глаза.
II
Тем утром, задолго до рассвета и времени молитвы, Густад с нетерпением ждал, когда принесут «Таймс оф Индия». Еще стояла кромешная тьма, но он не включал свет, потому что в темноте все казалось ясным и упорядоченным. Он поглаживал подлокотники кресла, в котором сидел, размышляя о десятилетиях, прошедших с тех пор, как его дед с любовью сделал это кресло в своей мебельной мастерской. Как и этот черный письменный стол. Густад хорошо помнил вывеску над входом в дедовскую мастерскую, даже сейчас он словно бы видел ее воочию, как фотографию, поднесенную к глазам: «Нобл и сыновья. Красивая мебель на заказ», помнил он и первый раз, когда увидел эту вывеску, он был тогда еще слишком мал, чтобы читать, но картинки вокруг слов узнал сразу: застекленный шкаф из блестящего дерева вишневого цвета, огромная кровать с балдахином на четырех столбцах, великолепных пропорций стулья с резными спинками и гнутыми ножками, величественный черный письменный стол – все это была мебель из дома его детства.
Несколько ее предметов и теперь стояло у него в квартире, спасенные из когтей банкротства, – слово казалось холодным и острым, как резец, и звучало жестоко и безжалостно, как лязг железных подковок на ботинках судебного пристава. Подковки зловеще цокали по каменным плиткам пола. Ублюдок-пристав хватал все, что попадало под его грязные руки. «Бедный мой отец. Он потерял все. За исключением нескольких вещей, которые мне удалось спасти с помощью Малколма в его стареньком фургоне. Их пристав так и не нашел. Каким же хорошим другом был Малколм Салданья! Жаль, что мы с ним потеряли связь. Настоящий друг. Такой же, каким был когда-то майор Билимория».
При воспоминании о последнем Густад покачал головой. Проклятый Билимория. После того как он повел себя настолько бесстыдно, у него теперь хватило духу написать и попросить о помощи, словно ничего не случилось. Что ж, он может ждать ответа до самой своей смерти. Густад выкинул из головы его беспардонное письмо, которое грозило нарушить мирную степенность царившей вокруг темноты. Мебель из детства снова уютно обступила его, как будто заключила в безопасные скобки всю его жизнь, оберегая здравость рассудка.
Густад услышал, как снаружи поднялся металлический козырек почтовой щели, и почти сразу различил белый контур газеты, проскользнувшей в комнату, тем не менее остался неподвижен: «Пусть почтальон уйдет, незачем ему знать, что я жду». Почему он так решил, он и сам не мог объяснить.
Когда велосипед почтальона отъехал, снова настала тишина. Густад зажег свет и надел очки. Мрачные заголовки, касающиеся Пакистана, он проигнорировал, едва взглянув на фотографию полуобнаженной матери, рыдающей над мертвым ребенком, которого она держала на руках. Подпись под фотографией он читать не стал, потому что снимок был похож на все те, что регулярно печатались несколько последних недель и рассказывали о солдатах, использующих бенгальских младенцев в качестве мишеней для штыковой практики. Он развернул газету на той внутренней полосе, где публиковались результаты вступительных экзаменов в Индийский технологический институт, разложил ее на обеденном столе, взял с буфета бумажку, на которой был записан реестровый номер, присвоенный Сохрабу при поступлении, сверил его со списком и пошел будить Дильнаваз.
– Вставай, вставай! Его приняли! – Он погладил ее по плечу нетерпеливо, но нежно. Густад чувствовал себя немного виноватым. Из-за этого чертова письма, которое он от нее утаил.
Дильнаваз перевернулась на спину и улыбнулась.
– Я же говорила, что его примут, что ты зря волнуешься.
Она прошла в ванную и первым делом подсоединила прозрачный пластмассовый шланг для наполнения цилиндрического водяного бака, хотя сегодня у нее было время сначала почистить зубы и заварить чай. Пробило пять утра – до подачи воды оставалось целых два часа. Она открутила медный вентиль, и вчерашние остатки воды под напором хлынули в шланг, сопровождаемые длинным шлейфом воздушных пузырей – было похоже на пузырьки кислорода, когда-то бурлившие в аквариуме ее младшего сына. Как же Дариушу нравились те цветастые крохотные существа с забавными названиями, которые он с гордостью оглашал, когда показывал кому-нибудь своих рыбок: гуппи, черная моллинезия, морской ангел, неоновая тетра, целующийся гурами – в течение недолгого времени они были центром его вселенной.
Но теперь аквариум опустел. Как и птичьи клетки. Все это вместе с коллекцией бабочек Сохраба и дурацкой книгой, которую он давным-давно получил в школе на день вручения наград, валялось, покрытое пылью и оплетенное паутиной, на темной полке в чауле[9 - Чауле – тип жилого дома, какие владельцы предприятий начали строить в Бомбее в начале 1900-х годов как экономное жилье для своих рабочих, своего рода «коммуналки» с общими туалетами на каждом этаже, рассчитанными на определенное количество квартир, и открытыми общими коридорами-террасами.] рядом с общим туалетом. «Узнай больше об энтомо…» чем-то-там. Какой скандал поднялся тогда только из-за того, что она сказала, мол, убивать этих маленьких красочных существ жестоко. Густад считал, что Сохраба надо поощрять: если он проявит упорство в своем увлечении и изберет его своей специальностью в колледже, займется исследовательской работой и все такое прочее, он может стать всемирно известным ученым.
Теперь от коллекции осталось лишь несколько телец, пришпиленных ржавыми булавками, да кучка разрозненных крылышек, похожих на опавшие лепестки экзотических цветов, вперемешку с отломившимися усиками и крохотными головками, которые, отделившись от телец, совсем не походили на головки. Однажды Дильнаваз даже удивилась – как крупинки черного перца попали в застекленные коробочки? – пока с содроганием не поняла, что представляют собой эти малюсенькие шарики на самом деле.
Каждый раз, когда, вытесняя воздух, первая вода с шипением и клокотанием вырывалась из трубы, заставляя шланг трепетать, у Дильнаваз захватывало дух. Потом поток становился размеренным, и рука, придерживавшая кончик шланга, чтобы он не соскочил с носика бака, ощущала лишь легкую пульсацию.
Густад хотел разбудить Сохраба, но Дильнаваз остановила его:
– Пусть поспит. Результат его вступительных экзаменов не изменится, если он узнает его на час позже.
Он с готовностью согласился, однако все равно пошел в дальнюю комнату. В темноте виднелась реечная дверная панель, которую он пятнадцать лет назад прикрепил петлями к кровати Сохраба, поскольку в детстве тот спал беспокойно, словно и во сне продолжал играть в свои озорные дневные игры. Стулья, которыми они сначала загораживали край кровати на ночь, не помогали, он их сдвигал. И тогда пришлось приделать эту панель. Сохраб сразу же окрестил свою постель кроватью-с-дверью и находил новое приспособление весьма полезным, когда строил «кроватный домик» из всех подголовных валиков, подушек и одеял, которые мог найти.
Теперь в кровати-с-дверью спала Рошан. Ее тоненькая ручка, просунутая в щель между рейками, свисала вниз. Скоро ее девятый день рождения. Похожа на мать, подумал Густад, глядя на хрупкую фигурку дочери. Он повернулся и посмотрел туда, где на узком дхолни[10 - Дхолни – матрас (хинди).], который днем сворачивали и засовывали под кровать Дариуша, спал Сохраб. Густаду всегда хотелось приобрести полноценную третью кровать, но в маленькой комнате для нее не было места.
При взгляде на старшего сына глаза Густада наполнились слезами радости и гордости, а сердце – спокойствием: лицо девятнадцатилетнего юноши было таким же безмятежным, как тогда, когда он, будучи маленьким мальчиком, спал в кровати-с-дверью. Изменится ли это безмятежное выражение со временем? Для него самого это время настало, когда книжный магазин его отца был предательски разграблен и погублен. От этого удара и позора его мать заболела. Как же проворно двигалась рука бедности, пятная и отравляя их жизнь! Вскоре после этого его мама умерла. С тех пор сон для него перестал быть спокойным временем суток, он превратился в состояние, когда все тревоги усиливались и росли гнев – странный, неизвестно на кого направленный – и ощущение беспомощности. Он просыпался изнуренным, проклиная новый день.
Поэтому, глядя на Сохраба, спавшего мирным сном, с полуулыбкой на лице, на Дариуша, который фигурой в свои пятнадцать лет был уменьшенной копией своего отца; на занимавшую лишь маленькую часть кровати-с-дверью миниатюрную Рошан, с косичками, разметавшимися на подушке по обе стороны от головки, молча переводя взгляд с одного ребенка на другого по очереди, Густад желал только одного – чтобы жизни его сыновей и дочери всегда оставались мирными и ничем не омраченными. Очень-очень тихо он замурлыкал песню военных лет, которой приноровился баюкать своих детей, когда они были совсем маленькими:
Боже, наших сохрани,
Боже, наших сбереги,
Дариуша и Сохраба
И Рошан – всех пощади…
Сохраб заворочался во сне, и Густад замолчал. В комнате, как и во всей квартире, было темно, поскольку окна и вентиляционные решетки были завешены черной светонепроницаемой бумагой. Густад устроил эту светомаскировку девять лет назад, когда разразилась война с Китаем. Сколько всего случилось в тот год, подумал он. Рождение Рошан, потом жуткий несчастный случай со мной. Три месяца на больничной койке со сломанным бедром. А беспорядки в городе – с комендантским часом, полицейскими дубинками и горящими повсюду автобусами! Каким ужасным выдался тысяча девятьсот шестьдесят второй год. Какое унизительное поражение. Тогда только и разговоров было, что о продвижении китайцев, таком стремительном, что казалось, будто индийская армия состояла из оловянных солдатиков. И при этом – подумать только! – обе стороны до самого конца прокламировали мир и братство. Особенно Джавахарлал Неру с его любимым лозунгом: «Хинди – Чайни бхай-бхай!»[11 - Лозунг индийско-китайской дружбы: «Индийцы с китайцами – братья».] Он не переставал твердить, что Чжоу Эньлай – наш брат, что наши народы большие друзья, и упрямо отказывался верить в разговоры о войне, несмотря на то что китайцы ранее вторглись в Тибет, расположив вдоль границы несколько дивизий. «Хинди – Чайни бхай-бхай», – снова и снова провозглашал он, как будто частое повторение этих слов действительно могло сделать народы братьями.
А когда китайцы хлынули через горы, все заговорили о предательской сущности желтой расы. Китайские рестораны и парикмахерские потеряли свою клиентуру, а китаец сразу стал синонимом главного чудовища. Дильнаваз, бывало, пугала Дариуша: «Вот придет злой китаец и заберет тебя, если ты не доешь свою еду». Но Дариуш не обращал на ее слова никакого внимания, он не боялся. После обсуждения со своими друзьями-первоклассниками вопроса о желтых дикарях, которые умыкали индийских детей, чтобы готовить жаркое из них, так же как из крыс, кошек и собак, малыш выработал собственный план: он возьмет свой предназначенный для праздника дивали[12 - Дивали – главный индийский и индуистский праздник, который символизирует победу добра над злом, в знак этой победы повсеместно зажигаются свечи и фонарики.] игрушечный пистолет, зарядит его шариками из карри и – бах-бах! – застрелит китайца, если тот попробует хотя бы приблизиться к их квартире.
Но, к величайшему разочарованию Дариуша, никакие китайские солдаты к Ходадад-билдингу не приблизились. Зато все окрестности заполонили команды политиков – сборщиков средств. В зависимости от принадлежности к той или иной партии они произносили речи, либо восхвалявшие героическую позицию Индийского национального конгресса, либо поносившие его за некомпетентность, выразившуюся в отправке храбрых индийских джаванов[13 - В современной индийской армии джаван – это почетный термин для военнослужащего в солдатском, сержантском или младшем офицерском звании. «Наши доблестные джаваны» означает «наши доблестные воины».], с устаревшим вооружением и в летнем обмундировании, на смерть от рук китайцев в Гималаях. Все политические партии рассылали разукрашенные флагами грузовики курсировать по городу с плакатами, являвшими собой образцы пропагандистской изобретательности: в них умело сплетались воедино призывы к материальной поддержке партии и поддержке солдат. В то же время сборщики средств до хрипоты орали в мегафоны с увещеваниями быть такими же бескорыстными, как джаваны, которые окропляли гималайские снега своей бесценной кровью, чтобы защитить Мать Индию.
И люди, движимые патриотическим порывом остановить поток желтых захватчиков, бросали из окон прямо в проезжавшие мимо грузовики одеяла, свитера и шарфы. В некоторых богатых районах такие сборы превращались в соревнования: соседи старались переплюнуть друг друга в демонстрации своего богатства, патриотизма и сострадательности. Женщины снимали с себя и швыряли браслеты, кольца и серьги. Деньги – банкноты и монеты – заворачивали в носовые платки и бросали в благодарные руки сборщиков. Мужчины срывали с себя рубашки, куртки, пояса, сбрасывали с ног туфли и метали все это в грузовики. Какое время было! При виде такой солидарности и щедрости у всех на глаза наворачивались слезы гордости и радости. Впоследствии поговаривали, будто часть пожертвованных вещей оказалась на Чор-базаре и Нулл-базаре, а также на придорожных прилавках лоточников, хотя на подобные злобные утверждения особого внимания не обращали; сияние национального единства оставалось теплым и утешительным.
Но все знали, что война с Китаем заморозила сердце Джавахарлала Неру, а потом и разбила его. Он так и не оправился от того, что воспринял как предательство со стороны Джоу Эньлая. Обожаемый всей страной Пандит джи[14 - Пандит – почтительная форма обращения к лицам из касты брахманов. Пандит джи – вежливое обращение к пандиту Джавахарлалу Неру, употреблявшееся его близкими и соратниками.], «дядя Неру» всех индийских детей, непоколебимый гуманист, великий провидец ожесточился и озлобился. С тех пор он не терпел никакой критики и не слушал ничьих советов. Навсегда утратив вкус к философии и мечтательству, он погрузился в политические дрязги и международные интриги, а также стал давать волю своему тираническому характеру и раздражительности, признаки которых проявлялись порой еще до войны с Китаем. Все знали о его вражде с зятем, который был вечной «занозой» в его политической деятельности. Неру не мог простить Ферозу Ганди того, что он выставил напоказ скандалы в правительстве; ему больше не нужны были защитники угнетенных и борцы за дело бедных, хотя сам он когда-то играл эти роли с огромным удовольствием и невероятным успехом. Теперь он стал одержим только тем, чтобы сделать свою дорогую дочь Индиру – единственного, по его словам, человека, который его искренне любил, Индиру, которая даже бросила своего никчемного мужа, чтобы быть с отцом, – премьер-министром после своей смерти. Эта маниакальная одержимость терзала его днями и ночами, которые предательство Джоу Эньлая отравило и сделало беспросветными навечно, – в отличие от городов, в которые свет вернулся после разрешения конфликта, когда люди сняли затемнение с окон и дверей.
Густад, впрочем, затемнение в своей квартире не снял, сославшись на то, что при нем дети лучше спят. Дильнаваз это казалось смешным, но спорить она не стала, поскольку у Густада тогда только что в доме для престарелых умер отец. Может быть, темнота успокаивает его расшатанные после недавно случившейся утраты нервы, думала она.
– Когда будешь готов, тогда и снимешь черную бумагу, баба?[15 - Баба? – старец (хинди). Уважительная безличная форма обращения к пожилому мужчине или человеку любого пола значительно старше вас.]. У меня и в мыслях нет заставлять тебя, – сказала она, однако регулярно проводила осмотр: бумага собирала пыль, и ее трудно было чистить, она была идеальным местом для пауков, чтобы плести свои паутины, и служила отличным укрытием для тараканьих кладок, а кроме того, придавала дому мрачный и гнетущий вид.
Проходили недели, месяцы, а бумага все сдерживала доступ в квартиру любых форм света – что земного, что небесного.
– В такой обстановке кажется, что утро никогда не наступит, – жаловалась Дильнаваз. Постепенно она изобретала все новые способы борьбы с пылью, паутиной и домашними насекомыми. Семья привыкла жить при тусклом свете, словно затемнение продолжалось. Иногда, однако, когда Дильнаваз особенно доставали повседневные заботы, черная бумага становилась мишенью ее раздражения.
– Чудесно! Сын собирает бабочек и мотыльков, отец – пауков и тараканов. Скоро Ходадад-билдинг превратится в один большой музей насекомых.
Но спустя три года Пакистан совершил нападение с целью откусить кусок Кашмира, как это было сразу после Раздела[16 - Имеется в виду разделение Британской Индии в 1947 году на два независимых государства-доминиона, Индию (сегодня это Республика Индия) и Пакистан (сегодня это Исламская Республика Пакистан и Народная Республика Бангладеш).], и затемнение снова оказалось востребованным. Густад не преминул торжествующе указать ей на мудрость своего решения.
III
Покинув спящих детей, он вернулся, чтобы дочитать газету. Для молитвы было еще рано: свет пока не забрезжил на горизонте. Проследовав за Дильнаваз на кухню, он стал читать ей газетные заголовки: «Разгул террора в Восточном Пакистане»…
– Подожди, пока я наполню бак, – попросила она, поскольку из-за шума текущей под напором воды ничего не слышала. Сегодня напор был слабым, и потребовалось больше времени, чтобы заполнить бак. «Интересно почему?» – подумала она, простирывая батистовый лоскут, через который процеживала воду в сосуд, где хранилась дневная доля питьевой воды. Шлепнув мокрую тряпочку на горлышко глиняного кувшина, она расправила ее и ловко продавила посередине пальцами, чтобы образовалась воронка.
– Тут пишут, что «Авами Лиг»[17 - Левоцентристская политическая партия, основанная в Восточном Пакистане в 1949 году. «Авами Лиг» возглавила борьбу бенгальцев за независимость. После провозглашения в марте 1971 года независимости и последовавшей девятимесячной освободительной войны была образована Народная Республика Бангладеш, и «Авами Лиг» выиграла первые всеобщие выборы в 1973 году.] провозгласила образование Республики Бангладеш, – продолжил Густад, когда Дильнаваз закрутила кран. – А я говорил коллегам в столовой во время обеда, что именно это и произойдет. Они утверждали, что генерал Яхья[18 - Ага Мухаммед Яхья Хан (1917–1980) – пакистанский государственный деятель, в 1969 году стал третьим президентом Пакистана.] позволит шейху Муджибуру Рахману[19 - Муджибур Рахман (1920–1975) – политический и государственный деятель Пакистана и Бангладеш, первый президент и премьер-министр Бангладеш.] сформировать правительство. Пусть мне отсекут правую руку, сказал я тогда, если эти фанатики и диктаторы с уважением отнесутся к результатам голосования.
– И что теперь будет?
Он проигнорировал ее вопрос, продолжив про себя читать о бенгальских беженцах, хлынувших через границу и рассказывавших о терроре и зверствах, пытках, увечьях и убийствах; о рвах, заполненных трупами женщин с отрезанными грудями, о младенцах, насаженных на штыки, о разбросанных повсюду обгоревших телах, о деревнях, полностью стертых с лица земли.
Глиняный кувшин наполнился до краев. Дильнаваз отмерила шесть капель темно-лилового раствора. Ее не переставало тревожить то, что они не кипятят питьевую воду. Но Густад говорил, что процеживания и добавления марганцовки достаточно для обезвреживания. Она выжала намокший подол своей вылинявшей ночной рубашки с цветочным рисунком. От усилий на ее слишком быстро стареющих руках вздулись синие вены. Крышка на чайнике подпрыгивала и дребезжала.
– Интересно, что бы сказал об этом майор Билимория? – заметила она, засыпая в чайник три ложки «Брук Бонда». Шумное бурление чайника перешло в тихое бормотание. Она не любила заваривать чай прямо в чайнике, но английский темно-коричневый заварной чайник, который служил им двадцать лет, треснул. Износившийся чайный чехол, из которого сыпалась заплесневевшая набивка, тоже надо бы было заменить.
– Майор Билимория? Сказал бы – о чем? – Не заподозрила ли она что-нибудь насчет спрятанного письма, подумал Густад, стараясь сохранить равнодушный тон.
– Насчет этих беспорядков в Пакистане. Люди говорят, что будет война. У него, с его военным прошлым, могла бы быть внутренняя информация.
Майор Билимория жил в Ходадад-билдинге почти столько же, сколько Ноблы. Густад всегда ставил его в пример своим сыновьям, требуя, чтобы они ровно держали спину при ходьбе, втягивая живот и выпячивая грудь, как «дядя майор». Отставной майор любил потчевать Сохраба и Дариуша историями о своих героических армейских днях и участии в битвах. В глазах его юных слушателей эти истории мгновенно обретали статус легенд, героем которых был их дядя майор: легенд про трусливых пакистанцев, которые, поджав хвосты, бежали в 1948 году от столкновения с индийскими солдатами в Кашмире, или о разгроме наводивших на всех ужас воинственных племен с северо-западной границы, являвшихся бичом могущественной английской армии во времена империи. Для этих диких и свирепых племен, рассказывал дядя майор, сражаться и убивать было все равно, что играть в любимую игру. Спущенные с цепи пакистанцами, они напивались пьяными и начинали громить первую попавшуюся на их пути деревню, вместо того чтобы двигаться вперед и атаковать столицу. Проходило немало часов, пока они рубили мирных жителей и рыскали от одного дома к другому в поисках денег, драгоценностей и женщин. И пока они предавались этим своим «забавам», продолжал дядя майор, у индийской армии образовалось время дождаться подкрепления. Битва была выиграна, опасность для Кашмира миновала. Тут дети издавали вздох облегчения и начинали аплодировать. Его истории – о переходе через перевал Банихал, о битве за Барамулу, об осаде Шринагара – были такими захватывающими, что Густад и Дильнаваз сами слушали их как завороженные.
А в прошлом году майор Билимория исчез из Ходадад-билдинга. Пропал, никому не сказав ни слова, и никто не знал куда. Вскоре после этого приехал грузовик, у водителя был ключ от его квартиры и приказ забрать его вещи.
На задней части грузовика краской, буквами со множеством завитков, было написано: «Надейся на Бога, но сигналь при обгоне». На вопросы соседей ни водитель, ни его помощник ничего сообщить не могли, кроме: «Humko kuch nahin maaloom»[20 - Понятия не имеем (хинди).].
Внезапный отъезд майора ранил Густада Нобла больнее, чем он позволял себе показать. Всю глубину его боли понимала только Дильнаваз.
– Вот так, без всяких объяснений уехать, после того как мы столько лет были добрыми соседями, это бесстыдно. Чертовски дурной поступок! – единственное, что он сказал по этому поводу.
Но, хотя Густад и не хотел этого признавать, Джимми Билимория был для него больше чем соседом. Самое меньшее – любимым братом. Почти членом семьи, вторым отцом его детей. Густад подумывал о том, чтобы назначить его их опекуном в завещании на случай, если что-то непредвиденное случится с ним и Дильнаваз. Даже спустя год после исчезновения майора он не мог думать о нем без сердечной боли. Лучше бы Дильнаваз не произносила его имени. Достаточно было и того письма, при воспоминании о котором у него вскипала кровь.