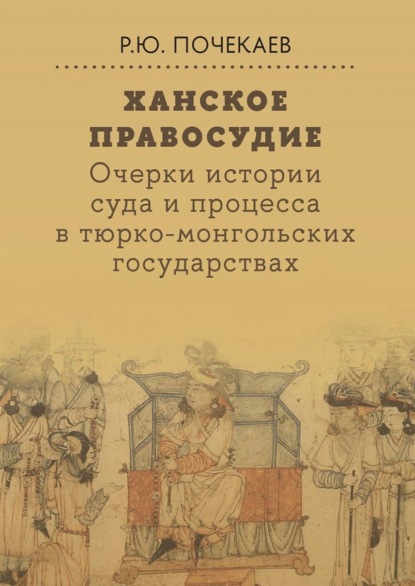По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ханское правосудие. Очерки истории суда и процесса в тюрко-монгольских государствах: От Чингис-хана до начала XX века
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Все сказанное выше относится к тюрко-монгольским кочевникам: для каждого из них эталоном «настоящего» человека был такой же кочевник, как и он сам, а в отношении себе подобных действовали законы «своего», «внутреннего» мира, в отличие от «чужого», «внешнего» мира оседлых земледельцев, поступки которых оценивались по иным критериям. Поэтому ситуация закономерно становится гораздо определеннее, когда к Чингис-хану начинают приходить на поклон изменники из стана его оседлых соседей: киданей, чжурчжэней, тангутов, китайцев. Нам неизвестно ни одного случая, чтобы кого-либо из них сразу же казнили за предательство. Напротив, они даже имели неплохие шансы попасть в ближний круг великого монгола, как, например, братья Елюй Ахай и Елюй Тухуа – выходцы из киданьской императорской фамилии, занимавшие высокое положение в Цзинь. Принимая во внимание старую вражду между монголами и чжурчжэнями, эти двое оказались для Тэмуджина большим подарком судьбы. Разумеется, он не мог осуждать их поступок явно, даже если не одобрял такое поведение внутренне. И чем более расширялись рубежи растущей Монгольской империи, тем большее количество вождей и полководцев разных рангов переходило на сторону Чингиса. Как правило, их оставляли во главе их воинских подразделений и без промедления отправляли в бой[22 - Этот вопрос подробно рассмотрел еще И. де Рахевильц [Rachewiltz, 1966]. Один из примеров принятия Чингис-ханом цзиньского перебежчика описан Палладием [Палладий, 1877, с. 183–184].]. В противном случае, даже при всем своем военном мастерстве, сломить сопротивление чжурчжэней, а равно и прочих сильных врагов монголам едва ли удалось бы. Рискнем предположить, что все эти люди были в глазах Чингис-хана и его соплеменников чем-то ущербным, не соответствовавшим степным стандартам истинного мужа-воина, почему и судить их строго за измену своим прежним господам не имело смысла. Вместо этого был резон с их помощью расчищать себе путь к победе – в чем-то подобно тому, как это испокон веков делали в Поднебесной, «руками варваров подавляя варваров». Наверное, если такой человек погибал потом в схватке, монгольскому хану оставалось лишь заключить, что судьбу изменника решило само Вечное Небо. Однако если в плен сдавался военачальник, вышедший из кочевой среды, его поступок оценивался по степным стандартам и вместо награды его могла ожидать казнь, как это произошло, например, с тюркским Карача-ханом, который состоял на службе у хорезмшаха Ала ад-Дина Мухаммада (1200–1220), одного из серьезнейших противников монголов в эпоху формирования их евразийской империи.
Рашид ад-Дин сообщает, что когда во время осады Отрара к сыновьям Чингис-хана Чагатаю и Угедэю явился Карача-хан, бежавший из города, который он должен был защищать, те предали его казни. При этом их слова поразительно напоминают по смыслу некоторые вышеприведенные речи Чингис-хана: «Ты не соблюл верности в отношении своего властелина, несмотря на такое количество предшествующих случаев, [дающих] ему право [на твою] благодарность, у нас [поэтому] не может быть стремления к единодушию с тобой» [Рашид ад-Дин, 1952б, с. 198–199]. Следовательно, мы можем предполагать, что принципы награждения за верность и наказания за предательство, заложенные Чингис-ханом, находят отражение и в судебной практике его потомков, причем в некоторых случаях исследователи склонны усматривать в решениях Чингисидов прямые параллели с аналогичными действиями самого основателя Монгольской империи.
Целый ряд арабских историков, сообщая о конце знаменитого золотоордынского временщика Ногая в 1299/1300 г., приводят подробности, связанные с судьбой убившего его «русского тысячника». Явившись с головой Ногая к хану Токте (1291–1312) за наградой, он подтвердил, что знал, кого убивает. За это хан приговорил его к смерти, обосновав свой приговор следующими словами: «По закону ему (следует) смерть, дабы подобные ему не осмеливались убивать таких людей, как этот великий человек» [Тизенгаузен, 1884, с. 122–123] (ср.: [Там же, с. 113–114]). Н.И. Веселовский при анализе этого сообщения проводит прямые параллели с сюжетами из «Сокровенного сказания» о вознаграждении Наяа и казни нукеров Джамухи [Веселовский, 2010, с. 182–183]. Само описание процедуры разбирательства (как обмена вопросами и ответами между ханом-судьей и провинившимся воином), как представляется, позволяет думать, что принципы судебного разбирательства и наказаний за преступления, заложенные Чингис-ханом на заре его политической деятельности, оставались актуальными для его потомков даже тогда, когда о единстве Монгольской империи уже говорить не приходилось. Между тем, хотя убийца Ногая и был виноват в том, что фактически совершил самосуд, да еще осмелился отрубить Чингисиду голову (вопиющее нарушение монгольской традиции, согласно которой представителей «золотого рода» и вообще лиц благородного происхождения полагалось умерщвлять «без пролития крови»), он не являлся подчиненным Ногая и, следовательно, не был предателем. Тем не менее этот случай показателен в другом отношении: он наглядно демонстрирует императив социальной иерархии, который также попрал русский воин, подняв руку на человека, стоявшего гораздо выше его.
Возможно, здесь будет уместна аналогия с расправой над останками вышеупомянутого хорезмшаха Мухаммада. Это событие проливает свет на особую черту средневековой ментальности: враг только тогда считается ликвидированным полностью и бесповоротно, когда уничтожены его кости, но сделать это может не кто угодно. Мухаммад не был убит в бою или казнен, будучи пленником, – он скончался на пустынном островке в Каспийском море, укрывшись там от преследовавших его по пятам монголов. Секретарь его сына Джалал ад-Дина Манкбурны, последнего представителя династии Хорезма, так описывает это событие: «Великий султан (Ала ад-Дин Мухаммад) был похоронен на острове, как мы выше упомянули в рассказе о его смерти, возвратив [Аллаху] жизнь, данную ему на срок. Султану, когда он был занят осадой Хилата, пришло на ум построить в память отца Мадрасу в Исфахане и перенести туда с острова его гроб (табут). Он направил в Исфахан Мукарраб ад-Дина – старшего конюшего, который был ранее постельничим. Это был тот, кто омывал Великого султана. [Ему было приказано] построить в Исфахане мадрасу с куполом над могилой, со всеми другими необходимыми помещениями, такими, как отделение для одежды, отделение для постели, отделение для омовений, отделение для обуви и так далее. Султан послал с ним тридцать тысяч динаров для начала строительства. Он предупредил вазира Ирака, чтобы тот выдавал из поступлений дивана средства, необходимые для окончания строительства, и чтобы утварь была изготовлена из золота: и подсвечники, и тазы, и кувшины, – и чтобы у дверей стоял конный караул с бунчуком и украшенной амуницией. Ал-Мукарраб направился в Исфахан и приступил к строительству. Я прибыл через четыре месяца и увидел, что стены уже поднялись в рост человека. Султан написал своей тетке по отцу Шах-хатун – правительнице Сарийи, одного из округов Мазандарана, ее отец Текиш выдал ее замуж за малика Мазандарана Ардашира ибн ал-Хасана, а тот умер, – чтобы она сама и вместе с ней малики, эмиры и вазиры Мазандарана отправились на остров и перевезли гроб с острова в крепость Ардахн. Она была самой неприступной крепостью на земле, и останки должны были оставаться там, пока не будет закончено строительство мадрасы в Исфахане, а затем перевезены туда. И клянусь жизнью, что я писал эти грамоты неохотно и считал их мнение неразумным. Я поведал ал-Мукаррабу некоторые свои мысли и открыл ему кое-какие тайны: ведь я знал, что его труп – да прохладит его Аллах освежающим ветром – не был сожжен татарами только потому, что к нему трудно было добраться. Они уже сожгли кости всех погребенных султанов, в какой бы земле они ни находились, так как они считали, что все эти султаны [имеют] общего предка и одного рода. Даже кости Йамин ад-Даулы Махмуда ибн Себюк-Тегина – да помилует его Аллах – были извлечены из его могилы в Газне и сожжены. Однако то, что я сказал, не понравилось Мукарраб ад-Дину, и поэтому я прекратил разговор. А дело было впоследствии именно так, как я предполагал: татары, покончив с султаном [Джалал ад-Дином] на границах Амида, о чем мы еще расскажем, осадили упомянутую крепость (Ардахн), захватили останки [султана Мухаммада] и отправили к ал-хакану, а тот сжег их» [ан-Насави, 1996, с. 233–234].
Трудно сказать, действительно ли останки злосчастного хорезмшаха были отвезены в Монголию, где хаган Угедэй (1229–1241) совершил ритуал их сожжения (а в том, что это был именно особый ритуал, сомневаться не приходится). К сожалению, нам не удалось найти ни одного подтверждения этой истории, но вполне допустимо полагать, что ан-Насави верно изложил общий принцип, согласно которому эффективная нейтрализация духовной силы, заключенной как в живом человеке, так и в его костях, была доступна лишь человеку, обладающему не меньшей силой (см. об этом подробнее: [Дробышев, 2005, с. 128–130]). Поэтому посмертная расправа ожидала Мухаммада в Каракоруме, где тогда находился Угедэй, а не в Ардахне, где, казалось бы, осуществить ее не составило бы труда и рядовому монгольскому воину. Хорезмшах и хаган, как великие правители, были достойны друг друга, ввиду чего история, поведанная ан-Насави, представляется нам основанной на реальных событиях, и она косвенно подтверждает правило, озвученное ханом Токтой: простолюдины не имеют права лишать жизни высокопоставленных людей. Можно сформулировать его более широко: низшие не могут судить высших.
Итак, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что Чингис-хан в своей судебной деятельности далеко не всегда руководствовался едиными принципами и нормами при рассмотрении сходных дел. В значительной степени его решения зависели от обстоятельств, а также и от его собственного усмотрения (в том числе на основе личного отношения к тем или иным участникам разбирательств), которое тоже можно рассматривать как источник принятия ханом судебных решений. Тем не менее не вызывает сомнений, что именно в период возвышения Чингис-хана и его борьбы за власть в Великой Степи начала формироваться та самая система ханского правосудия, которая обусловила статус будущих ханов-Чингисидов как верховных судей в Монгольской империи и ее улусах и легла в основу монгольского имперского суда – яргу, получившего широкое распространение во всех чингисидских государствах XIII–XIV вв., система, одним из определяющих правовых источников для которой являлось как раз собственное усмотрение ханов.
§ 3. Джучи и защитники Хорезма: жестокость или правосудие?
До сравнительно недавнего времени в историографии было распространено объективное утверждение, что личность и деятельность Джучи, старшего сына Чингис-хана и основателя государства, получившего в истории название «Золотая Орда», не привлекали внимания исследователей. В последние годы ситуация значительно изменилась: работы, посвященные этому государственному деятелю и правителю, стали появляться, причем в довольно значительном количестве. Однако в большинстве таких публикаций историков преимущественно интересуют лишь отдельные аспекты биографии Джучи: сомнительные обстоятельства его появления на свет, проблемы в отношениях с отцом и братьями, участие в военных кампаниях Чингис-хана в Китае и Средней Азии, загадочные и противоречивые версии смерти. Лишь отдельные работы представляют собой попытки охарактеризовать Джучи именно как правителя обширного улуса, впоследствии превратившегося в одно из могущественнейших государств Евразии. Так, И. Тоган рассмотрела осаду Хорезма, принимая во внимание статус Джучи как потенциального обладателя Хорезма, правда, в большей степени сосредоточившись на источниковедческих аспектах [Тоган, 2001]. Р.Д. Темиргалиев в статье с многообещающим названием «Джучи-хан – правитель Дешт-и Кипчака» представил, по сути, общий биографический очерк о старшем сыне Чингис-хана, уделив внимание его военной деятельности, констатировав, что его преждевременная смерть не позволила ему «развернуть полноценную деятельность в качестве правителя Дешт-и Кипчака и Хорезма» [Темиргалиев, 2016, с. 146].
Представляется, что имеющиеся в распоряжении исследователей источники позволяют выявить определенные черты Джучи именно как государственного деятеля и правителя, охарактеризовать те или иные механизмы власти и управления, которые он практиковал, встав во главе своего улуса. В данном параграфе предпринята попытка оценить основателя Улуса Джучи как вершителя правосудия над своими подданными. А поскольку его жизнь сложилась так, что большую ее часть он провел в военных походах (результатом которых и стало формирование его улуса), неудивительно, что большинство примеров его правосудия имело место во время боевых действий, что, безусловно, не могло не сказаться на форме суда и принимаемых им решениях «по законам военного времени».
Начало военной и государственной деятельности Джучи относится к 1207–1208 гг., когда Чингис-хан, вскоре после провозглашения Монгольской империи, поставил его во главе войска, отправленного в поход на «лесные народы». Именно во время этого похода Джучи впервые применил тот механизм взаимодействия с потенциальными подданными, который старался задействовать в дальнейшем при первых контактах с собственными потенциальными подданными на рубеже 1210–1220-х годов: вместо традиционной для других полководцев «демонстрации силы» он предпочел вступить в переговоры и убедить противника мирным путем признать власть Чингис-хана. В результате без сражений и воинских потерь он привлек на свою сторону ойратов, киргизов и «лесные народы». Его действия имели огромное значение для только что созданного государства, поскольку под власть Чингис-хана впервые перешли народы за пределами собственно Монголии [Ускенбай, 2013, с. 47–48]. Неудивительно, что отец похвалил начинающего полководца и государственного деятеля, который «воротился, покорив без потерь людьми и лошадьми лесные народы» и пожаловал их в подданство [Козин, 1941, с. 174–175; Лубсан Данзан, 1973, с. 183–184]. Собственно, именно с этого времени в современной историографии и принято вести отсчет истории Улуса Джучи, по крайней мере его начального этапа [Бартольд, 1963, с. 459; Кушкумбаев, 2019].
Полагаем, что этот эпизод имел большое значение для последующей деятельности Джучи: удостоившись похвалы отца, он счел, что подобный подход в отношениях с неприятелем станет наиболее эффективным и может способствовать тому, чтобы путем убеждения превратить врага в союзника и подданного. Однако последующие события стали складываться так, что старший сын Чингис-хана постоянно был вынужден отказываться от этой линии поведения и выбирать между желанием прослыть справедливым правителем и необходимостью демонстрировать суровость завоевателя. Особенно ярко это проявилось во время боевых действий в Средней Азии, которые являются эпизодом его биографии, пожалуй, наиболее подробно освещенным в средневековых источниках. Начало боевых действий, связанное с окончательным разгромом племени меркитов и первым столкновением с войсками хорезмшаха Мухаммада II в 1216 г. (по другим данным – в 1218-м), уже впервые поставило Джучи перед таким выбором.
Так, когда после разгрома меркитов в плен к нему попал Култукан-мерген, сын меркитского предводителя Токто-бэки, старший сын Чингис-хана, восхищенный мастерством его стрельбы из лука, обратился к отцу с просьбой сохранить ему жизнь. Полагаем, что Джучи двигало не только восхищение: оставив в живых и взяв на службу сына меркитского вождя, он мог бы с помощью этого акта великодушия привлечь на свою сторону его соплеменников, оставшихся в живых. Однако Чингис-хан отказал сыну, проявив, с одной стороны, следование собственным законам (убийство врага, оказавшего отчаянное сопротивление, даже если потом он был взят в плен), с другой – иррациональную мстительность по отношению к давним врагам – меркитам, которых страстно желал полностью уничтожить [Рашид ад-Дин, 1952а, с. 116; Рашид ад-Дин, 1952б, с. 178].
Вторая неудачная попытка закончить дело миром (хотя и без намерения заставить противника подчиниться власти Чингис-хана) имела место перед битвой с хорезмшахом Мухаммадом: Джучи, стремясь не доводить дело до сражения, отправил к нему послов с сообщением, что не имеет приказа воевать с ним, и даже предложил поделиться добычей, доставшейся ему после разгрома меркитов. Однако, как известно, хорезмшах не отреагировал на его мирные инициативы и сам начал битву [ан-Насави, 1996, с. 48–49; Тимохин, 2016, с. 46–47][23 - Любопытно отметить, что Абу-л-Гази, хивинский хан-историк XVII в. (сам являвшийся потомком Джучи), по какой-то причине считал, что Джучи стремился к битве и даже проигнорировал мнение своих «князей», т. е. военачальников, якобы настаивавших на переговорах с хорезмшахом [Абуль-Гази, 1996, с. 62].].
Подобные ситуации неоднократно возникали в ходе последовавшей вскоре войны Чингис-хана с хорезмшахом Мухаммадом: на все мирные инициативы Джучи население Средней Азии в большинстве случаев реагировало негативно. Считаем целесообразным отметить, что переговоры с потенциальным противником в рамках этой кампании (как и последующих) не были свойственны только Джучи: сам Чингис-хан, его другие сыновья и внуки, а также полководцы направляли послов к противникам перед сражением. Вместе с тем следует принять во внимание, что такие переговоры нередко являлись военной хитростью и преследовали цель либо усыпить бдительность врагов перед битвой, либо рассорить их между собой и затем разгромить поодиночке. Джучи же в своих мирных инициативах был искренен – и даже не в силу своего врожденного миролюбия (о котором мы еще поговорим ниже), а потому что Чингис-хан пообещал ему во владение Хорезм и он стремился причинить как можно меньше ущерба собственным будущим владениям.
Однако в силу разных причин попытки Джучи окончить дело миром завершались ничем. Так, когда он приблизился к городу Сыгнаку и направил туда местного уроженца Хасан-хаджи (или Хусейн-хаджи) в качестве парламентера, предложив населению сдаться и тем самым сохранить город и жизни его жителей, они не только отказались, но и убили парламентера. В результате город был взят штурмом, а все его население перебито: по словам персидского историка Рашид ад-Дина, воины Джучи, «заперев ворота прощения и снисходительности… убили всех, мстя за одного человека» [Рашид ад-Дин, 1952б, с. 199] (см. также: [Джувейни, 2004, с. 58]). Так, Джучи пришлось истребить немалое число своих же потенциальных подданных, поскольку, согласно имперскому законодательству, убийство послов должно было быть сурово покарано. Кроме того, и отчаянное сопротивление жителей Сыгнака, приведшее к многочисленным потерям среди его воинов, не оставляло старшему сыну Чингис-хана выбора в принятии решения о судьбе населения города.
Зато переговоры с другим городом, Джендом, казалось, дали ему шанс вновь использовать дипломатический метод вместо военной силы. Как и в Сыгнак, в Дженд был послан парламентер – Чин-Тимур из племени онгутов, который стал призывать местное население «воздержаться от военных действий» и в конечном счете признать власть монголов. Однако и местные жители негативно отреагировали на инициативу Джучи, едва не прикончив его посланца. Но Чин-Тимур, напомнив им о судьбе Сыгнака, сумел покинуть город невредимым. Тем не менее отказ жителей Дженда подчиниться заставил Джучи отступиться от намерения дать своим войскам отдых и повернуть их к городу. По мере приближения его войск жители заперли ворота и приготовились к осаде. Однако когда войска первенца Чингис-хана пошли на штурм, они беспрепятственно поднялись на стены и овладели городом, причем «с обеих сторон ни одному живому существу не было нанесено вреда ударами меча». Именно это обстоятельство и позволило Джучи проявить в данном случае великодушие, приказав казнить «лишь несколько человек главарей, дерзко разговаривавших с Чин-Тимуром»; тем не менее последующая судьба самого города вызывает некоторое удивление: удерживая жителей, которым сохранили жизнь, сам Дженд «предали потоку и разграблению» [Рашид ад-Дин, 1952б, с. 200] (см. также: [Джувейни, 2004, с 59]).
Почему Джучи поступил так с городом, который должен был бы войти в его владения и жители которого, казалось, не проявили явной враждебности? Полагаем, что, во-первых, жители не открыли ворота по требованию своего будущего правителя. Во-вторых, Чингис-хан, отправляя своих сыновей Чагатая и Угедэя на осаду Ургенча (столицы хорезмшаха Мухаммада), приказал первенцу привести к ним подкрепление из Дженда в качестве хашара, т. е. «живого щита» из пленников, который прикрывал бы осаждавших во время штурма [Джувейни, 2004, с. 84]. Соответственно, разрушение города давало дополнительную уверенность в том, что пленники не сбегут домой.
Но если при принятии решения о судьбе жителей Сыгнака Джучи вряд ли колебался, то в ситуации с Джендом он уже мог усомниться в эффективности политики Чингис-хана по отношению к будущим подданным и даже осудить ее – о чем впоследствии упоминали средневековые авторы. Однако, будучи сыном и полководцем основателя Монгольской империи, он был обязан подчиниться ему. Вместе с тем даже после суровой расправы с покоренными городами Джучи сумел продемонстрировать намерение найти общий язык с местным населением: в частности, наместником Сыгнака был назначен сын убитого Хасана-хаджи, а Дженда – бухарец Али-ходжа [Рашид ад-Дин, 1952б, с. 199, 200], т. е. представители местного населения, а не выходцы из монгольских степей (правда, наместником Хорезма и впоследствии джучидских владений на территории Ирана стал все же вышеупомянутый онгут Чин-Тимур [Джувейни, 2004, с. 343, 351]).
Наиболее ярко проявилось противоречие между желанием Джучи сохранить свои будущие владения, добившись их подчинения мирным путем, и воинственными намерениями его отца и братьев именно при осаде Ургенча, продлившейся, согласно разным источникам, от четырех до семи месяцев. Как и перед началом военных действий в отношении других городов, старший сын Чингис-хана перед началом осады направил в Ургенч свое посольство (или даже несколько), предлагая жителям сдаться и признать его власть, поскольку отец отдал ему столицу хорезмшаха во владение и он хотел бы сохранить ее в целости. Ожидая ответа из города, он даже запретил своим войскам разорять округу, включая селения и поля [ан-Насави, 1996, с. 132] (см. также: [Бартольд, 1963, с. 502; Тимохин, 2016, с. 49, 52; Тоган, 2001, с. 157–158]). Обратим внимание, что Джувейни, создававший свою «Историю завоевателя мира» при дворе потомков Толуя, управлявших Ираном и находившихся в конфронтации с золотоордынскими потомками Джучи, ничего не говорит об участии последнего в осаде Ургенча, но тем не менее упоминает, что осаждавшие город Чагатай и Угедэй перед началом боевых действий направили к жителям послов с предложением сдаться [Джувейни, 2004, с. 85]. Полагаем, что это – отражение реальных действий Джучи, упомянутых в других источниках.
Как сообщает Шихаб ад-Дин Насави, участник событий, часть населения Ургенча склонялась к принятию предложения Джучи, однако в конечном счете верх взяли сторонники сопротивления. Полагаем, не последнюю роль в этом сыграла позиция Чагатая – следующего по старшинству брата и, как следствие, главного соперника Джучи в семейной иерархии: строго следуя предписаниям отца и не будучи связан желанием сохранить в целости потенциальные владения своего старшего брата, он, скорее всего, изначально занял враждебную позицию по отношению к жителям Ургенча и всячески демонстрировал стремление не допустить мирного развития событий. Противостояние двух старших сыновей Чингис-хана зафиксировано в целом ряде источников [Абуль-Гази, 1996, с. 68; Козин, 1941, с. 187; Лубсан Данзан, 1973, с. 226; Рашид ад-Дин, 1952б, с. 216; Утемиш-хаджи, 2017, с. 19]. Причем, как представляется, в них нашла отражение не только конкуренция братьев, но и борьба двух политик в отношении покоренного населения – более взвешенной и дипломатичной, свойственной Джучи, и суровой и агрессивной, характерной для Чагатая. В результате Чингис-хан отстранил обоих старших сыновей от командования осадой Ургенча, поручив его, по одним сведениям, Угедэю [Козин, 1941, с. 187; Рашид ад-Дин, 1952б, с. 216; Абуль-Гази, 1996, с. 68], а по другим – Тулую [Утемиш-хаджи, 2017, с. 19] (см. также: [Тоган, 2001, с. 166]).
Город был взят после долгой осады и ожесточенного штурма, во время которого жители оказывали отчаянное сопротивление, сражаясь за каждый квартал. Их позиция настолько разгневала Джучи, что он уже и не помышлял о каком-либо сохранении города и пощаде его жителей. Тот же Шихаб ад-Дин Насави, который неоднократно приводит примеры миролюбивых инициатив Джучи, сообщает, что, когда город был почти полностью взят, жители, засевшие в нескольких оставшихся кварталах, направили к старшему сыну Чингис-хана мухтасиба (городского смотрителя) Алла ад-Дина ал-Хаййати, который сказал ему: «Мы уже увидели, как страшен хан, теперь настало время нам стать свидетелями его милосердия», видимо надеясь, что тот попытается сохранить хотя бы часть города и его населения. На это Джучи ответил: «Что страшного они увидели во мне? Ведь они сами губили моих воинов и затянули сражение! Это видел их грозный облик! А вот теперь я покажу, [каков должен быть] страх передо мной!» [ан-Насави, 1996, с. 133]. Нетрудно заметить, что Джучи в своем ответе весьма четко сформулировал причины своего будущего сурового решения о судьбе Ургенча и его жителей: во-первых, они не отреагировали на его мирную инициативу, во-вторых, сражались, убивая его воинов. Сама же риторика старшего сына Чингис-хана, скорее всего, свидетельствует о разочаровании в исходе его дипломатических инициатив, что заставило его ожесточиться и забыть о своих миролюбивых принципах и желании сохранить будущие владения в целости.
Неудивительно, что после того, как город был взят и практически полностью разрушен, население его подверглось жестокой расправе – в соответствии с законами Монгольской империи. Большинство средневековых авторов сообщают, что сыновья Чингис-хана, выделив среди пленников ремесленников (которых оказалось около 100 тыс.), молодых женщин и детей, отправили их «на восток», т. е. в коренные владения Монгольской империи. Остальные же были уничтожены, причем называется совершенно невероятное число жертв: каждый из монгольских воинов, которых было 50 тыс., умертвил по 24 пленника [Рашид ад-Дин, 1952б, с. 216–217] (см. также: [Бартольд, 1963, с. 503]), таким образом, общая цифра убитых достигает 1 млн 200 тыс. человек, что, конечно же, является преувеличением. Тем не менее в факте массовой расправы сомневаться не приходится.
Наиболее оригинальные сведения об осаде Ургенча и ее последствиях содержатся в труде еще одного современника – персоязычного автора Джузджани, который сам не был свидетелем этих событий, однако записал весьма характерный рассказ о них. Его пассаж был исследован А.Г. Юрченко, с любезного разрешения которого мы полностью приводим проведенный им анализ:
Осман ибн Сирадж-ад-дин ал-Джузджани бежал от монголов в Индию в 1226 г., т. е. спустя пять лет после падения Ургенча. В Дели он занимал должность главного казия. Свое сочинение «Насировы разряды» шестидесятилетний Джузджани написал в 1259–1260 гг., тогда же, когда молодой Джувайни собирал материалы для «Истории завоевателя мира». В свое время до слуха Джузджани дошли подробности расправы над женщинами Хорезма. Эти сведения признаются труднообъяснимыми [Храпачевский, 2005, с. 271] и характеризуются как «гнусное зрелище» [Буниятов, 1986, с. 153].
Вот что пишет Джузджани: «Войско монголов прибыло к воротам Хорезма, и начался бой. В продолжение 4 месяцев жители Хорезма сражались с ними и отражали неверных, которые, наконец, взяли город, предали весь народ мученической смерти и разрушили все строения, за исключением двух мест: 1) Кушк-и-Ахчека и 2) гробницы султана Мухаммеда Текеша. Некоторые рассказывают, что когда город Хорезм взяли и народ из города вывели в степь, то он [Туши] приказал отделить женщин от мужчин и удержать всех тех женщин, которые им [монголам] понравятся, остальным же сказать, чтобы они составили два отряда, раздеть их догола и расставить вокруг них тюрков-монголов с обнаженными мечами. Затем он сказал обоим отрядам: “В вашем городе хорошо дерутся на кулаках, так приказывается женщинам обоих отрядов вступить между собою в кулачный бой”. Те мусульманские женщины с таким позором дрались между собою на кулаках и часть дня избивали друг друга. Наконец [монголы] накинулись на них с мечами и всех умертвили, – да будет доволен ими [убитыми женщинами] Бог» [СМИЗО, 1941, с. 14].
Перед нами картина сексуальных бесчинств. Что побудило монголов устроить кровавую оргию? «Гнусное зрелище» на самом деле является инвариантом праздника хаоса. Город, не подчинившийся сразу воле завоевателей, город, выбравший войну, а не капитуляцию, вверг себя в хаос, который и был доведен монголами до предела, до крайних форм. Битва за город закончилась эксцессом, оргией мужской силы, призванной развязать и подхлестнуть космические силы. Возврат к порядку лежал через разгул. Бедствия войны приобрели театрализованную форму мировой катастрофы. Мужскую сторону праздника представляли воины-монголы, женскую – хорезмийки.
Наготе женщин соответствовало обнажение мечей у мужчин: фаллическая символика меча общеизвестна (ограничусь одним примером из трактата Омара Хайяма: «Меч есть хранитель царства и надзиратель за народом. Без него не устанавливается ни одно царство, так как только при помощи меча можно охранить законы правления. Первым металлом, добытым в руднике, было железо, так как оно было важнейшим веществом для людей. Первым человеком, сделавшим из него оружие, был Джамшид. Всякое оружие великолепно и необходимо, но нет ничего более необходимого и более великолепного, чем меч, так как он похож на огонь по своему блеску и содержит два элемента. Прозорливые люди говорят, что мир без железа похож на молодого человека без детородного члена, не способного к продолжению рода» [Омар Хайям, 2005, с. 278]).
Однако вместо соперничества мужского и женского был развернут аномальный сценарий женской битвы (как пародия на участие хорезмских женщин в защите своего города), а затем последовало их массовое умерщвление. Война сняла все запреты. Участники действа превратились в инфернальные существа, и открылись врата бездны, с позиции монголов, без остатка поглотившей источник хаоса. Эксцесс был возвратом к условиям мифического прошлого и, в конечном счете, призван был преодолеть крах порядка, вызванного войной, что обернулось посягательством на самые святые и нерушимые законы. Это поистине кощунство, хуже которого не бывает.
К такому объяснению меня натолкнуло чтение книги Р. Кайуа «Человек и сакральное», который в главе «Функция разгула» пишет: «Если охранительный, но подверженный ветшанию порядок основан на мере и различии, то возрождающий беспорядок предполагает неумеренность и смешение. В Китае во всех проявлениях публичной и частной жизни мужской и женский пол разделены плотным барьером запретов. Мужчина и женщина трудятся порознь и занимаются разным делом. Более того, ничто принадлежащее одному полу не должно соприкасаться с тем, что относится к другому. Однако на праздниках, на жертвоприношениях, при ритуальных трудах, при выплавке металлов – всегда, когда требуется что-то сотворить, – мужчина и женщина обязательно должны действовать совместно. “Сотрудничество двух полов было тем более эффективно, – пишет М. Гране, – что в обычное время оно кощунственно и предназначено лишь для моментов сакральных”. Так, зимние праздники заканчивались оргией, в ходе которой мужчины и женщины сражались между собой и срывали друг с друга одежду. Скорее всего, их целью было не столько обнажиться, сколько надеть на себя завоеванное одеяние» [Кайуа, 2003, с. 237].
«Смена одежды» идеально согласуется с оргаистической практикой. Значение ритуальной оргии, по мнению М. Элиаде, в том, что в подобных ситуациях на приниженном уровне добивались того же «всеединства» добра и зла, того же слияния священного и профанного, полного совпадения противоположностей, преодоления условия человеческого существования через возвращение к неопределенности, к аморфному состоянию [Элиаде, 1998, с. 316]. Путь к совершенству, к цельности Космоса, предполагал достижение некоего состояния андрогинности, слияния мужского и женского.
Битва за Город (сакральный центр династии хорезмшахов) развернулась на двух уровнях: физическом и метафизическом. Сценарий военных игр слился со сценарием мифического обновления пространства и времени. Мистерия хаоса как праздник неумеренности превратилась в праздник смерти, где убийство было осуществлено в самых кощунственных формах. Вместо восстановления порядка произошло нечто невообразимое: мужская энергия войны истребила женское начало как конкурирующую силу. Вместо слияния противоположностей – однополое царство. Если инициатива расправы, действительно, исходила от Джучи, стоит ли удивляться, что после разгрома города он серьезно заболел и через несколько лет умер загадочным образом?
Суждения и вывод А.Г. Юрченко изложены со свойственной ему некоторой экстравагантностью, однако в целом соответствуют ранее приведенным наблюдениям: Джучи в очередной раз стал перед выбором в определении судьбы враждебных местных жителей, которых рассматривал как своих потенциальных подданных. С одной стороны, он не желал напрасного кровопролития, с другой – не мог оставить без наказания врагов, не отреагировавших на мирные инициативы и оказавших отчаянное сопротивление, приведшее к многочисленным потерям среди его собственных воинов. В соответствии с нормами и принципами права Монгольской империи они считались преступниками и были наказаны с традиционной для того времени жестокостью. Поэтому подобные действия Джучи вряд ли могут свидетельствовать «о некоторых патологиях в характере Джучи» (см.: [Злыгостев, 2018, с. 245]).
Нежелание жителей городов Хорезма покоряться Джучи и его войскам, казалось бы, можно было объяснить существенными различиями между тюрко-монгольскими войсками завоевателей и оседлым населением Средней Азии. Однако не будем забывать, что значительную часть войск державы хорезмшахов составляли кочевники-кипчаки. Они же вступили в противодействие с Джучи и после того, как он завершил свое участие в хорезмской кампании Чингис-хана: согласно как восточным, так и западным источникам, при его дальнейшем продвижении на запад кипчакские племена объединились и оказали Джучи ожесточенное сопротивление [Абуль-Гази, 1996, с. 78–79; СМИЗО, 1941, с. 14; Христианский мир…, 2002, с. 108–109; Хаутала, 2015, с. 367, 371, 431, 437] (см. также: [Ускенбай, 2013, с. 50]). В очередной раз ему не удалось завершить дело миром и пришлось сурово расправиться со своими потенциальными подданными, не пожелавшими покориться.
Конечно же, не следует идеализировать старшего сына Чингис-хана и приписывать ему мягкость и гуманизм в отношении врагов: все-таки он был сыном своего отца и своего времени, представителем своего степного общества, в глазах которого мягкость могла быть истолкована как слабость (ср.: [Темиргалиев, 2016, с. 148]). Вместе с тем он был заинтересован в том, чтобы стать правителем не только обширного, но также густонаселенного и благоустроенного улуса, и вдобавок имел опыт подчинения врагов без кровопролития, который, надеялся он, будет иметь продолжение и в рамках этого похода. Но, как мы имели возможность убедиться, население Средней Азии и Дешт-и Кичпака слишком негативно отнеслось к его мирным инициативам, заставив отказаться от дипломатии и действовать методами «узаконенной жестокости», широко распространенной и весьма эффективной в условиях боевых действий Средневековья [Макглинн, 2011]. Тем не менее его мирные инициативы остались в памяти современников и даже более поздних авторов. Так, армянский принц-историк Гетум (Гайтон) в своем сочинении «Цветник историй краев Востока», составленном в 1307 г. во Франции, отмечает, что при завоевании среднеазиатских владений Джучи «без какого-либо противостояния установил здесь свои шатры и стал владеть теми землями в мире и благоденствии» [Хаутала, 2019, с. 213]. Хотя данное сообщение не соответствовало действительности (да и вообще указанное сочинение изобилует многочисленными фактическими ошибками), нельзя не обратить внимания на то, что этот автор, столь далекий от описываемых им реалий, отметил миролюбие политики Джучи.
Таким образом, некоторые сведения источников позволяют сделать вывод, что Джучи гораздо чаще, чем его отец, братья и другие современники, старался добиваться цели мирными средствами и в принципе демонстрировал куда меньшую воинственность. Это нашло отражение не только в вышеописанных конкретных случаях, но и в высказываниях старшего сына Чингис-хана, либо действительно имевших место, либо приписываемых ему. Так, согласно «Сокровенному сказанию», во время небезызвестной ссоры, в ходе которой Чагатай прилюдно назвал Джучи «наследником меркитского плена», тот в ответ обвинил его в том, что он превосходит всех «одной лишь свирепостью» [Козин, 1941, с. 183–185], тем самым давая понять, что сам предпочитает иные методы взаимодействия и с подданными, и с врагами. В более позднем монгольском историческом сочинении «Алтан Тобчи» Джучи приписывается следующий ответ на вопрос Чингис-хана, что есть лучшее наслаждение: «По моему разумению, самое лучшее наслаждение состоит в том, чтобы стремиться умножить свои многочисленные табуны, чтобы они тучнели, чтобы установить на становище дворцовую юрту и пировать в ней и веселиться» [Лубсан Данзан, 1973, с. 208]. Наконец, согласно вышеупомянутому Джузджани, после покорения Хорезма Джучи сурово осудил политику своего отца, проявленную во время среднеазиатской кампании: «Чингиз-хан сошел с ума, что губит столько народа и разрушает столько царств» [СМИЗО, 1941, с. 14].
Вполне возможно, последнее высказывание является преувеличением (как и описанная Джузджани «мистерия хаоса» после взятия Ургенча), однако нельзя исключать, что Джучи мог себе позволить некоторую несдержанность в оценках своего отца, тем более что и Чингис-хану приписывается фраза, которую он якобы произнес, будучи выведенным из себя своеволием первенца: «Я его казню, не видать ему милости» [Рашид ад-Дин, 1960, с. 79].
Вряд ли следует принимать всерьез подобные высказывания, учитывая, насколько основатель Монгольской империи выделял своего старшего сына. Джучи не только первым получил улус после покорения «лесных народов», но и стал обладателем самых обширных владений при разделе их Чингис-ханом между сыновьями и родичами после завоевания Хорезма. В.В. Трепавлов совершенно обоснованно рассматривает Джучи как официального соправителя отца в отношении «западных улусов», хотя позволим себе не согласиться с тем, что первенец уже при жизни мог носить титул их «старшего хана». На это указывает упоминание Джучи в источниках под разными титулами: Джувейни именует его «улус-иди», т. е. «правитель улуса» [Джувейни, 2004, с. 57, 557], Лубсан Данзан – «наместником» или «даругачи кипчаков» [Лубсан Данзан, 1973, с. 229, 230] (см. также: [Ускенбай, 2013, с. 54]), составители «Юань ши» – «циньваном запада» [Золотая Орда…, 2009, с. 221].
Особенности политической позиции Джучи не были секретом для Чингис-хана и других его сыновей. Это подтверждается, в частности, тем, что в перерывах между своими военными кампаниями основатель Монгольской империи поручал первенцу не какие-либо военные миссии, а организацию охоты – об этом сообщают, в частности, Джувейни и Абуль-Гази [Абуль-Гази, 1996, с. 78, 79; Джувейни, 2004, с. 29] (см. также: [Бартольд, 1963, с. 452, 522]).
Напряженность в отношениях Джучи с отцом, выражавшаяся, в частности, в уклонении первенца Чингис-хана от участия в курултаях и прочих мероприятиях и постоянном пребывании его в своих новых владениях на последнем этапе жизни, о чем упоминает ряд тенденциозных источников и базирующихся на них исследований [Рашид ад-Дин, 1960, с. 78–79; СМИЗО, 1941, с. 14] (см. также: [Бартольд, 1963, с. 525, 531; Кычанов, 2001, с. 35; Темиргалиев, 2016, с. 142–143]), опровергается сообщениями других средневековых исторических сочинений. Так, Джувейни сообщает, что, когда Чингис-хан завершил свою хорезмскую кампанию и призвал к себе сыновей, Джучи, пребывавший в Дешт-и Кипчаке, немедленно откликнулся и прибыл к отцу [Джувейни, 2004, с. 94]. Абуль-Гази также упоминает, что вскоре после покорения Дешт-и Кипчака старший сын прибыл к отцу, пригнав в дар сорок тысяч лошадей [Абуль-Гази, 1996, с. 79] (см. также: [Ускенбай, 2013, с. 54–55]). Опровергаются источниками и неприязненные отношения Джучи с братьями. Так, Гетум (Гайтон) описывает, как Чагатай, потеряв немало людей на пути в Малую Индию, добрался до владений Джучи, который «из сочувствия к своему брату, из земель, которые он ранее приобрел, щедро предоставил часть ему и его людям» [Хаутала, 2019, с. 215] (возможно, впрочем, что это сообщение отражает претензии потомков Джучи на часть владений Чагатая во второй половине XIII в.: далее автор констатирует, что Барак, потомок Чагатая, «удерживает теперь домен Джучи»). В свою очередь, и Абуль-Гази упоминает, что во время визита к отцу Джучи «к своим младшим братьям показал полную и нежную привязанность» [Абуль-Гази, 1996, с. 79]. Думается, подобные детали также дополняют образ Джучи как взвешенного и разумного правителя, не желающего конфликтовать с кем бы то ни было при отсутствии серьезных оснований.
Вместе с тем, понимая, что Джучи может время от времени проявить излишнее миролюбие, Чингис-хан и другие члены рода старались контролировать его действия. Тот же Чагатай, по-видимому, совершенно не одобрял политической позиции старшего брата, поскольку в ответ на упреки отца (по поводу обвинения Джучи в незаконнорожденности) пообещал: «Вот и будем мы парою служить батюшке государю. И пусть каждый из нас руку по самое плечо отхватит тому, кто будет фальшивить, пусть ногу по жилам отхватит по самую голень тому, кто отставать станет» [Козин, 1941, с. 185–186]. Вероятно, этим он попытался намекнуть на то, что именно старший брат может «фальшивить» или «отставать» при выполнении приказаний отца в процессе расширения империи.
Источники неоднократно отмечают, что Чингис-хан, отправляя Джучи и в военные кампании, и для управления выделенным ему улусом, придавал ему собственных сподвижников [Козин, 1941, с. 177; Лубсан Данзан, 1973, с. 187, 230–233; Рашид ад-Дин, 1952б, с. 274]. Несомненно, это делалось не от недоверия (иначе вряд ли старший сын получил бы столь высокий статус в семейной и имперской иерархии), а именно с целью «корректировки» его политики, обеспечения более точного следования политической линии самого Чингис-хана. И, возможно, не без их влияния и участия Джучи выносил те самые суровые решения и приговоры, которые при других обстоятельствах постарался бы смягчить.
Таким образом, нужно отметить, что, хотя Джучи и не успел в полной мере проявить себя как полноценный правитель собственного улуса, его действия на пути становления в этом качестве все же позволяют сделать определенные выводы о практикуемых им методах управления и решения конфликтов. Основу этих методов составляло намерение решать дело прежде всего мирным, дипломатическим путем, искать компромиссы с многочисленными подданными из числа разных народов, языков и религий. Вместе с тем при невозможности применения этой методики старший сын Чингис-хана не колебался в принятии суровых решений в отношении нарушителей законодательства Монгольской империи и карал их по всей строгости имперского права. Анализ деятельности его потомков и преемников – золотоордынских ханов – показывает, что наиболее значительные из них во многом следовали политике, начало которой было положено именно основателем Улуса Джучи.
Проанализированные примеры из военного и государственного опыта Джучи, думается, могут дополнить наши представления об особенностях реализации правосудия чингисидскими правителями имперского периода в специфических условиях военного времени, тем самым расширяя знания о различных видах и формах суда и процесса в Монгольской империи и ее государствах-наследниках.
§ 4. Правосудие для всех: судебная практика хана Угедэя
Как мы убедились, начало формирования «ханского правосудия», т. е. появление у хана прерогатив высшей судебной инстанции с правом вынесения решения на основе собственного усмотрения в Монгольской империи, было связано с деятельностью ее основателя – Чингис-хана, причем еще до того, как он официально провозгласил себя правителем этого государства. Однако нельзя не согласиться с мнением исследователей о том, что в рамках организации судебной деятельности в Монгольской империи Чингис-хан лишь назначил главного судью – нойона Шихи-Хутага, тогда как никакой системы судебных учреждений, равно как и правового обеспечения судебной деятельности, им создано не было. Суд продолжал находиться в ведении родо-племенных предводителей, религиозных и городских общин [Вернадский, 1999, с. 132; Рязановский, 1931, с. 304; Скрынникова, 2002, с. 164–165, 171–172]. Кроме того, судебные полномочия оказались у монгольских военачальников, которые, став по воле Чингис-хана наместниками завоеванных территорий, постоянно злоупотребляли этими полномочиями: согласно китайским источникам, ко времени вступления на престол Угедэя, сына и наследника Чингис-хана, «местные правители своевластно располагали жизнью и смертью. За оскорбление мстили мечом и оковами, отчего иногда целые семейства подвергались несчастью» [Бичурин, 2005, с. 112].
Представляется, что именно во время правления Угедэя (1229–1241) судебная система Монгольской империи стала формироваться и базироваться на тех принципах, которые и обеспечили эффективность ее действия не только в империи, но и в государствах, впоследствии выделившихся из ее состава. Ниже предпринимается попытка проанализировать судебную практику хана («каана») Угедэя и выявить базовые институты и принципы монгольского имперского процессуального права.
Основными источниками наших знаний о деятельности Угедэя в судебной сфере являются средневековые исторические памятники. В упомянутой династийной истории «Юань ши», а также в надписи на могиле Елюя Чуцая, канцлера при дворе Угедэя, приводятся сведения об основных направлениях судебной политики этого хана. Наиболее подробные сведения о конкретных судебных делах, разбиравшихся Угедэем, содержатся в сочинениях персидских авторов – «Истории завоевателя мира» Алла ад-Дина Ата-Малика Джувейни и «Сборнике летописей» Рашид ад-Дина, причем второй из них, по мнению исследователей, практически полностью опирался на сведения первого при передаче этой информации [Бира, 1978, с. 151]. Некоторые дополнительные сведения о суде в эпоху Угедэя можно обнаружить, в частности, в «Кратких известиях о черных татарах», составленных Пэн Да-я и Сюй Тином, послами китайской империи Сун, которые побывали в Монгольской империи соответственно в 1233 и 1235 гг., т. е. в середине правления Угедэя. Определенного внимания заслуживают отдельные сообщения более поздних памятников историографии – например, монгольские исторические хроники XVII–XIX вв., в которых образ Угедэя претерпел существенную эволюцию по сравнению с источниками XIII–XIV вв., а также «История Небесной империи», представляющая собой переработку сведений «Юань ши», предпринятую по приказу маньчжурских властей династии Цин в первой половине XVII в.
Итак, Угедэй, вступив на престол, в качестве повелителя Монгольской империи также унаследовал, с одной стороны, прерогативы верховного судьи, с другой же – проблемы с реализацией правосудия в своих обширных владениях. Необходимость реформирования судебной деятельности была им осознана на первом же году правления, уже в 1230 г. Елюй Чуцай, советник, «унаследованный» Угедэем от Чингис-хана и вскоре назначенный новым монархом на пост канцлера, проанализировав ряд судебных дел, сформулировал базовые принципы организации правосудия, включая подсудность дел различных категорий. В первую очередь речь шла о преступлениях против государства и порядка управления, а также о должностных преступлениях. В частности, он рекомендовал предавать суду за произвольное введение наместниками налогов, за предоставление и принятие в залог казенных вещей, за злостное уклонение от уплаты налогов и т. д. [Бичурин, 2005, с. 151; История…, 2011, с. 56–57]. Согласно Пэн Да-я и Сюй Тину, хан Угедэй весьма ответственно относился к собственной роли верховного судьи и лично разбирал многие дела, в отдельных случаях советуясь с членами рода Чингис-хана, но никогда не передоверяя судебные обязанности своим китайским чиновникам [Золотая Орда…, 2009, с. 43]. В связи с этим сосредоточимся на конкретных судебных делах, разобранных Угедэем, чтобы выявить заложенные им принципы ханского правосудия и организации процессуальной деятельности.
Сразу следует отметить, что многие решения Угедэя, изложенные Джувейни и Рашид ад-Дином, в значительной степени носят характер назидательных рассказов, подчеркивающих образ наследника Чингис-хана как идеального монарха – справедливого, великодушного и щедрого. Более того, в ряде случаев они представляют собой «кочующие сюжеты», которые в разное время приписывались правителям тех или иных государств и эпох. Тем не менее ряд казусов представляется отражением реальных политико-правовых и социально-экономических условий развития Монгольской империи в правление Угедэя и, соответственно, позволяет решить поставленные нами задачи по реконструкции суда и процесса рассматриваемого периода.
Большинство казусов связаны с разбирательством дел либо новых подданных Монгольской империи, не принадлежавших к монголам и кочевникам, либо иностранцев, и, как правило, обычно решение хана Угедэя состояло либо в прощении им долга, либо в вознаграждении, причем существенно превышавшем ту сумму, на которую сами они рассчитывали. Несомненно, подобные решения прежде всего отражали интерес Угедэя к развитию торговли в своих владениях, расширению товарно-денежных отношений между своими подданными различных национальностей и родов деятельности. Не случайно именно в правление Угедэя начинается массовая чеканка монгольской золотой и серебряной монеты, что дает основание исследователям даже говорить о проведении этим ханом денежной реформы [Петров, Белтенов, 2015]. Тем не менее в ряде казусов присутствуют любопытные нюансы, которые представляют интерес с точки зрения истории судебного процесса в Монгольской империи.