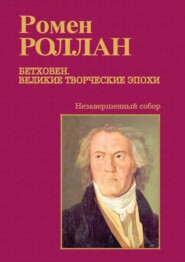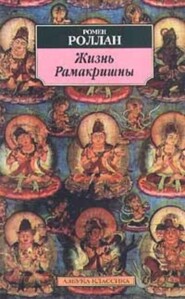По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Очарованная душа
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она уехала наутро. Предлогом было письмо, внезапная болезнь какой-то престарелой родственницы. Но Бриссо нельзя было провести. Они все видели лучше Рожэ и последнее время подозревали, что упустят Аннету. Но им приличествовало не показывать вида, будто они допускают такую возможность, и прикинуться, будто отъезд не вызывает у них никаких сомнений. До последней минуты разыгрывался фарс на сюжет нежданной разлуки и скорой встречи. Аннете была тяжела эта вынужденная роль, но Рожэ попросил ее объявить о своем решении попозже, написать из Парижа. И Аннета созналась себе, что ей было бы очень неприятно сообщить семейству Бриссо о нем устно. Потому-то, расставаясь, они улыбались, разговаривали с искусственным оживлением, обнимались, но не было во всем этом сердечности.
Снова Рожэ вез Аннету в шарабане, но теперь уже на станцию. Обоим было грустно; Рожэ, как подобает порядочному человеку, снова просил ее выйти за него замуж; сказал, что обязан жениться на ней, – ведь он был джентльмен. Джентльменского в нем было даже слишком много. Уж теперь, по его мнению, он был вправе показать Аннете свою власть, на благо ей самой. Он считал, что Аннета, отдавшись ему, потеряла чувство собственного достоинства, что отныне положение их не совсем одинаково и что он должен настаивать на браке. Аннета отлично понимала, что если они теперь поженятся, то он найдет себе в тысячу раз больше оправданий, чем прежде, лишая ее самостоятельности. Конечно, она была признательна ему за то, что он так настойчив, тактичен. Но… она отказала ему… Рожэ втайне негодовал. Не мог понять ее. (Он воображал, что прежде понимал!) И строго ее осудил. Но себя не выдал. Она все подметила со смешанным чувством печали, иронии и, как всегда, нежности. (Ведь во всем этом был Рожэ!).
Когда подъезжали к станции, она положила руку, затянутую в перчатку, на руку Рожэ. Он вздрогнул.
– Аннета!
– Простим друг другу! – сказала она.
Он хотел ответить, но не мог. Они не разнимали рук. И не смотрели друг на друга. Но они сдерживали слезы, набегавшие на глаза, и оба знали об этом…
Приехали на станцию – надо было следить за собой. Рожэ усадил Аннету в вагон. В купе были люди. Пришлось ограничиться обычными любезностями, но они не могли наглядеться друг на друга – хотелось запечатлеть в памяти милое лицо.
Паровоз свистнул. Они сказали:
– До свидания! А подумали:
«Прощай навеки!»
Поезд ушел. Рожэ возвращался домой под вечер! Он был опечален и сердит. Сердит на Аннету. Сердит на себя. Его мучила тоска. Он испытывал – о стыд! – чувство облегчения.
Он остановил лошадь на пустынной дороге и, изнемогая от презрения к себе, от презрения и от любви к себе, горько заплакал.
Аннета возвратилась домой в Булонский лес и стала жить затворницей.
Письмо к Бриссо ушло, и она порвала связь с миром. Никто из друзей не знал, что она вернулась. Писем она не распечатывала. Целыми днями не выходила из квартиры. Старая тетка никогда не понимала ее и, привыкнув ко всему, ничуть не тревожилась и не нарушала ее уединения. Жизнь внешне словно прекратилась. Зато другая – внутренняя жизнь – стала еще напряженнее. В безмолвии порой неистовствовала раненая страсть. Аннете нужно было остаться одной, чтобы жить только ею. После бурных вспышек она чувствовала себя надломленной, обескровленной; губы пересыхали, лицо пылало, руки и ноги леденели. Потом она надолго впадала в оцепенение, грезила в тяжелом полусне. Грезила она наяву и не пыталась руководить своими мыслями. Ею овладели какие-то смутные ощущения, и не было им числа…
Мрачная печаль, горькая нежность, привкус пепла во рту, несбыточные мечты, внезапно вспыхнувший луч воспоминаний, от которого сердце готово было выпрыгнуть из груди, приступы уныния, муки уязвленной гордости и страсти, предчувствие гибели, ощущение чего-то непоправимого, рокового, против чего тщетны все усилия, – все это сначала подавляло, потом стало просто навевать тоску, потом понемногу вылилось в какое-то безразличие, окрашенное уходящей печалью, и в ней было что-то удивительно приятное.
Она не понимала, что с ней…
Как-то ей приснилось, что она в лесу, отягченном набухшими почками.
Будто она совсем одна. Она бежала по лесной чаще. Ветки цеплялись за ее платье; не пускал мокрый кустарник; вот она вырвалась, но разорвала платье, ей стыдно – ведь она полуголая. Нагнулась, прикрылась юбкой, разодранной в клочья. И вот она видит: перед ней на земле круглая корзина, под грудой листьев, освещенных солнцем, – не желтых и не золотых, а серебристых, белых, как кора березы, белых, как тонкое-претонкое полотно.
Она взволнованно всматривается, опускается на колени. Вдруг под полотном что-то шевельнулось. Сердце у нее колотится, она протягивает руки – и просыпается… Волнение не утихло… Она не могла понять, что с ней…
Настал день, когда она поняла все. Больше она не была одинока. В ней пробуждалась жизнь, новая жизнь…
Шли недели, а она вынашивала в себе целую вселенную.
«… Любовь, ты ли это? Любовь, покинувшая меня в тот час, когда я вообразила, будто овладела тобою, не ты ли сейчас во мне? Крепко-прекрепко я держу тебя, и ты не уйдешь, о родной мой пленник, крепко держу я тебя, ты – в моем чреве. Мсти! Поглоти меня! Крошка моя, грызи мое чрево! Пей мою кровь! Ты – это я. Ты – моя мечта. На земле я тебя не нашла и создала тебя из самой себя… Вот когда, Любовь, я завладела тобой! Я воплотилась в того, кого люблю!..»
КНИГА ВТОРАЯ
ЛЕТО
То strive, to seek, not to sinct, and not to yield.
Стремиться, искать, не находить, но и не сдаваться.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
В комнате с прикрытыми ставнями царил полумрак. Аннета в белом пеньюаре сидела на кровати, ее только что вымытые волосы были распущены по плечам. В открытое окно вливался послеполуденный жар золотого августовского дня. Здесь словно чувствовалось сонное оцепенение Булонского леса, дремавшего на солнце где-то за окнами. И Аннета испытывала такое же состояние тихого блаженства. Она способна была часами лежать, не двигаясь, ни о чем не думая, не чувствуя потребности о чем-нибудь думать. Ей было достаточно сознания, что она не одна, что теперь их двое, и она даже не пыталась разговаривать с тем крохотным человечком, который жил в ней, – она была уверена, что он чувствует то же, что и она, и, значит, они без слов понимают друг друга. При мысли о нем волна нежности поднималась в ней. Потом, сонно улыбаясь, Аннета снова погружалась в свое блаженное забытье.
Но в то время как душа дремала, ощущения сохраняли удивительную остроту, мгновенно отзываясь на тончайшие вибрации воздуха и света. Вот из сада повеяло сладким ароматом клубники – и Аннета уже с наслаждением вдыхает его, ощущает вкус ягод на языке. От ее слуха не ускользает ни один звук, и все тешит его – шелест листьев, тронутых ветерком, скрип песка под чьей-то ногой, голос на улице, звон колокола, зовущего к вечерне. Вдали, как огромный муравейник, гудит Париж. Париж 1900 года…
Лето всемирной выставки. Марсово поле напоминало огромный чан, в котором бродят на солнце тысячи гроздей человеческого винограда… Это чудовищное кипение было настолько близко, что Аннета слышала и ощущала его, и вместе с тем достаточно далеко, так что она чувствовала себя в безопасности и еще больше наслаждалась прохладой и мирной тишиной своего уголка. «О суета сует! Истинное счастье здесь, внутри меня!..»
Рассеянным и чутким, как у кошки, ухом Аннета ловила один за другим все звуки и лениво следила, как они замирают. Вот внизу у входной двери звякнул звонок, и она узнала мелкие шажки Сильвии, которая, как всегда, не шла, а взбегала по лестнице. Аннете хотелось быть одной. Но счастье ее было так прочно, что она знала: кто бы ни пришел, он ничем не сможет омрачить его.
Сильвия узнала новость только неделю назад. Она с весны не имела от Аннеты никаких вестей. Занятая своим новым романом, хотя и не очень глубоко волновавшим ее, она не замечала долгого молчания Аннеты. Когда же с романом было покончено и он уже не занимал ее мыслей, у Сильвии нашлось время подумать о сестре, и она забеспокоилась. Решив справиться у тетки, что с Аннетой, она пошла в их дом на Булонской набережной и была очень удивлена, узнав, что Аннета вернулась – и так давно! Она хотела было хорошенько разбранить сестру за невнимание, но Аннета приготовила ей еще и другой сюрприз: скрывая волнение, она сразу рассказала Сильвии все без утайки. Сильвии стоило больших усилий дослушать до конца. Как! Аннета, благоразумная Аннета могла сделать такую глупость, да еще потом отказалась выйти замуж, – нет, это неслыханно, этого нельзя допустить! Новоявленная Лукреция была возмущена. Она накинулась на Аннету, назвала ее сумасшедшей. Аннета отнеслась к этому спокойно и кротко. Было ясно, что ее ничем не проймешь. Сильвия видела, что с этой упрямицей ей не сладить.
Она готова была ее прибить! Но можно ли было долго сердиться на эту милую девушку, которая слушала ее с обезоруживающей улыбкой! И потом – тайное очарование материнства…
Сильвия кляла это материнство как несчастье, но она была женщина, и оно вызывало в ней невольное умиление…
Однако она и сегодня пришла с твердым намерением «расшевелить» Аннету, сломить наконец ее нелепое упорство, заставить ее потребовать брака, а иначе… «иначе я рассержусь!» Она вихрем влетела в комнату. От нее пахло порохом и рисовой пудрой. И, так сказать, для разбега, не успев даже поздороваться с Аннетой, она стала ругать «сумасбродов, которые проводят дни взаперти в темной комнате». Но, вглядевшись в счастливые глаза Аннеты, которая протянула ей обе руки, Сильвия не выдержала и поцеловала сестру. Впрочем, она и после этого продолжала ее бранить:
– С ума сошла! С ума сошла! Совсем спятила! Полюбуйтесь на нее: распустила волосы, нарядилась в белое платье – ангел да и только… Вот ошибется, кто этому поверит!.. Хороша недотрога! Дрянная девчонка!..
Она трясла Аннету за плечи. А та с усталым и довольным видом терпеливо сносила все. Сильвия вдруг замолчала, не докончив тирады, взяла сестру обеими руками за голову, откинула ей волосы со лба:
– Смотрите, свежа, как роза! Никогда еще у нее не было такого чудесного цвета лица. И какой победоносный вид! Есть чему радоваться! И тебе не стыдно?
– Ни капельки! – ответила Аннета. – Я никогда еще не была так счастлива. Я чувствую в себе столько сил, мне так хорошо! Только теперь жизнь моя полна, и ничего мне больше не нужно. Мне так давно хотелось иметь ребенка – еще тогда, когда я сама была ребенком. Да, мне и семи лет не было, а я уже мечтала об этом.
– Врешь! – возразила Сильвия. – Не далее, как полгода назад ты говорила мне, что никогда не чувствовала призвания к материнству.
– Неужели? Я так говорила? – в замешательстве спросила Аннета. – Ах да, да, правда!.. Ну что же, я и тогда не лгала и теперь не лгу… Как бы тебе объяснить? Я не выдумываю. Я это хорошо помню.
– Знаю, и со мной так бывает, – заметила Сильвия. – Всякий раз, как мне кто-нибудь приглянется, я начинаю воображать, что всю жизнь только о таком и мечтала.
Аннета недовольно поморщилась.
– Нет, ты не понимаешь! Во мне заговорила теперь моя подлинная душа.
И мне всегда нужно было именно это, только я не смела себе признаться, пока не пришло время: боялась обмануться. А теперь… О, теперь я вижу, что это еще чудеснее, чем я ожидала!.. И в нем я нашла себя, всю целиком. Я ничего больше не хочу…
– Когда тебе нужен был Рожэ или Туллио, ты тоже ничего больше не хотела, – язвительно заметила Сильвия.
– Ах, ты ничего, ничего не понимаешь!.. Разве можно сравнивать? Когда я любила (ведь вы называете это любовью), не я хотела, а что-то во мне, чему я должна была покоряться… И как же я страдала от этой силы, которая мною завладела, которой я не могла противиться! Сколько раз я молила бога освободить меня! И вот в самом деле пришло избавление-это он, он, мой малышечка, пришел мне на помощь, когда я билась в тисках той муки, которую называют любовью. Он пришел и спас меня… Ох ты, мой маленький спаситель!..
Сильвия расхохоталась. Она ровно ничего не поняла из объяснений сестры. Но одно ей было понятно и без объяснений: материнский инстинкт, проснувшийся в Аннете. И это сближало сестер. Они принялись с умилением болтать о маленьком незнакомце (кто это будет, мальчик или девочка?) и о тысяче вещей, пустячных и в то же время таких важных, связанных с его появлением на свет, – вещей, о которых женщины никогда не устают говорить.
Так сестры разговаривали долго, пока Сильвия не спохватилась, что она пришла собственно затем, чтобы как следует отчитать Аннету, а вовсе не подпевать ей. И она сказала:
– Аннета, будет тебе дурить! Всему свое время. Рожэ обязан жениться на тебе. И ты должна этого потребовать.