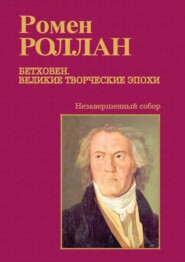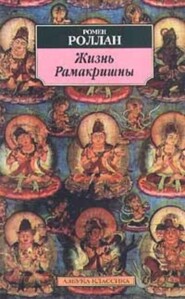По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Очарованная душа
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Недалеко от ее дома был оборудован временный (ох, и злосчастное же это было время!) госпиталь. Верденская бойня извергала раненых. Тела мучеников уже некуда было сваливать. Впервые маленький забытый городок получал свою долю этого груза. И в первый же раз ему прислали немцев!
В городе до войны не было порядочной больницы даже для старых инвалидов труда или безделья (в конечном счете все они идут в одну и ту же кучу хлама!). Их запихивали в тесные, душные, полусгнившие здания, где столетиями наслаивались грязь и зараза. Ни больные, ни врачи этим не смущались. Дело привычное… Но вот с началом «прогресса» (то есть войны) в воздухе стали носиться новые идеи (или, вернее, слова): гигиена, антисептика… Решили, плодя смерть, все-таки поставить ее в гигиенические условия. В новом госпитале – бывшем пансионе – навели лоск на грязь, к запаху плесени прибавили запах фенола, классные комнаты оборудовали по рецепту Амбруаза Парэ и снабдили новое учреждение ванной – большая редкость!..
Слишком роскошная обновка для немцев!.. Городок зашумел. Он перенес тяжелые испытания. За последние месяцы в боях полегло много молодежи из этого края. Почти не было семьи, где не носили бы траур по близким. Горе всколыхнуло жителей городка, их привычное равнодушие сменилось ожесточением. Даже среди больничного персонала произошел раскол, и часть его хотела отказаться от ухода за врагом. По рукам ходила написанная в соответствующем духе петиция. Но эшелон раненых прибыл раньше, чем вышло решение. О его прибытии госпиталь уведомили, только когда эшелон был уже на месте. Весь городок высыпал на улицы при этом известии…
Несчастное стадо вытолкали с перрона. В несколько минут оно затопило привокзальную улицу – так заливает ливень сточную канаву. В обычное время это были безобидные, приветливые, равнодушные, грубоватые, незлобивые люди. Но в них тотчас же заговорили самые низменные инстинкты. О приближении процессии раненых можно было узнать издали по рычанию толпы. Вот они: две телеги, нагруженные живыми обломками; на носилках – прикрытые тряпьем тела, запрокинутые головы; у одного свешивалась рука, ногти царапали дорожную пыль. Впереди шла небольшая группа легкораненых, с забинтованными лицами или руками. В первом ряду – высокая и тощая фигура немецкого офицера. Затем немногочисленный конвой. Толпа кинулась наперерез с поднятыми кулаками – женщины со скрюченными, как когти, пальцами… Священное единение! Вместе с простонародьем бежали лавочники, буржуа и даже – в нескольких шагах – дамы из общества. Несчастные на мгновение остановились, но задние ряды напирали, подгоняли. Раненые приближались с выражением ужаса на лицах: они ждали, что их перебьют. В них полетели камни. Толпа ощетинилась палками, зонтиками. Раздались призывы к убийству, свистки. Разумеется, прежде всего обрушились на офицера.
Кто-то ударил его кулаком, чья-то рука, сорвав с него каску, швырнула ее наземь, какая-то женщина с визгом плюнула ему в лицо. Под ударами он зашатался.
Аннета ринулась вперед.
Она была уже в толпе, стоявшей в три ряда. Смотрела, ошеломленная.
Ничего не замышляла, ничего не желала. Да и не имела времени понять, что происходит в ней… Нагнув голову, расталкивая исступленных людей, которые мешали ей пройти, Аннета расчищала себе дорогу и протискивалась вперед. Они узнали, чего стоит кулак той, что носит фамилию Ривьер! И ее рык!.. Она подбежала к немецкому офицеру и, вскинув руки, обернувшись к толпе, завопила:
– Негодяи! И это французы! Эти два возгласа стегнули толпу, как два удара хлыста.
Не переводя дыхания, Аннета, продолжала:
– И это люди? Всякий раненый священен. Все, кто страдает, – это наши братья.
Ее голос, ее руки приковали к себе внимание толпы. Она обводила всех неистовым взглядом, который был точно удар в лоб. Толпа отхлынула, рыча.
Аннета нагнулась поднять каску офицера. Этого мгновения было достаточно, чтобы порвать ее связь с окружающими. Поостывшая было злоба опять накалилась: казалось, вот-вот толпа вцепится в горло Аннете… В это время молодая женщина в костюме сестры милосердия подошла к ней и произнесла тихим, но твердым голосом:
– Эта женщина говорит, как подобает всякому порядочному человеку. Раненые враги находятся под защитой Франции. Неуважение к ним – это неуважение к Франции.
Ее знали все. Она принадлежала к одному из самых влиятельных в том краю аристократических семейств Муж ее, офицер, недавно пал под Верденом. Ее вмешательство решило дело. К ней подошли еще две дамы, тоже сестры милосердия. Два-три человека из местных буржуа поспешили призвать толпу к спокойствию. Та самая женщина, которая только что плевала в лицо пленным, стала громко причитать над раненым солдатом. Ворчавшая толпа раздалась и пропустила весь эшелон во главе с молодой вдовой и Аннетой, взявшей за локоть едва державшегося на ногах офицера.
До госпиталя дошли благополучно. А там уже заговорили профессиональный долг и человечность. Но из-за кутерьмы, которая поднялась в первые часы по прибытии раненых и еще усилилась потому, что не хватало санитаров (колеблющиеся вернулись один за другим в течение ночи), оставшиеся на месте оказались перегруженными работой, и Аннета, на которую никто не обращал внимания, пробыла в госпитале до полуночи. С помощью только что бесновавшейся фурии, буйной особы, которая оказалась предобродушной кумушкой, устыдившейся своей свирепой выходки и старавшейся загладить ее, Аннета раздела и обмыла раненых. Один из этих несчастных был признан безнадежным, оперировать его уже не имело смысла, и Аннета провела с ним последние часы.
Это был смуглый юноша, тщедушный и нервный: полусемитского, полулатинского типа, характерного для побережья Рейна. Рана – страшная. Открытый живот… «Jam foetebat».[66 - Уже смердел (лет.).] В ране уже копошились черви. Все его тело содрогалось, он стискивал зубы, но по временам протяжно стонал.
Глаза его то смыкались, то снова открывались, ища какой-нибудь предмет, какое-нибудь существо, что-нибудь живое, точку опоры, за которую он мог бы ухватиться на краю бездны. Они встретились с глазами Аннеты и впились в них… В эти глаза, горевшие состраданием… О, какой нежданный свет среди мучений! Захлебнувшаяся надежда поднялась со дна. Он крикнул:
– Hilfe![67 - Помогите! (нем.)] Аннета наклонилась и подсунула руку под приподнявшуюся голову. Она зашептала ему на ухо по-немецки нежные слова. На его сухую горячую кожу они упали как дождевые капли. Он ухватился за другую ее руку и вдавил в нее пальцы. В ее теле отдавалось каждое содрогание умирающего. Она вливала в него терпение. Мужественный юноша затаивал дыхание, стараясь подавить крик. Он все стискивал руку, державшую его над пропастью. В эту пропасть он погружался все глубже, а глаза Аннеты все ярче сияли нежностью. Она говорила:
– Sonchen! Knabelein! Mein armer lieber Kleine!...[68 - Сыночек! Мальчик! Бедное, милое дитя! (нем.)]
Тело его содрогнулось в последний раз. Юноша открыл рот, чтобы позвать ее. Аннета поцеловала его. И не отняла руки, которая сжимала его вздрагивающие пальцы, пока не увидела, что он отмучился.
Аннета ушла. Было три часа ночи. Ледяной туман. Угасшее небо. Безлюдные улицы. Нетопленая комната. Она не ложилась до света. Весь ужас мира был теперь сосредоточен в ней. Сердце было полно скорби. И все-таки Аннете дышалось легче. Она снова обрела свое место в трагедии человечества.
Все, что душило Аннету, отошло. Она сбросила тяжелую ношу движением плеча. И только теперь, видя ее у своих ног, поняла, что ее душило…
Она лгала. Лгала себе. Пряталась от собственного взгляда. Не смела смотреть в лицо чудовищным идеям, давившим ее. Безвольно соглашалась, что война неизбежна и нужно защищать отечество. Боязливо мирилась с оправданием войны как явления природы. И вдруг против этой дикой природы восстала ее собственная природа, отвергнутая и скованная, преданная и неутоленная природа, которая мстит за себя и вырывается на волю. Грудь Аннеты, сжатая жестокими тисками, сбрасывает их, дышит. И Аннета взывает к своему праву, к своему закону, к своей радости – а также к своему страданию, но к собственному страданию, к материнству.
Материнству всеобъемлющему. Она чувствует себя матерью не только своего сына!.. «Вы все – мои сыновья. Сыновья счастливые, несчастные, вы раздираете друг друга, но я обнимаю вас всех. Ваш первый сон, ваш последний сон я баюкаю в своих объятиях. Спите! Я ваша общая мать…»
Когда рассвело, она написала другой матери, матери умершего ребенка, которому она закрыла глаза. Ей Аннета передала последний поцелуй сына.
А затем вернулась к учебникам и тетрадям. И, не отдохнув, но со свежими силами и миром в сердце начала трудовой день.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Поступок Аннеты вызвал много толков. О нем заговорили в каждом доме.
Не будь он во всеуслышанье одобрен молодой г-жой де Марей, его решительно осудили бы. Но под влиянием ее заступничества кое-кто сменил гнев на милость. Многие были возмущены. И все затаили раздражение. Пусть даже правда на стороне этой женщины, все же трудно стерпеть, чтобы чужачка дала вам урок чести – и каким тоном!
Однако все споры умолкли, как только разнесся слух (в маленьком городе все узнается в какие-нибудь два-три часа), что г-жа де Марей на следующий день побывала у Аннеты и, не застав ее дома, пригласила к себе запиской. Аннета находилась под защитой. Обыватели заглушили в себе злобу до первого случая. Директор коллежа, вызвав г-жу Ривьер, удовольствовался скромным увещанием: никто, мол, не сомневается в ее патриотизме, но пусть она воздержится выказывать его extra muros.[69 - Здесь – публично (лат.).] Следует исполнять свой долг в должное время и в должной форме. Ne quid nimis!...[70 - Не нарушай меры (лат.).]
He успела Аннета открыть рот для отповеди директору, как он поклонился и остановил ее приветливым жестом: «Это не выговор: это только совет!..»
Но Аннета знала, что совет начальника – это первый сигнал.
В данную минуту ей оставалось только снова надеть на себя ошейник и вернуться в свою конуру. То, что она обязана была сделать, было сделано.
Завтрашний день подскажет ей завтрашний долг. Но сегодняшний день избавил ее от необходимости выбора между двумя велениями долга. Когда она снова явилась в госпиталь, дверь перед ней оказалась закрытой. Вышел приказ не пускать в палаты посторонних, то есть тех, кто не состоял в двух местных организациях – Красного Креста и Союза французских женщин (кстати сказать, враждовавших как кошка с собакой). Впоследствии Аннета узнала, что новый приказ был направлен против нее.
Хотя Аннета со своей жаждой служения людям и очутилась перед запертой дверью, но перед ней тут же открылась другая: за ее порогом она нашла возможность утолить свою новую потребность – в материнстве. И никто не мог предвидеть опасные пути, на которые толкнули Аннету обязательства, наложенные на нее обновленной совестью.
При первом же свидании Аннеты с г-жой де Марей молодая вдова засвидетельствовала ей свое глубокое уважение – не меняя, впрочем, своего сдержанного, с холодком, тона, – и сказала, что один из ее зятьев, тяжело раненный и лечащийся дома, выразил желание встретиться с г-жой Ривьер.
Аннета тотчас же приняла это приглашение.
Жермен Шаванн состоял в родстве с г-жой де Марей, урожденной Сейжи; его сестра вышла замуж за одного из братьев Сейжи. Обе семьи поддерживали тесную связь, основанную на общих деловых интересах и взаимной симпатии. Обе очень давно пустили корни в том краю. Их земли соприкасались.
Взгляды же расходились скорее по форме, чем по содержанию. Шаванны держались республиканских взглядов довольно неопределенного оттенка: их красный цвет – и в самом-то начале весьма умеренных тонов – постепенно вылинял; остался розовый тон, и если он еще не перешел в белый, то, во всяком случае, приятно оттенял его. Богатство, честно нажитое и прочное, немало способствовало тому, что межи, скорее отграничивавшие, чем разделявшие владения двух семейств, почти стерлись. (Во все времена и в любом месте собственность всегда тяготеет к собственности.) Любовь к земле, которой они сами управляли, – им принадлежало десятка два ферм, рассыпавшихся по округе, точно выводок цыплят, – привязанность к своему краю и культ порядка, наполовину, если не целиком, заменяющий религию (конечно, мы имеем в виду религию Рима, единственную, которая является на Западе мощной силой порядка), – все эти характерные черты были у Шаваннов общим с де Марей, де Тезэ, де Сейжи и с мелкопоместными дворянами; различий же осталось ровно столько, сколько необходимо, чтобы льстить самолюбие каждого; именно в этом видели они знак своего превосходства над соседом. Слабость, присущая всем людям… Де Сейжи и Шаванны были слишком хорошо воспитаны, чтобы обнаруживать сознание своего превосходства.
Надо хранить его в себе и тешиться им втайне.
То, что Аннета Ривьер была допущена в этот круг, могло вызвать вполне понятное удивление. Не у самой Аннеты – она не замечала социальных перегородок. Но у провинциального городка. Правда, пригласили ее только два члена семей Шаваннов и де Сейжи, волей обстоятельств наделенные у себя дома неоспоримыми правами: Луиза де Марей и Жермен Шаванн. Оба они с лихвой выплатили долг своему имени и отечеству. И оба были в своей среде исключением. Аннета очень скоро в этом убедилась.
Дом Шаваннов, старинное серое здание, стоял на извилистой улице, у подножия собора. Он был окутан тишиной, нарушаемой лишь печальным перезвоном колоколов да криками грачей. Войдя в узкие ворота из полированного дуба с ярко начищенной оковкой, – на фоне пыльного фасада она одна сверкала холодным блеском, – надо было пересечь на пути к главному зданию выложенный плитами двор. Комнаты выходили окнами на этот обнесенный четырьмя серыми стенами двор – двор без сада, без единого стебелька травы.
Можно подумать, что провинциальные буржуа, вернувшись в город после долгого пребывания на деревенском приволье, стараются так закупорить себя, чтобы природа не нашла к ним доступа. Обычно Шаванны приезжали сюда только на зимние месяцы, но события, война, обязанность участвовать во всех общественных начинаниях, болезнь сына вынуждали их жить в городе, пока будущее не примет более ясных очертаний…
В то время семья состояла почти исключительно из женщин. Отец умер.
Все здоровые мужчины, сыновья и зятья, находились на фронте. Дома был лишь семилетний мальчик, сын молодой г-жи Шаванн де Сейжи; сплющив нос об оконное стекло, изнывая от скуки, он следил, не откроется ли входная дверь, не войдет ли какой-нибудь редкий посетитель, или дремал под колокольный звон, под крики грачей. Ему виделись знамена, траншеи, могилы…
Он первый встретился Аннете, когда она вошла в дом. И впоследствии, приходя сюда, она каждый раз встречала ребенка с жадными, скучающими глазами; дотронувшись до нее, он исчезал.
Полумрак окутывал комнату второго этажа с высоким потолком и вместительным альковом. Молодой человек, расположившийся у единственного окна, через которое проникал свет серенького ноябрьского дня, встал с кресла, чтобы поздороваться с г-жой де Марей и гостьей, которую она представила ему. Но хотя при входе сразу рождалось ощущение, что здесь плетет свою паутину смерть, сумрак не затенял лица раненого. Это было одно из тех лиц, часто встречающихся в средней Франции, которые словно сотканы из света. Приятное лицо с правильными чертами, орлиным носом, красиво очерченным ртом, синими глазами и белокурой бородкой. Он улыбнулся Аннете, а невестку ласково поблагодарил взглядом.
Обменялись ничего не значащими фразами о здоровье и погоде, не переступая за рамки осторожного светского разговора. Но вскоре г-жа де Марей незаметно вышла.
Тогда Жермен Шаванн, быстро скользивший по лицу Аннеты своим проницательным взглядом и изучавший его, протянул ей руку и сказал: