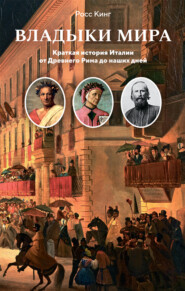По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Книготорговец из Флоренции
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Многое другое оскорбляло тонкую натуру Никколи. Письмо средневековых переписчиков с его угловатыми, плотно расположенными, часто налезающими одна на другую буквами было не только некрасиво, но и почти нечитаемо. Наряду с мечтой возродить неиспорченную латынь Цицерона и вернуть архитектуру к изящной и упорядоченной красоте древнеримских строений, у Никколи была мечта создать то, что Поджо, разделявший его устремления, называл «письмом, напоминающим античное»[23 - Two Renaissance Book Hunters. P. 93.], – аккуратное и пристойное начертание букв, какое, по мнению этих двоих, было в ходу у древних римлян. Многие манускрипты для своей библиотеки, в частности творения Цицерона, Лукреция и Авла Геллия, Никколи сам переписал своим отчетливым, с наклоном вперед, почерком. В этих манускриптах он, по словам Веспасиано, показал себя «великолепным переписчиком»[24 - Vespasiano da Bisticci. Vite di Uomini Illustri. P. 435.].
Образец отчетливого, с наклоном вперед, письма Никколо Никколи
Обедая за столом у Никколи, где на белоснежной скатерти стояли фарфоровые блюда и хрустальные кубки, слушая, как хозяин рассказывает о Брунеллески или спорит с другими гостями, кто из философов выше, Платон или Аристотель, а затем вместе с хозяином восторгаясь бесценными томами в библиотеке, юный Веспасиано наверняка понимал, что всего за год-два вступил в дивное, блистательное общество. То был, как он позже вздыхал, questo secolo aureo – «сей золотой век»[25 - Ibid. P. 295.].
Веспасиано напишет это много десятилетий спустя, когда уже давно не будет в живых Никколи, Поджо и других любителей премудрости, познакомивших его с чудесами древних манускриптов. В сей золотой век он лицезрел достижения флорентийских живописцев, ваятелей и зодчих, таких людей, как Брунеллески и Донателло, «чьи творения, – писал он, – все мы можем видеть своими глазами»[26 - Ibid. P. 2.]. И в то же время он десятилетиями наблюдал из своей лавки чудовищные потрясения: заговоры, эпидемии, войны, вторжения, а за пределами лавки – страшные убийства и мерзостные деяния «чрезмерной жестокости»[27 - Ibid. P. 340.]. Все эти бедствия превратили волшебный мир его воображаемой Флоренции в то, что он в отчаянии назвал «землей забвения»[28 - Vespasiano da Bisticci e il suo Epistolario. P. 162.].
Тем временем перемены происходили в ремесле самого Веспасиано. Пока король книготорговцев мира был в зените славы и делал для князей и пап роскошные манускрипты, написанные чернилами и пером, украшенные серебром и золотом, по другую сторону Альп, на берегах Рейна, немецкий ювелир Иоганн Гутенберг начал оттискивать на бумаге металлические буквы, превращая книги из рукописных в печатные, заменяя труд согбенного над пергаментом писца в механический типографский процесс, позволяющий воспроизводить тома знаний сотнями и тысячами. Начиналась новая эра.
Глава 2
Пречистый древний свет
Не только Веспасиано, но и многие другие флорентийцы считали, что их город переживает золотой век. «Я безмерно рад, что родился в это счастливое время», – писал стихотворец, появившийся на свет, когда Веспасиано начинал работать на улице Книготорговцев[29 - Ugolino Verino. To Andrea Alamanni: In Praise of Poets and on the Splendor of His Time // Images of Quattrocento Florence: Selected Writings in Literature, History, and Art. Ed. Stefano Ugo Baldassarri and Arielle Saiber. New Haven: Yale University Press, 2000. P. 93.]. Все соглашались, что Флоренция прекрасна, богата и полна даровитейшими людьми. «Превосходство указанного города достойно изумления, – писал друг Никколо Никколи, – и никакое красноречие ему не смогло бы соответствовать»[30 - Bruni Leonardo. Panegyric of Florence // Ibid. P. 40. Цит. в переводе И. Я. Эльфонд.]. Впрочем, это не мешало многим жителям Флоренции красочно ее расписывать. Они восхищались ее церквями и дворцами, чистыми улицами, четырьмя каменными мостами, перекинутыми через бурые воды Арно, величественными стенами с пятнадцатью воротами и восьмьюдесятью башнями. Они восхваляли процветающие окрестности, лежащие за этими стенами, богатые крестьянские хозяйства и сотни вилл на засаженных виноградниками склонах. «Взирающие на них не могут насладиться и насытиться зрелищем, – заключил друг Никколи. – Вся эта область справедливо называется неким раем, которому во всем мире ничего нет равного как по красоте, так и по радости»[31 - Там же. С. 173.].
Все это было заслугой самих флорентийцев. Многие считали, что их особая одаренность – наследие славных предков, древних римлян, основавших этот город около 80 года до н. э. Примерно в 1305 году Данте назвал Флоренцию «la bellissima e famosissima figlia di Roma» («прекрасной и славнейшей дочерью Рима»)[32 - Данте написал это в книге 1, главе 3 своего «Пира».]. Кое-какие следы римского происхождения сохранились – например, развалины акведуков, арок и театров, а также, как считалось, баптистерий (флорентийцы ошибочно полагали, будто это древний храм Марса, который первые христиане приспособили для своих целей). Впрочем, Флоренция была не так богата римскими руинами, как другие места в Италии, и флорентийцы могли бы утверждать, что римское наследие явственнее сохраняется в их нынешних достижениях, чем в крошащихся камнях.
Достижения эти были широко известны. Флорентийские банкиры и сукноторговцы с их конторами по всему миру, от Лондона до Константинополя, приносили городу неслыханные богатства. На эти деньги строились многочисленные дворцы и церкви, заказывались фрески и статуи для их украшения, на них же был возведен величественный собор, над которым в то время сооружали купол Брунеллески. Филиппо Брунеллески – типичный пример всепобеждающего гения, каких Флоренция словно бы без всяких усилий рождала в зодчестве, ваянии, живописи и литературе. «Сегодня, – писал один гордый флорентиец, обозревая городские красоты, – мы видим процветание искусств, которых не было в Италии десять веков» – то есть с падения Римской империи. «О мужи древности, – заключает он, – золотой век уступает времени, в котором мы живем сейчас»[33 - Ugolino Verino. To Andrea Alamanni. P. 94.].
В нашу эпоху золотой век флорентийского Кватроченто ассоциируется в общественном сознании с другим термином. Через столетие после рождения Веспасиано итальянские литераторы начали использовать для описания поразительного расцвета культуры слово rinascita, видя в успехах изобразительного и словесного искусства «возрождение» Античности, возвращение к жизни эстетических и моральных ценностей древних римлян и греков. В девятнадцатом веке это желание открыть более глубокое и богатое прошлое породило самый известный и устойчивый термин – в 1855 году историк Жюль Мишле назвал эту эпоху «La Renaissance». Французское слово для итальянского феномена могли бы позабыть, не войди оно в исключительно влиятельную книгу, изданную в 1860 году в Базеле: «Die Kultur der Renaissance in Italien» («Культура Ренессанса в Италии») Якоба Буркхардта. В 1878 году она вышла в английском переводе. Буркхардт, швейцарский профессор истории, провел в Риме зиму 1847/48-го. Здесь он прочел книгу, напечатанную со старого манускрипта, незадолго до того найденного итальянским кардиналом в библиотеке Ватикана, и впервые опубликованную в 1839 году под названием «Vit? CIII Virorum Illustrium», то есть «Жизнеописания 103 замечательных мужей». Автором труда, согласно издателю, был Веспасиано Фьорентино («Веспасиано флорентиец»), о котором в 1839 году почти ничего известно не было. В книге содержались биографии знаменитых мужчин (и одной женщины) пятнадцатого века – от пап, королей, герцогов и кардиналов до различных ученых и поэтов, включая Никколи и Поджо. Этих выдающихся личностей объединяло то, что Веспасиано всех их знал, а многие даже были его близкими друзьями и постоянными клиентами. Он утверждал, что, располагая «многочисленными о них сведениями», написал эти биографии, «дабы их слава не исчезла»[34 - Vespasiano da Bisticci. Vite di Uomini Illustri. P. 3. Анджело Маи опубликовал это сочинение как «Vitae CIII virorum illustrium, qui saeculo XV exiterunt». Еще десятки биографий были впоследствии обнаружены в других манускриптах.].
Находка манускрипта, в котором Веспасиано восславил золотой век Флоренции, имела далекоидущие последствия. Буркхардт приехал в Рим с целью обновить двухтомный учебник по истории искусств, написанный его бывшим учителем Францем Куглером. Однако прочитанные биографии изменили сферу его интересов: бурная интеллектуальная жизнь, о которой рассказал Веспасиано, теперь занимала Буркхардта больше изобразительных искусств, манускрипты и библиотеки – больше живописи и статуй. Что могло быть увлекательнее путешествия по столетию с таким проводником, как этот словоохотливый книготорговец, который со всеми накоротке и не прочь прихвастнуть знакомствами? Буркхардт назвал Веспасиано «первостепенным авторитетом во флорентийской культуре пятнадцатого века»[35 - Burckhardt Jacob. The Civilization of the Renaissance in Italy / Trans. S. G. C. Middlemore. Vienna: Phaidon Press, n.d. P. 306 (note 273).], поскольку его знания были почерпнуты из личного знакомства почти со всеми видными политиками и деятелями культуры на протяжении более чем полувека. Буркхардта захватило и вдохновило описание мира правителей, философов и прелатов, чьими стараниями возводились великолепные библиотеки и возрождались к жизни латинские и греческие труды, утерянные или забытые на века. Рассказы Веспасиано помогли ему проследить интеллектуальное развитие и достижения пятнадцатого века, «возрождение Античности», как он это назвал, сумевшее «покорить весь западный мир»[36 - Ibid. P. 89.].
Книга Буркхардта и сама покорила весь мир. Немного найдется исторических сочинений, способных помериться с ней славой. По словам нынешнего ученого, это «один из самых убедительных и вдохновенных трактатов в истории современной историографии, практически создавший „идею Ренессанса“»[37 - Howard Thomas Albert. Jacob Burckhardt, Religion, and the Historiography of «Crisis» and «Transition» // Journal of the History of Ideas. Vol. 60 (January 1999). P. 150.]. Блистательный трактат – вызывающий сегодня множество возражений – появился на свет в значительной мере благодаря книге Веспасиано, которая, по словам Буркхардта, была для него «бесконечно важна»[38 - Цит. по: Pastor Ludwig von. Tageb?cher – Briefe – Erinnerungen / Ed. Wilhelm W?hr. Heidelberg: F. H. Kerle, 1950. S. 275. Буркхардт рассказал о значении Веспасиано другому историку, Пастору, а тот записал его замечание в своем дневнике.].
Таким образом, биографии Веспасиано послужили созданию одного из самых знаменитых и любимых (пусть и временами обманчивых) нарративов: как открытие античных книг «возродило» угасающую цивилизацию. Как бы ни была эта история знакома в общих чертах – и как бы ни нуждалась в уточнениях, возрождение Античности в пятнадцатом веке ставит множество вопросов. Почему мудрость древних затерялась? Какими средствами и из каких источников ее вернули? Зачем христианские ученые вообще стали разыскивать языческие сочинения? И почему Веспасиано, молодой человек скромного происхождения, без особых перспектив и без образования, оказался так важен для этой истории?
Для Жюля Мишле Средневековье воистину было «эпохой отчаяния»[39 - Michelet Jules. The Witch of the Middle Ages / Trans. L. J. Trotter. London: Woodfall and Kinder, 1863. P. 9.]. Его ужас перед тем, что представлялось ему жалкими варварскими веками, наступившими после падения Римской империи в 476 году, во многом повторяет то отвращение, что за много столетий до него испытывал поэт и ученый Петрарка. Родившийся в 1304 году в Ареццо, в семье, изгнанной из Флоренции несколькими годами раньше, Петрарка сотни веков спустя был назван «первым современным человеком»[40 - Nolhac Pierre de. Pеtrarque e l’humanisme, 2 vols. Paris: Librairie Honorе Champion, 1907. Vol. 1. P. 2. Нолак приписывает эту фразу философу девятнадцатого века Эрнесту Ренану.]. Парадоксальным образом он представляется «современным» не потому, что смотрел вперед, а потому, что устремил взор на тысячу и более лет в прошлое, к античным авторам. Древнюю литературу Петрарка полюбил еще в детстве. Под кроватью он держал собрание латинской классики. Отец, узнав об этом, разгневался и бросил книги в огонь – «как еретические», вспоминал позже Петрарка. Впрочем, увидев отчаяние сына, Петрарка-старший «быстро схватил две книги, уже почти сгоревшие, и, держа в правой руке Вергилия, а в левой – „Риторику“ Цицерона, вручил мне обе»[41 - Petrarch: A Critical Guide to the Complete Works / Ed. Victoria Kirkham and Armando Maggi. Chicago: University of Chicago Press, 2009. P. 135.].
Всю дальнейшую жизнь Петрарка посвятил спасению того, что осталось от классических сочинений. Он был неутомимым путешественником и в 1330-х сновал между Италией и Францией, ездил во Фландрию, Брабант и Рейнскую область. Если по пути ему встречался монастырь, он останавливался и посещал библиотеку в надежде разыскать сокровища на затянутых паутиной полках. Он сделал множество поразительных открытий, пополнив свое собрание давно утраченными копиями таких авторов, как Цицерон, которым восхищался «столь же или даже больше, чем всеми, когда-либо написавшими хоть строчку»[42 - Petrarch. On His Own Ignorance // The Renaissance Philosophy of Man / Ed. Ernst Cassirer, Paul Oskar Kristeller, John Herman Randall. Chicago: University of Chicago Press, 1948. P. 115.]. Обнаружение этих текстов определило часть его плана: восстановить мир римской славы, угасшей в «темные века» – слова, которыми он назвал столетия после гибели Римской империи[43 - О Петрарке как авторе выражения «темные века» см.: Mommsen Theodor E. Petrarch’s Conception of the «Dark Ages» // Speculum. Vol. 17 (April 1942). P. 226–242.].
Петрарка (1304–1374): поэт, ученый, путешественник, охотник за манускриптами
На самом деле столетия после гибели Римской империи были вовсе не такими беспросветными, как полагал Петрарка (и многие после него, как, например, Мишле). Сейчас историки согласны, что для Европы годы с 1000-х по 1300-е – период, который традиционно называют «Высоким Средневековьем», – были временем относительного процветания и продуктивности. Набеги викингов и мадьяр прекратились, население росло, возникали новые города и селения, а также университеты в таких городах, как Болонья, Падуя, Саламанка и Оксфорд. Греческие научные трактаты – сочинения Птолемея, Гиппократа, Евклида – добрались до Запада в латинских переводах, как и все сохранившиеся труды Аристотеля. В Париже, Шартре и Реймсе возносились к небу шпили соборов; в последнем из них Герберт Аврилакский, будущий папа Сильвестр II, собрал обширную библиотеку античных авторов. Эти прекрасные новые церкви с их витражами и стрельчатыми арками, так непохожие на заброшенные античные руины, строились в стиле, известном как opus modernum, то есть «современная работа». И впрямь, к тринадцатому веку люди стали называть себя и свои труды modern, «современными», утверждая, что их культура выработала собственный уникальный стиль[44 - См.: Trapp Damasus. «Moderns» and «Modernists» in the MS Fribourg Cordeliers // Augustianum. Vol. 26 (July 1965). P. 241–270.].
В эти столетия изобрели ветряную и водяную мельницу, а также тяжелый плуг, лошадиный хомут и трехпольную систему севооборота. Новшества дали толчок «первой европейской промышленной революции» (как назвал ее историк Фернан Бродель)[45 - Braudel Fernand. Civilization and Capitalism, 15th–18th Century. Vol. 3: Perspective of the World / Trans. Si?n Reynolds. London: Fontana, 1984. P. 15–16.] и обеспечили едой растущее население, которое за Высокое Средневековье почти удвоилось – с тридцати восьми до семидесяти четырех миллионов. Торговле способствовало появление системы двойной бухгалтерской записи и международных заемных писем. Делопроизводство стало еще эффективнее, когда возникли бумажные мануфактуры: в Испании в одиннадцатом веке, во Франции в двенадцатом, в Италии в тринадцатом. Даже погода помогала: то было время, которое климатологи называют «Средневековым климатическим оптимумом», когда средние температуры в Северном полушарии были выше, чем в предшествующие и последующие столетия, – примерно такими же, как в конце двадцатого века[46 - Grove Jean M., Switsur Roy. Glacial Geological Evidence for the Medieval Warm Period // Climatic Change. Vol. 30 (1994). P. 1–27; Grove Jean M.. Little Ice Ages: Ancient and Modern. 2 vols. London: Routledge, 2004. Vol. 1. P. 401.].
Безрадостный взгляд Петрарки на недавнюю историю, без сомнения, определило то, что он жил в эпоху, которую историк назвала «злосчастным четырнадцатым веком»[47 - Tuchman Barbara. A Distant Mirror: The Calamitous 14th Century. New York: Alfred A. Knopf, 1978.]. Примерно во время рождения Петрарки, в начале 1300-х, восходящая кривая прогресса и процветания резко пошла вниз. Климат переменился: стало холоднее и ветреней, наступил так называемый «Малый ледниковый период»[48 - См.: Grove. Little Ice Ages: Ancient and Modern; Idem. The Onset of the «Little Ice Age» // History and Climate: Memories of the Future? / Ed. P. D. Jones et al. New York: Kluwer Academic / Plenum Publishers, 2001. P. 153–185.]. Ледники наступали, лили дожди, посевы гибли, а люди умирали – один только голод в 1347 году во Флоренции унес четыре тысячи жизней. Крах двух крупнейших банкирских домов Флоренции (Перуцци в 1343-м и Барди в 1346-м) из-за того, что английский король Эдуард III не вернул огромные деньги, взятые на дорогостоящую войну во Франции, привел к финансовому кризису. Сама война тянулась нескончаемо, как выразительно свидетельствует название, которое ей позже дали историки: Столетняя война. Ее битвы и осады прерывались регулярными вспышками чумы, не только Черной смертью 1348 года, уничтожившей по меньшей мере треть европейского населения, но и эпидемиями 1365, 1374, 1383, 1389 и 1400 годов.
Этот век характеризовался «яркостью и остротой жизни»[49 - Huizinga Jan. The Waning of the Middle Ages: A Study of the Forms of Life, Thought and Art in France and the Netherlands in the Fourteenth and Fifteenth Centuries. Harmondsworth: Penguin, 1922. Цит. в переводе Д. В. Сильвестрова.], как выразился историк в классической работе. Жестокость была произвольной и бессмысленной. В 1343 году во Флоренции толпа убила прокурора, разорвала на части и пронесла куски его тела по улицам на копьях и мечах – «и так они были свирепы, так охвачены ненавистью и звериной злобой, – писал потрясенный хронист, – что ели сырое мясо»[50 - Цит. по: Muir Edward. Ritual in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. P. 120.]. Во Франции во время крестьянского восстания 1358 года рыцаря зажарили на вертеле, а обгорелое мясо скормили его жене и детям. Во Флоренции в 1378 году случилось Восстание чомпи, когда поднялись тысячи бедных работников суконных мануфактур. Они сожгли дворцы богачей, поймали и убили палача и поставили свои виселицы – вешать popolani grassi, то есть «жирных».
Церковь не могла исправить прискорбное положение дел, поскольку сама находилась в плачевном состоянии. В 1308 году папа-француз Климент V перебрался из Рима в Авиньон. Новый папский престол стал, по мнению Петрарки, «Вавилоном на берегах Роны», исполненным всяческого порока. «В собирании всевозможных зол ты не просто велик, ты величайший, – писал Петрарка об авиньонском папстве. – Ты матерь прелюбодеев и позор земли, нечестивая матерь мерзостных отпрысков»[51 - Цит. по: Coogan Robert. Petrarch’s Liber sine nomine and a Vision of Rome in the Reformation // Renaissance and Reformation / Renaissance et Rеforme. New Series. Vol. 7 (February 1983). P. 5.]. Когда, почти семьдесят лет и полдюжины пап спустя, понтифики вернулись в Рим, в Авиньоне объявился папа-конкурент. В 1410-м три человека называли себя папами, в том числе бывший пират Бальтасар Косса, который, как утверждали, соблазнил триста вдов, девиц и монахинь, а вдобавок еще и жену брата.
Рим тем временем пришел в полный упадок. Волки бродили по улицам в таком числе, что за их убийство выплачивали награду. Люди ходили вооруженными, так что потребовался закон, по которому того, кто пускал в другого стрелы или бил камнями церковные витражи, штрафовали на крупную сумму. Понадобился даже закон, с еще большим штрафом, против заталкивания экскрементов кому-либо в рот. Петрарка, посетивший Вечный город в 1337 году, ужаснулся увиденному. «Мир изгнан, – сетовал он. – Бушуют междоусобицы и войны, здания повержены в прах, стены крошатся, церкви рушатся, священные предметы гибнут, законы попираются, правосудие оскорбляется, несчастные люди скорбят и стонут»[52 - Цит. по: Wilkins Ernest Hatch. Life of Petrarch. Chicago: University of Chicago Press, 1961. P. 201. О законах касательно волков, стрел и экскрементов см. забавный список статутов четырнадцатого века: Brentano Robert. Rome Before Avignon: A Social History of Thirteenth Century Rome. Berkeley: University of California Press, 1990. P. 130–131.].
И все же этот умирающий, охваченный бесчинствами город хранил в себе ключи к лучшему миру. В начале 1370-х друг Петрарки Джованни Донди, астроном из Падуи, посетил Рим и был поражен увиденным. Он отметил в письме, что некоторые «чувствительные люди» рьяно выискивают и осматривают прекрасные римские древности. Всякий, кто глядел на эти античные статуи и барельефы – которые, как он отметил, высоко ценятся на рынке, – дивился их искусности и «природному гению» их творцов. Люди прошлого, вынужден был признать Донди, намного превосходили современных в зодчестве и ваянии. Более того, древние римляне были в большей мере наделены такими похвальными качествами, как справедливость, мужество, умеренность и осмотрительность. «Мы значительно ниже их умом», – горько заключил он[53 - См.: A Letter of Giovanni Dondi dall’Orologio to fra’ Guglielmo Centueri: A Fourteenth Century Episode in the Quarrel of the Ancients and the Moderns / Trans. Neal Gilbert // Viator. Vol. 8 (1977). P. 299–346.].
Петрарка, впрочем, долго считал, что славу Рима не возродить. Он заключил свою поэму «Африка» (1339) оптимистичной нотой, но относилась она к будущему. Для себя он видел мало надежды, ибо ему суждено жить «средь разброда, смут и раздоров», среди бедствий его обреченного времени. Однако лучший век, несомненно, наступит! «Сей сон летейский не может длиться без срока, – писал он, – мрак расточится, поздним потомкам вновь отворится тропа к пречистому древнему свету»[54 - Mommsen. Petrarch’s Conception of the «Dark Ages». P. 240 (перевод слегка изменен). Цит. в переводе М. Л. Гаспарова.].
Никколо Никколи был, фигурально выражаясь, одним из дальних потомков Петрарки, и он тоже страстно желал купаться в пречистом древнем свете. Секрет культурного обновления, на его взгляд, заключался в творческом подражании античным образцам. Подобно Петрарке, он страдал от мысли, что древнее знание утеряно из-за, как скорбно выразился их общий с Веспасиано друг, «безразличия наших предков»[55 - Manetti. Biographical Writings. P. 129.]. Действия, которые Никколи и его друзья предприняли, дабы вернуть и распространить эти знания, – в том числе совместно с Веспасиано, – сделали Италию (и Флоренцию, в частности) культурным светочем Европы.
Однажды на Страстной неделе примерно в 1400 году Никколи собрал у себя друзей. В их числе был Леонардо Бруни, ученый и переводчик, который позже записал тот разговор. Бруни суждено было стать одним из самых знаменитых и влиятельных флорентийских гуманистов. Он родился около 1370 года в Ареццо, там же, где Петрарка, чей портрет, увиденный в детстве, возбудил в нем страсть к литературе. В 1390-х Бруни приехал во Флоренцию изучать право, но в скором времени переключился на изучение греческого и быстро освоил его так, что смог переводить Аристотеля на латынь. Если учесть число его манускриптов, циркулировавших в Европе, Бруни можно в современной терминологии назвать автором бестселлеров[56 - Hankins James. Plato in the Italian Renaissance. 2 vols. Leiden: Brill, 1990. Vol. 1. P. 95.]. Ученость его почитали так, что Веспасиано однажды наблюдал трогательное зрелище: посол испанского короля преклонил перед Бруни колени. «Он был столь красноречив и учен, – писал Веспасиано, – что достиг того, чего за тысячу лет не удавалось никому другому»[57 - Vespasiano da Bisticci. Vite di Uomini Illustri. P. 249.]. Итак, по мнению Веспасиано, Бруни был самым эрудированным и образованным человеком со времен падения Рима.
В 1427 году Бруни стал канцлером Флоренции, то есть высшим государственным служащим республики, под началом которого находились чиновники, занятые административными обязанностями и делопроизводством. Бруни, хоть и родился в Ареццо, был великим патриотом Флоренции. В тот вечер на Страстной неделе он сказал Никколи, что именно их город в силу своего величия способен возродить ученость через такие дисциплины, как грамматика и риторика. Никколи, впрочем, не верил в возрождение учености, во Флоренции или где-либо еще, поскольку знания, необходимые для такого возрождения, утеряны или уничтожены. В качестве примера он начал перечислять утраты. Где великие творения Варрона, Саллюстия и Плиния Старшего? Где недостающие книги римской истории Ливия? Столько великих философов и поэтов – всего лишь призраки, мелькающие порой на обрывках пергамента или в цитатах, списанных из сомнительных источников.
Леонардо Бруни (ок. 1370–1444): «Он достиг того, чего за тысячу лет не удавалось никому другому»
В числе любимых книг Никколи были «Аттические ночи», чудесная мозаика из текстов по истории, философии, юриспруденции, грамматики и литературной критики, написанная во втором веке нашей эры римлянином Авлом Геллием, который назвал свой труд «некой кладовой учености»[58 - Aulus Gellius. Attic Nights. Vol. 1. Books 1–5 / Trans. J. C. Rolfe. (Loeb Classical Library 195). Cambridge, MA: Harvard University Press, 1927. P. xxvii.]. Копия «Аттических ночей» в собрании Никколи была фрагментарной, и все равно она содержала отрывки из классических сочинений, полностью неизвестных, если не считать редких цитат в других античных текстах – в том числе из трактата Цицерона «О государстве». Так же и Никколи с его друзьями улавливали древнюю премудрость – редкие и дразнящие фрагменты, почти случайно обнаруженные на страницах других сочинений, которые и сами по себе испорчены и неполны.
Мерой этих невосполнимых потерь был римский автор Марк Варрон, библиотекарь Цезаря и, возможно, самый сведущий человек античного мира. Он написал сотни книг, охватывающих практически все сферы человеческой мысли и деятельности. Геллий между делом упоминал или цитировал множество творений Варрона: «О поэтах», «О сельском хозяйстве», «О делах человеческих», «О долге супруга», «О воспитании детей» и «Седмицы» (в которых, по объяснению Геллия, рассказывалось «о достоинствах и многочисленных разнообразных свойствах числа семь»)[59 - Ibid. P. 267. Цит. в переводе А. Б. Егорова, А. П. Бехтера (с изменениями).]. Ничто из этих энциклопедических познаний не сохранилось, за исключением одного трактата на латыни (посвященного Цицерону), который в 1350-х обнаружил в бенедиктинском монастыре флорентийский писатель Джованни Боккаччо. История этой находки – прискорбное свидетельство того, как в «темные века» пренебрегали ученостью. Боккаччо нашел манускрипт Варрона, список одиннадцатого века, в библиотеке, где не было двери, в окнах росли сорняки, а на книгах лежал толстый слой пыли. Многие манускрипты были чудовищно изуродованы; по словам Боккаччо, монахи, чтобы заработать, «вырывали листы пачками» и делали из них книжки для детей или нарезали пергамент полосками, изготавливали амулеты и продавали женщинам[60 - Цит. по: Clark A. C. The Reappearance of the Texts of the Classics // The Library (1921). P. 20–21.]. Боккаччо предпринял срочную спасательную операцию: украл манускрипт из библиотеки и увез во Флоренцию, где присоединил к своему собранию.
Еще критичнее была утрата самого полного учебника риторики – искусства произносить убедительные речи, – составленного в Древнем Риме: «Риторических наставлений» Квинтилиана. Риторика была важной частью римской жизни и культуры. Она занимала центральное место в обучении, а умение говорить ценилось не меньше воинской доблести. Убедительные речи произносились в сенате, на похоронах и в других ситуациях, в том числе во время судебных разбирательств, проводившихся на Форуме – одна из сцен, на которой блистал Цицерон, – и собирали огромные толпы зрителей. Квинтилиан был самым прославленным учителем риторики в имперском Риме. За свою двадцатилетнюю карьеру (примерно между 70 и 90 годами н. э.) он обучил многих будущих витий и государственных мужей, в том числе наследников императора Домициана. «Глава наставников юношей шатких» – назвал его поэт Марциал, свидетельствуя, как успешно Квинтилиан воспитывал молодых римлян[61 - Цит. по: Quintilian. The Orator’s Education. Vol. 1 / Ed., trans. Donald A. Russell. (Loeb Classical Library 124). Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002. P. 2. Цит. в переводе Ф. А. Петровского.]. Квинтилиана почитали так, что римский книготорговец Трифон «ежедневно, с великой настойчивостью» осаждал его просьбами «распространить свою премудрость еще шире»[62 - Quintilian. The Orator’s Education. Vol. 1. P. 51.]. Квинтилиан согласился, отчасти потому, что, как он жаловался, под его именем обнародовали «пиратские» записи его лекций, сделанные слушателями. Огромный текст Квинтилиана, который появился в Риме примерно в 90 году н. э., был учебником и для родителей, и для учителей. Он включал двенадцать томов подробных указаний не только как выучить детей читать, писать и правильно говорить, но и как вырастить их здоровыми, счастливыми и добродетельными. Например, Квинтилиан выступал против телесных наказаний, потому что боль, страх и стыд порки часто ведут к ужасным последствиям, так что ребенок «приходит в уныние, скучает и от сообщества других удаляется»[63 - Ibid. P. 101. Здесь и далее цит. в переводе А. Никольского.]. Бо?льшую часть книги занимали советы, как произносить публичные речи. Тут было все – от рекомендаций, как заучивать отрывки (Квинтилиан рекомендовал систему символов), до того, как тренировать и поддерживать голос (при помощи растираний маслом). Его ученики должны были стать кастой граждан и политиков, людей, которые, как он надеялся, будут «способны управлять общественными и частными делами»[64 - Ibid. P. 57.]. А главное, он чаял создать того, кого называл vir bonus dicendi peritus (муж честный, в слове искусный)[65 - Ibid. P. 197.], – человека, который соединит в себе ораторские умения и добродетель, кто употребит свое витийство на благо общества.
Бо?льшая часть Квинтилиановых наставлений была утрачена. В «темные века» его трудами мало кто интересовался. Как указывал Цицерон, риторика процветает лишь среди свободных людей, в обществах, где решения принимают «в собрании мужей»[66 - Cicero. On the Orator. Books 1–2 / Trans. E. W. Sutton, H. Rackham. (Loeb Classical Library 348). Cambridge, MA: Harvard University Press, 1942. P. 23.]. В иерархических феодальных обществах с аграрной экономикой, возникших после гибели Римской империи, – государствах, где власть принадлежала епископам и князьям, а не выборным лицам, которым требовалось бы завоевывать умы и сердца сограждан пламенными словами или похвальными действиями, – не требовались советы, как произносить красивые речи и воспитывать привычку к добродетели. В итоге из множества копий, по которым учили в римских школах времен Квинтилиана, по всей видимости, не уцелело ни одной. «Риторические наставления» сохранились только в манускриптах многовековой давности, в которых не хватало больших кусков текста.
Впрочем, с миграцией населения в города и возникновением купеческого сословия интерес к Квинтилиану вернулся. В таких городах, как Флоренция, где у власти были именитые граждане, которым требовалось произносить речи, собирать голоса и добиваться желаемого согласием, а не силой, вновь появился спрос на уроки ораторского искусства. Флоренция была республикой, а не герцогством или княжеством, где люди жили под властью тирана. «Нашей республикой управляют тысячи мужей», – с гордостью писал в 1390-х флорентийский политик[67 - Цит. по: Witt Ronald G. Coluccio Salutati and His Public Letters. Geneva: Librairie Droz, 1976. P. 62.]. И впрямь, примерно шесть тысяч человек (при общей численности населения около сорока тысяч) имели право избираться на различные должности, а также входить в комитеты и особые комиссии – оживленные форумы для речей и дебатов. Записи этих заседаний показывают, как ораторы убеждением улаживали разногласия и примиряли спорщиков. «Но в конечном счете все согласились», – сообщает об итоге обмена речами протокол 1401 года[68 - Le «Consulte» e «Pratiche» della Repubblica fiorentina nel Quattrocento / Ed. Elio Conti. Florence: Universita di Firenze, 1981. Vol. 1. P. 309.].
В такой политической обстановке ценность трактата о произнесении речей была неоспоримой. «Ибо что может быть лучше, чем владеть чувствами, – спрашивал флорентийский политик, – дабы слушающий отправился, куда вы пожелаете, и вернулся оттуда, преисполненный благодарности и любви?»[69 - Цит. по: Renaissance Debates on Rhetoric / Ed., trans. Wayne A. Rebhorn. Ithaca: Cornell University Press, 2000. P. 19.] На протяжении многих лет при одном лишь слухе о полном манускрипте Квинтилиана сердца ученых начинали биться чаще. Когда Петрарка раздобыл фрагмент «Риторических наставлений», он написал пламенное письмо давно умершему Квинтилиану, в котором радовался своему счастью, но сетовал, что его новый друг discerptus et lacer – «порван и растерзан»[70 - Цит. по: Classen C. Joachim. Quintilian and the Revival of Learning in Italy // Humanistica Lovaniensia. Vol. 43 (1994). P. 79.]. У Боккаччо тоже была копия Квинтилиана, но, как указывает опись его библиотеки, incompletus (неполная)[71 - Цит. по: Coulter Cornelia C. Boccaccio’s Knowledge of Quintilian // Speculum. Vol. 22 (October 1958). P. 491.]. Десятилетия спустя поиски не прекращались. Леонардо Бруни утверждал, что, если не считать нескольких утраченных трудов Цицерона, о сочинении Квинтилиана «скорбели более, нежели обо всех других»[72 - Цит. по: Two Renaissance Book Hunters. P. 192.].
Таким образом, античные идеи и тексты ценились, поскольку их можно приложить к конкретным политическим и общественным проблемам. Если бы творения древних греков и римлян удалось найти и если бы их тщательно проштудировали и правильно поняли, они бы научили современных итальянцев, как лучше воспитывать детей, как писать более вдохновляющие речи, как разумнее и умереннее управлять, как вести более справедливые и успешные войны – короче, как создать более стабильное и безопасное общество, чем то, в котором они жили последние несколько веков.
Возможно, как надеялся Никколи, книги Квинтилиана и других античных авторов по-прежнему где-то лежали, дожидаясь, когда их найдут. Быть может, ученость еще можно возродить, и пречистый древний свет рассеет тьму невежества.
В утрате стольких античных сочинений были повинны не только безразличные феодалы или алчные и нерадивые монахи, не только наводнения, пожары, прожорливые мыши, подкожные оводы и книжные черви. Все эти обстоятельства сыграли свою роль, но была и еще одна причина, почему сохранилось так мало текстов: технология изготовления книг.
Древние греки и римляне не писали на бумаге и пергаменте[73 - Великолепный исторический обзор, как делались книги, см.: Stoicheff Peter. Materials and Meanings // The Cambridge Companion to the History of the Book / Ed. Leslie Howsam. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. P. 73–89.]. Вместо этого они экспериментировали с пальмовыми листьями, древесной корой, восковыми табличками и наконец перешли на папирус – тростник, который рос в египетских болотах и который египтяне, естественно, использовали для своих документов. Греки называли это растение библос (??????) по древнему финикийскому порту Библ (на побережье нынешнего Ливана), из которого греки ввозили папирус. Название города и растения запечатлелось в слове «библион» (???????), книга; этот корень сохранился в «библиографии», «библиофиле» и «библии». Римляне вслед за греками стали писать на этом тростнике, однако книги свои назвали не в честь папируса (от этого названия произошло слово «paper», бумага), а в честь его лыка, liber. От этого латинского термина происходят такие слова, как «library» (библиотека) и «librarian», библиотекарь, а также название книги в итальянском и испанском (libro), французском (livre) и ирландском (leabhar).
Изначально папирус использовали как топливо и употребляли в пищу, из него делали вилки, ложки, миски, а также паруса и канаты для ладей, сновавших по Нилу, и даже сами ладьи. Плиний Старший, когда в семидесятых годах нашей эры составлял свою «Естественную историю», утверждал, что на папирусе писал Александр Великий примерно в 332 году до н. э., когда основал Александрию. Плиний описывал, как волокна луба – libri – сплетают в сетку на столе, смоченном мутной нильской водой, которая служит клеем. Следом лист прижимали прессом, затем сушили на солнце, а после зачищали неровности раковинами. В Древнем Риме были доступны разные сорта папируса, в том числе «харта амфитеатрика», названная по месту своего производства, Александрийскому амфитеатру. Чтобы польстить тщеславию императора Августа, высший сорт назвали в его честь (а второй – в честь его супруги Ливии).
Листы папируса не складывали и не переплетали, как книжные страницы. Вместо этого их соединяли один с другим в длинный свиток, который наматывали на две палочки, по одной с каждого конца. Готовое изделие называлось volumen, от латинского volvere, вращать, отсюда и происходит слово «volume», том. Читатель разворачивал книгу, наматывая на вторую палочку уже прочитанный текст. Таким образом, знания получали, прокручивая свиток в девять-десять дюймов шириной и длиной в размотанном виде метров девять. Все библиотеки Древнего мира – и та, которую выстроили Птолемеи в Александрии, и та, которую в первом веке до н. э. создал в Риме на Авентинском холме Азиний Поллион, – были полны этими огромными катушками премудрости.
Такой формат был знаком всему Средиземноморскому миру. Впрочем, конкуренция между библиотеками вскоре привела к появлению новой технологии. После 200 года до н. э. один из Птолемеев, обычно называемый Птолемей V Эпифан, запретил вывозить из Египта папирус, дабы насолить правителю Пергама Евмену II, который задумал создать библиотеку еще больше Александрийской. Вынужденный искать замену дефицитному папирусу, царь Пергама (чьи владения находились в современной Западной Турции) догадался использовать кожу животных. Продукт получил название по городу – латинское pergamenum, так что пергамент хранит в этимологии эхо своего предполагаемого возникновения. История папирусного эмбарго, впервые рассказанная библиотекарем Юлия Цезаря, плодовитым Марком Варроном, вполне может быть совершеннейшей выдумкой. Парфянские документы, составленные задолго до того времени на территории нынешнего Северо-Восточного Ирана, писались на коже, как и некоторые тексты на древнееврейском (в том числе бо?льшая часть свитков Мертвого моря). Впрочем, кожи животных, на которых писали в Пергаме, обрабатывали особым образом: их дубили, выдерживали в известковом растворе, выскабливали и растягивали, чтобы создать более ровную, тонкую и долговечную поверхность для письма[74 - О мифе, а также о том, что можно извлечь из доступных исторических свидетельств, см.: Johnson Richard R. Ancient and Medieval Accounts of the «Invention» of Parchment // California Studies in Classical Antiquity. Vol. 3 (1970). P. 115–122.].
Пергамент у древних римлян так и не прижился, возможно из-за репутации некачественной замены. И тем не менее в последней четверти первого века нашей эры в некоторых римских книжных лавках можно было встретить пергамент, не скатанный в свитки (хотя в первых экспериментах с пергаментом использовался и этот формат), а разрезанный на прямоугольнички, которые скрепляли между собой. По-латыни «скреплять» – pangere, а отсюда через латинское pagina возникло английское слово «page» (страница). Внезапно оказалось, что можно читать, переворачивая пергаментные страницы, а не разматывая папирусный свиток.
В числе тех, кто перешел на новый формат, был римский поэт Марциал. В середине восьмидесятых годов нашей эры он написал эпиграмму, в которой рекламировал свои сочинения в новом формате: «Ты, что желаешь иметь повсюду с собой мои книжки / И в продолжительный путь ищешь как спутников их, / Эти купи, что зажал в коротких листочках пергамент». Их преимущество, по мнению Марциала, заключалось в компактности и удобстве для путешествий. Даже «Илиаду» и «Одиссею» выпускали так, на многих листочках кожи. Чтобы покупатель напрасно не бродил по городу в поиске карманных книжиц, Марциал любезно указал адрес: у Секунда, бывшего раба, чья лавка располагалась за храмом Мира[75 - Martial. Epigrams / Ed., trans. D. R. Shackleton Bailey. (Loeb Classical Library 94). Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993. P. 43. Цит. в переводе Ф. А. Петровского.].
Несмотря на энтузиазм Марциала, новый формат популярности не завоевал, и папирусные свитки оставались основным носителем для классической литературы вплоть до падения Рима в пятом веке. Однако, если язычники презирали новую технологию, ее охотно приняла другая культура: последователи Христа. Ранние христиане легко отказались от длинных свитков в пользу прямоугольных листов. Возможно, они полюбили этот формат, поскольку им трудно было достать папирус, а также за его преимущества: долговечность, страницы, позволявшие быстрее находить нужное место, и экономию материала, ведь на пергаменте можно было писать с двух сторон. Так или иначе, библион, или liber, получил новое название: «codex». Римляне иногда использовали для счетов, записок, черновиков и других временных записей таблички, покрытые воском и скрепленные кожаными шнурками. Стопка таких табличек называлась «caudex», буквально «ствол дерева». Когда пергамент заменил дерево, слово превратилось в «codex».
С распространением христианства пергаментные кодексы стали основным форматом для сохранения знания. Отцы Церкви, такие как святой Иероним и святой Августин, писали и на папирусе, и на пергаменте, однако Иероним в одном из писем рассказал, как в библиотеке Кесарии, милях в сорока к западу от Назарета, два священника заменяли ветхие папирусные свитки, копируя тексты на пергамент. Этот процесс происходил по всему Средиземноморью: свитки заменялись кодексами. Когда в 331 году император Константин заказал скопировать пятьдесят Библий для церквей в его новой столице, Константинополе, он повелел изготовить их «на выделанном пергаменте» в виде «томов, удобных для чтения и легко переносимых для употребления». Итогом этой работы стали не папирусные свитки, а роскошные тома в «великолепных переплетах»[76 - Eusebius. The Life of the Blessed Emperor Constantine. London: Samuel Bagster and Sons, 1845. Book IV. P. 203–204.]. (Единственный уцелевший из этих списков, известный как Ватиканский кодекс, на более чем восьмистах листах пергамента, – самая древняя сохранившаяся копия Библии.)
Таким образом, христианство изменило не только моральные и эстетические ценности, но и технологию знания. И то и другое поставило под угрозу сохранность античной премудрости. Папирус был недолговечен; один римский поэт сетовал на «книжных червей, проедающих в папирусе дыры», другой, Марциал, со смехом вспоминал, как его свитки пожирали жучки или как в них заворачивали маслины и рыбу[77 - Propertius. Elegies / Ed., trans. G. P. Goold. (Loeb Classical Library 18). Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990. P. 343; Martial. Epigrams. P. 171.]. Чтобы латинские сочинения Древнего Рима пережили следующие столетия, их требовалось перенести на пергамент. Однако зависело это от того, сочтут ли ранние христиане – переписчики книг, – что творения их языческих предков достойны сохранения и изучения.
Многие христиане порицали язычников. Богослов Тертуллиан, перешедший из язычества в христианство в Карфагене около 200 года, вопрошал другого христианина: «Что Афины Иерусалиму?»[78 - Цит. по: Tanner Thomas M. A History of Early Christian Libraries from Jesus to Jerome // The Journal of Library History (1974–1987). Vol. 14 (Fall 1979). P. 415.] Еще более пылко отрекся от них Иероним. Примерно в 373 году он отправился через Малую Азию в Иерусалим, прихватив с собой труды языческих авторов, которых изучал в Риме, и в сравнении с отточенной латынью Цицерона и Плавта стиль Ветхого Завета казался ему грубым и диким. По дороге Иероним заболел лихорадкой, и ему было видение, в котором он предстал пред Богом-Судией и на вопрос о вероисповедании ответил: «Я христианин», на что получил суровый ответ: «Не христианин ты, а цицеронианец». Затем в видении ангелы принялись хлестать его бичами и жечь огнем.
Однако вовсе не все христиане были так суровы к латинским и греческим авторам. На каждого Тертуллиана имелся Климент Александрийский, который примерно в 200 году нашей эры назвал языческую философию «служанкой теологии». Философия, по его словам, служила грекам «подготовкой» к христианской вере, «учением, пролагающим и выравнивающим путь к Христу, который приводит ученика к совершенству»[79 - Clement of Alexandria. The Stromata, or Miscellanies // Greek and Roman Philosophy After Aristotle / Ed. Jason L. Sanders. New York: The Free Press, 1966. P. 306. Цит. в переводе Е. В. Афонасина.]. Также и святой Августин отмечал, что, хотя языческие писатели, такие как Платон, сочинили много нелепых выдумок, противных христианской вере, они же сказали немало, с ней согласного. В своем сочинении «Об истинной религии», которое написал около 390-го, через несколько лет после того, как в тридцать два года принял христианство, Августин утверждал, что, живи Платон и Сократ в четвертом веке, они были бы добрыми христианами.
Августин считал, что христианин, читающий языческие труды, поступает как израильтяне, которые грабили египетские храмы и использовали золотые и серебряные сосуды в новых благочестивых целях. Даже Иероним со временем смягчился, найдя ободрение во Второзаконии (21: 10–14), где говорилось, как поступать тому, кто, одержав победу над врагом, увидел среди пленных красивую женщину и полюбил ее. Всего-то и надо, говорилось в Библии, остричь ей голову, обрезать ногти, снять с нее пленническую одежду, и пусть «оплакивает отца своего и матерь свою в продолжение месяца», после чего на ней смело можно жениться. Такой же санитарной обработки, по мнению Иеронима, требовали классические труды: если их тщательно обрезать и почистить, они станут пригодными для христиан.