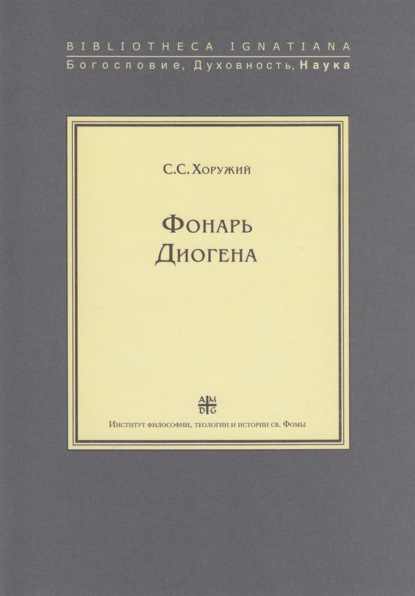По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фонарь Диогена
Автор
Год написания книги
2010
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Весть, что явилась Картезию в ночь 10 ноября 1619 г., была из редкого рода. Как повелось с античности, мудрецы получали и возвещали откровения вглубь, в первооснову вещей, либо прозрения вдаль, в судьбы мира; другой же цех служителей разума подвергал откровения и прозрения скептической критике, напирая на необходимость проверки и доказательства, строгих правил познания. Поздней это получило название, соответственно, онтологической и гносеологической (эпистемологической, когнитивной) установок в философии. Но весть Декарта – именно когнитивного характера, она утверждала возможность и необходимость нового рода познания, ясного, строгого и достоверного, охватывающего все вещи мира, все явления, равно чувственные и умственные. Подобная весть не столь поражает воображение, однако, как показала история, ее воздействие – в случае удачи[32 - В качестве неудачного прецедента дела Декарта можно вспомнить Луллия, Великое Искусство которого также возвещалось как эпистемологическая весть, однако не свершило никакой революции. Отнюдь не случайно Декарт упоминает Луллия в своем «Методе», и не случайно это упоминание пренебрежительно: «Искусство Луллия более служит не тому, чтобы узнавать вещи, о которых мы в неведении, а тому, чтобы, не разбирая их (sans jugement), о них говорить» (Discours de la Mеthode. Loc. cit. P. 137).] – оказывается глубже и шире, ибо влечет обновление всей структуры и организации знания, смену самого познавательного способа, навыков действия человеческого разума: что мы называем сегодня – переход в новую эпистему. Когда философ впервые предал перу и бумаге свою весть (в «Правилах», 1628 г.), и еще более, когда он впервые обнародовал ее (в «Методе», 1637 г.), он уже имел и четкое начертание пути к новому знанию, принципов и положений, определяющих этот путь. На всех дальнейших этапах эти принципы и положения его учения лишь повторялись и закреплялись, приобретая большую отточенность, а также дополнительное обоснование в ответах на выдвигавшиеся возражения. В нашу задачу не входит, разумеется, прямолинейное, как в учебнике, изложение декартова учения; но, чтобы выделить заключенный в этом учении антропологический подход, концепцию человека, нам надо пристально взглянуть на его общие очертания, основоположения и установки, оценивая их sub specie anthropologiae.
Чтобы откровение о новом способе знания стало превращаться в учение, Декарту необходим был прежде всего исходный плацдарм, «малейший спасенный кусочек», как скажет Гуссерль: образчик, островок нового знания, безусловно обладающий его свойствами. Эти искомые свойства с самого начала предносились ему как те, которыми мы сегодня определяем строгое научное знание; и он резюмировал их в знаменитой формуле, унаследованной современной феноменологией: знание достоверное, ясное и отчетливое, clara et distincta perceptio (intellectio, visio, contemplatio). Формула несла у него очень емкое содержание; в частности, как он разъяснял, условия ясности и отчетливости вовсе не повторяли друг друга: «Я называю ясным такое знание, которое налично и явно для внимательного духа… отчетливым же такое, которое настолько четко (prеcise) и отлично от всех других [познанных содержаний], что объемлет в себе лишь то, что обнаруживается надлежаще рассматривающему его»[33 - R. Descartes. Principes de la philosophie. Loc. cit. P. 591.]. Поэтому философию Декарта открывает образцово-показательный познавательный акт, в котором добывается первый пример, эталон ясного и отчетливого, несомненного знания. Как сегодня известно каждому, первенцем и краеугольным камнем нового способа познания явилось положение: Cogito ergo sum; Я мыслю, следовательно, я существую. Описание акта, впервые данное в «Методе», затем повторяется с малыми вариациями во всех основных текстах. Ядро познавательного метода, главное орудие продвижения к истинному знанию, составляет, как говорит Декарт, установка радикального сомнения. Как правило, ее чрезвычайно акцентируют, следуя за самим философом, который в часто цитируемых пассажах из Части 4 «Метода» описывает ее в весьма сильных выражениях: «Если единственным моим устремлением служит поиск истины,… необходимо, чтобы я отбросил как абсолютно ложное все то, в чем я могу вообразить хотя бы малейшее сомнение… Поскольку наши чувства иногда нас обманывают, я предположил, что нет вообще ничего, что было бы в самом деле таким, как они показывают… Я отбросил все доводы, которые прежде принимал как доказательства [в математике]. И наконец, я решил считать, что все вещи, приходящие мне на ум, не более истинны, чем видения моих снов»[34 - Id. Discours de la Mеthode. Loc. cit. P. 147.]. Стоит, однако, сказать подробней о сомнении у Декарта: на поверку, оно не так радикально, как можно решить из этого описания, и гораздо более функционально, служебно. Декартово сомнение ограничено, так сказать, и в начале, и в конце. В Части 3 «Метода» он сам пишет, что развивал установку сомнения лишь с целью отыскать несомненные основания для намечаемого строительства: «Я вовсе не подражал скептикам, что сомневаются ради того, чтобы сомневаться, и настаивают (affectent), будто они никогда не выносят никаких решений, ибо все мои цели, напротив, были лишь в том, чтобы увериться и отбросить зыбкую почву и песок, найдя глину или камень»[35 - Ib. P. 145.]. (Это методологическое сомнение Гуссерль затем признает вполне совпадающим с одной из главных исходных установок феноменологии, «трансцендентальной ?????»). Когда же камень найден, и на нем начато строительство, Декарт резко ограничивает свои сомнения: мавр сделал свое дело. Об этом философ уже не заявляет во всеуслышание, но мы видим, что в отношении своей метафизики он почти полностью отвергает сомнения оппонентов (кои не все безосновательны!) и не выдвигает никаких собственных, которые могли бы вести к развитию, углублению основ учения; а в естествознании он даже обнаруживает явную нехватку критического сомнения, следуя за своими непроверенными фантазиями. В целом можно сказать, что доминирующий пафос мысли Декарта – никак не скептический релятивизм, которым всегда заканчивали адепты тотального сомнения, но прямо обратное: пафос безграничной постижимости всего, доступности всех вещей самому надежному, истинному познанию. Бесспорно, что этот заразительный, завораживающий пафос распахивающегося неограниченного простора – не для фантазий, но для постижения новых и новых подлинных истин! – крайне содействовал историческому успеху философии Картезия.
Ниже мы вернемся еще не раз к акту вывода Cogito, в нем есть целый ряд важных для нас моментов. Но сейчас последуем дальше за философом. Убедившись в несомненном существовании мыслящего Я, он желает точней увидеть и описать этот форпост истинной реальности – и очень быстро, на протяжении одного абзаца, заключает, что в нем не содержится абсолютно ничего, помимо самой определяющей его мыслительной активности. Вывод достигается путем эвристического приема, который Декарт будет применять постоянно и который можно назвать приемом мысленного отъятия: если возможно «ясно и отчетливо», не воображением, а аналитическим разумом, представить себе нечто одно существующим без другого, то это другое не принадлежит к сущности или природе первого. В данном случае, таким путем от мыслящего Я отсекаются все телесные свойства и предикаты, всякая связь с телом, а также и с любым местом и пространством: со всем порядком пространственной и материально-телесной реальности, который Декарт характеризует одним предикатом протяженности (extensio, etendue), находя его главным и достаточным. (Как сформулирует он поздней, «природу тел составляет лишь протяженность, а не вес, твердость, цвет и т. д.»[36 - Id. Principes le la philosophie. Loc. cit. P. 612.]. В итоге, «Я есть субстанция, вся сущность или природа которой только в том, чтобы мыслить, и которая для своего бытия не нуждается ни в каком месте и не зависит ни от каких материальных предметов… Я, т. е. душа, посредством которой я есть то, что я есть, целиком отлична от тела… и если бы его вовсе не было, она не перестала бы быть тем, что она есть»[37 - Id. Discours de la Mеthode. Loc. cit. P. 148.]. Я или Дух, или Душа, или Мысль (Мышление) – все это у Декарта синонимы – есть лишь исключительно «мыслящая вещь», «вещь, которая мыслит»; и «дух человека не причастен ни к чему, принадлежащему телу»[38 - Id. Mеditations. Loc. cit. P. 301.]. Так прямое развитие философского рассуждения, где добывается первая истина Декарта, незамедлительно приводит философа ко второй истине, не менее кардинальной: к фундаментальной дихотомии Мыслящее – Протяженное, Res Cogitans – Res Extensa. Как все свои основоположения, Картезий в дальнейшем не устанет повторять эту истину, заново воспроизводя ее вывод, глубже обосновывая, шире развертывая. Он подчеркнет, что и тело, в свою очередь, всецело отлично от «души», т. е. мышления и сознания, и не нуждается в ней для своего существования, всей своей нормальной активности (и это – новаторский, неаристотелев тезис, из которого вырастает идея человека-машины, механистическая концепция телесной деятельности). Будет установлен набор свойств обеих природ: душа проста, неделима, а потому и неразрушима, бессмертна; тело сложносоставно, подвержено повреждению и разложению, смертно. Два набора не совпадают ни в чем, и формулировка дихотомии заостряется: «Две природы не только различны, но неким образом противоположны»[39 - Ib. P. 263.]. При этом, термин «Я» удержан сугубо за «вещью мыслящей» (ср.: «Я абсолютно отрицаю, что являюсь телом»[40 - Ib. P. 479.]); термин же «человек» нередко – как, скажем, в названии «Трактат о человеке» – обозначает человека телесного, и тогда то целое, которое человечество привыкло считать человеком, остается вовсе без имени; но все же чаще философ, по нуждам изложения, сохраняет имя человека для совокупности, двоицы Дух и Тело. Однако в любом случае, в дискурсе Декарта «Я» не есть «человек», а есть отделенная от всего телесного и пространственного чистая мыслительная активность, которую он, как мы видели, полагает субстанцией; это – метафизическое Эго, или же «познающий субъект», оказавшийся столь ценным для последующей философии.
Таким образом, вторая истина Декарта вполне уже вводит нас in medias res, в средоточные идеи и темы его мысли. Но, прежде чем перейти к их антропологическому содержанию, целесообразно еще отметить некоторые глобальные черты декартова учения и, в первую очередь, увидеть его общие онтологические позиции. Задавшись этой последней целью, мы замечаем, что отношение декартова дискурса к онтологии своеобразно: он как бы уклоняется, уходит от нее по касательной. Хотя все главные сочинения философа построены как систематические, фронтальные изложения его учения ab ovo – и в их числе, в ответах на Третье возражение к «Медитациям», есть даже изложение ordine geometrico с дефинициями и аксиомами – мы тем не менее нигде не найдем отдельного свода его онтологии, хотя онтология всегда и твердо считалась основной частью метафизики, метафизикою par excellence. Это, однако, не должно удивлять нас: с самого начала мы подчеркивали, что уже «весть» Картезия, исходная движущая интуиция его мысли, носит не онтологический, а гносеологический характер, как весть о новом способе знания; и эта гносеологическая, когнитивная ориентация не утрачивается никогда, настойчиво проводясь философом во всех текстах. Достаточно всего одного примера: в «Началах», последнем суммарном изложении всего учения, Декарт, описывая строение «истинной философии», говорит, что первая часть ее – метафизика, «содержащая принципы познания», – а не положения о Боге, бытии и мире, как формулировала бы школьная традиция; и далее он включает в эту философию все естественные науки, приходя к знаменитой формуле: «Философия подобна дереву, корни которого – метафизика, ствол – физика, а ветви – все другие науки, сводящиеся к трем главным, медицине, механике и морали»[41 - Id. Principes de la philosophie. Loc. cit. P. 565.]. Отсюда явствует, что «истинная философия» понимается и строится у Картезия отнюдь не по образу привычной системы основоположений, открываемой положениями онтологическими, но как полная система познавательных принципов и установок во всех сферах реальности: на современном языке, эпистема. В подобной структуре онтология оказывается скорей имплицитной, возникающей при развертывании эпистемы как приложение и следствие констатируемых «принципов познания». (Ниже мы вернемся к значению этого революционного эпистемологического поворота метафизического дискурса). – Помимо того, к уклонению от онтологии, к минимизации онтологического дискурса вела и другая, внешняя уже причина. Онтология – в самом ближайшем соседстве с теологией, а в отношениях с сей последней, как широко известно, философ был до крайности опаслив и осторожен. Тут даже нет нужды в знании фактов биографии: регулярные заверения в его текстах о полном признании всех прерогатив теологии, об уважении ее границ, отказе вступать на ее суверенную территорию говорят сами за себя[42 - Должно быть, конечно, и исключение, подтверждающее правило: в хорошую минуту, в разговоре с располагающим собеседником (молодым Бурманом), Картезий говорит о теологии совсем иначе.]. Для опасений и осторожности были все основания: независимо от того, насколько открыто выражались теологические аспекты учения Декарта, это учение и по существу, и по духу радикально расходилось с христианской (даже не обязательно католической) теологией своей эпохи. Эпистема Декарта – эпистема Нового времени, устав секуляризованного разума, который до конца отделил себя от теологии и поверяет себя, свою деятельность только собственными нормами. Чтобы убедиться в этом, достаточно беглого взгляда на концепцию Бога у Декарта и ее функцию в его учении.
«Под именем Бога я понимаю субстанцию бесконечную, вечную, недвижимую, независимую, всеведущую, всемогущую и которою сотворены и произведены я сам и все другие вещи»[43 - R. Descartes. Mеditations. Loc. cit. P. 299.]. Такова, по Декарту, «идея Бога», имманентно присутствующая в нашем разуме. Слишком известно, и мы не будем на этом останавливаться, что, полагая идею Бога одной из врожденных данностей мышления (ср.: «Мы не могли бы вспомнить, когда наша идея Бога была нам сообщена Богом, ибо она всегда была в нас»[44 - Id. Principes de la philosophie. Loc. cit. P. 580.]), Декарт прямо и быстро заключает от этой данности к существованию Бога, развивая некую версию онтологического доказательства, нисколько не новую в основной логике, однако, сравнительно с прежними версиями, смещенную более в гносеологический план, по общей природе картезианского дискурса. Философ придавал большую важность этому доказательству, и вовсе не только оттого, что, как дело богоугодное, оно могло быть свидетельством его христианской благонадежности. Существование Бога критически важно для самого декартова учения, причем в его ключевой части, концепции познающего разума. Разум имеет связь с Богом, и именно эта связь, только она, может обеспечить то, что деятельность разума, познание, доподлинно ведет к знанию истины. В самом деле, «Бог есть источник всякой истины»[45 - Ib. P. 563.], и способность к познанию, которую Декарт именует «природный свет», дана нам, вложена в нас Им; и отсюда следует, что «все, что мы ясно познаем как истинное, является истинным… ибо иначе у нас были бы основания считать Бога обманщиком»[46 - Ib. P. 584.]. Это также значит, что «истина и достоверность всякой науки зависят от знания об истинном Боге: покуда я не имею этого знания, я не могу совершенно знать что бы то ни было»[47 - Id. Mеditations. Loc. cit. P. 317.]. Понятийный комплекс Бог – Истина – Разум – Познание наделяется у Декарта богатой системой логических импликаций и концептуальных взаимосвязей, в совокупности охватывающих почти весь фундамент его эпистемологии; в частности, сюда входит и знаменитая его тема о «невозможности Бога-обманщика». Нам, однако, не требуется рассматривать эту систему во всей полноте; для общей характеристики (квазиимплицитных) теологии и онтологии Декарта достаточно выделить некоторые отдельные звенья.
Заметим, прежде всего, траекторию декартовой мысли: эта мысль приходит к Богу, отправляясь, как в любом его рассуждении, от своего постоянного и единственного первопринципа – мыслящего Я. (ср.: «Бытие или существование нашей души или нашего мышления я принял за Первопринцип»[48 - Id. Principes de la philosophie. P. 563.]). Затем, убедившись в существовании Бога и эксплицировав набор основных атрибутов идеи Бога, мысль весьма скоро вновь возвращается к сознанию; но она возвращается, так сказать, не с пустыми руками. Вследствие доказательно установленного существования Бога – и с некоторыми допущениями о характере своей связи с Богом (неповрежденность этой связи никаким искажением, «обманом Бога»[49 - Заметим, что Декарт нигде не принимает в рассмотрение самый стандартный аргумент: связь Бога и человека, познающего разума, может принять – более того, актуально приняла! – поврежденный характер отнюдь не вследствие «обмана Бога», но вследствие падения, падшего состояния человеческой природы. Формально, такое умолчание может оправдываться его установкой «воздержания от теологии». Однако, по существу, поскольку данное теологическое положение имеет прямые эпистемологические импликации, его неучет при построении эпистемологии заведомо не оправдан. В свете онтологических позиций Декарта (о них см. ниже), можно сказать, что de facto он признает предикат падшести за телесной природой, но не признает его за познающим разумом.]) – сознание обретает гарантии своей состоятельности, достаточности своих средств и критериев для актуального достижения истины обо всех вещах. После этого мысль Декарта уже больше не обращается к учению о Боге – и мы имеем полное право заключить, что лишь гарантии-то и были целью экскурсии в горний мир. Проделанный мыслью путь Сознание – Бог – Сознание предстает своеобразным аналогом марксовой операции Товар – Деньги – Товар, а Бог выступает источником произведенной «прибавочной стоимости» – кардинального атрибута истинности всех ясных и отчетливых содержаний сознания (разума). С приобретением этого атрибута разум становится способен к полностью самостоятельному осуществлению высшей цели своего существования, которую «весть» Декарта с самого начала утверждала в построении «совершенной науки обо всем множестве вещей». Что же касается Бога, то при всей важности Его роли как единственного источника и гаранта полноты возможностей разума, нельзя не увидеть, что по существу эта роль есть роль гаранта собственной ненужности: возникающая картина реальности включает существование Бога лишь в качестве некой «закадровой предпосылки», формального разрешения на существование всего происходящего. Само же происходящее, весь мир – арена деятельности разума, всецело полномочного и действующего по собственным законам, сколь бы философ ни добавлял, что эти полномочия и законы – от Бога. Бог Декарта – внешний и бесконечно удаленный гарант истины, вытесненный за пределы всего процесса существования мира и самоосуществления мыслящего разума. Естественно, что, продолжая развиваться в декартовой установке истинности и достаточности своих законов – и достигая блестящего прогресса на этом пути – научный разум все менее ощущал нужду во внешнем гаранте. Наследником Картезия не мог не стать Лаплас, который уже полностью «не нуждался в этой гипотезе».
Итак, теологические позиции Декарта раскрываются как позиции деизма и секуляризации мысли. Что касается онтологических позиций, то они менее революционны. Декарт не имел здесь новых идей, и мы видим, как его дискурс примыкает к тем руслам и концепциям, что могли представляться близкими, созвучными его эпистеме. Очевидно, что онтологической базой для утверждения Богоданных, укорененных в Боге – в этом смысле, Божественных – способностей и прав разума могла хорошо служить онтология мира-в-Боге, восходящая к христианскому платонизму классической патристики и не столь задолго до Декарта мощно и впечатляюще развитая Николаем Кузанским. Декарт знал сочинения Кузанца, упоминал их, и в истории мысли их имена рядом, как имена ключевых фигур в становлении новоевропейского мировоззрения. Но если в развитии установок секуляризации Декарт уверенно уходит вперед, то в области онтологии его мысль – скорей вариации на темы Кузанского, темы онтологии мира-в-Боге (что, конечно, объясняется вторичностью и имплицитностью онтологии в его дискурсе). Как известно, онтология мира-в-Боге, или панентеизм, принимает, что вещи и явления тварного мира наделены идеальной сущностью, которою они причастны Божественному бытию, суть в Боге; и соответственно, мир в целом также присутствует в Божественном бытии своей сущностью, которая и есть мир в Боге. Суждения и положения в текстах Декарта, несущие онтологическое содержание, как правило, согласуются с этой онтологической парадигмой, а некоторые даже воспроизводят ее типичные формулировки: так, он упоминает «семена истины, сущие в наших душах» (вариация патриотического понятия «семян-логосов»), говорит, что «Бог, творя меня, вложил в меня эту идею [идею Бога] как печать мастера на своем изделии»[50 - R. Descartes. Mеditations. Loc. cit. P. 300.] (метафора с явно панентеистским смыслом) и т. п. С другой стороны, однако, панентеизм был слишком близок к платоновскому учению об идеях, ко всему руслу платонизма, с которым заметно расходилась декартова эпистема (ниже мы еще будем обсуждать их соотношение). Поэтому онтология Декарта не есть полностью ортодоксальный панентеизм, каким он дан, в первую очередь, у Кузанца; но все же, как мы увидим сейчас, эта онтология еще остается в пределах панентеистской парадигмы.
В заключительной, Шестой Медитации мы читаем: «Все, чему учит меня природа, содержит некую истину. Ибо под природой, в общем смысле, я разумею не что иное как самого Бога, или же тот порядок и устройство, какие Бог устроил в сотворенных вещах. В частности, под моей природой я понимаю совокупность всего, данного мне Богом»[51 - Ib. P. 326.]. Эти слова – несомненная декларация панентеизма: ибо, как заявляется здесь, «порядок и устройство, какие Бог устроил в сотворенных вещах», Декарт не отличает от «самого Бога» – т. е. признает их непосредственно сущими в Боге, Божественными. Но мы должны при этом учесть, что эти слова, как и весь текст Декарта, надо читать в гносеологическом дискурсе. «Порядок и устройство» тварных вещей суть, как выразится позднейшая философия, не эмпирические, а умопостигаемые их свойства; в своем чистом, истинном виде они открываются и существуют в познании, в разуме: принадлежат собственно к его сущности. Акцент цитаты смещается, и ее смысл оказывается совпадающим со смыслом обширного ряда высказываний Декарта, которые все говорят одно: именно законы разума, очищенные от искажающих влияний чувственных восприятий и воображения, – т. е. сущность разума – философ полагает непосредственно Божественными. Сущность познающего разума, его законы и нормы, порядок и устройство: по Картезию, это и есть «мир в Боге»! И мир в Боге этим исчерпывается: можно убедиться, что никаких иных содержаний Декарт в нем не предполагает. Уже здесь видно различие с концепциями панентеизма и платонизма, мыслящими мир в Боге, умопостигаемый мир, куда более расширительно, в частности, с присутствием в нем «семян» и чувственных, телесных вещей. Но более существенно другое отличие. Мы видим, что связь Бога и мира остается у Декарта сущностной, эссенциальною связью, однако эта связь теперь утверждается в специфическом гносеологическом повороте. Разум есть когнитивная инстанция, не сущее как таковое, а сущее познающее, «вещь мыслящая»; и это значит, что сущностная связь Бога и мира актуализуется в познании и есть существенно когнитивная связь. – В итоге, онтологическая позиция Декарта выступает как панентеизм, подвергнутый модуляции в гносеологию, перенесенный в гносеологическое измерение: кратко, гносеологический или эпистемологический панентеизм.
* * *
Из сказанного уже совершенно прозрачно, что антропология Декарта есть по своему существу анти-антропология: ибо ее исходный и главный тезис о человеке есть тезис о его отсутствии в качестве целостного единства. Мы, разумеется, имеем в виду то, что назвали выше «Второй истиной» Декарта: положение о дихотомии Res Cogitans – Res Extensa. Очевидным образом, это положение несет антропологический смысл, устанавливая фундаментальное рассечение человека. Как мы говорили, духу декартова дискурса вполне отвечало бы даже отсутствие всякого термина для совокупности двух полностью и во всем противоположных субстанций, «Мыслящей вещи» и «Телесной машины». Явившийся философу идеал абсолютно ясного и достоверного знания на всю жизнь наполнил его очистительным пафосом, стремлением до конца расчистить пути к такому знанию, убрать все помехи для совершенного познавательного акта. И он неуклонно убирает. Главная начальная задача – усмотреть, выделить саму инстанцию чистого познания, адекватного агента-исполнителя совершенного акта. Человек как целое, во всей сложности и пестроте своего состава, помыслов, восприятий, желаний… – заведомо не есть безупречный исполнитель – и философ без колебаний вычеркивает его из своей философии. В центр ставится то, что, как он находит, единственно способно нести миссию познания: мысль, с хирургической решительностью отсекаемая от всего, что не мысль – всего, связанного с чувственно-телесным, «протяженным». В дальнейшем, «покорствуя природе», то бишь, реальному положению вещей, Декарт вынуждается умерить свой пафос радикального разделения двух природ; на некоторой (достаточно поздней) стадии творчества, он обращается к описанию промежуточных явлений, что порождаются с участием и той и другой инстанции, и «Души» и «Тела». Так возникают «Страсти души», явно не самый блестящий текст философа. Ниже мы обсудим этот трактат, но сразу можно сказать, что в его цели не входит восстановление единства человеческого существа. Существующие явления никогда не рассматриваются как акты целостные, полагаемые из единого деятельного центра, но трактуются исключительно как акты встречи, контакта двух противоположных субстанций. Всегда и всюду установка философа – только установка рассечения, и антиантропология остается последним словом антропологического дискурса Декарта.
Нам же, соответственно, остается лишь обозреть части этого разъединенного дискурса как они есть: «Субъекта», «Тело», или же «Человека-машину», «Страсти», или смешанные явления. Следом за тем, мы попытаемся свести части воедино, чтобы, увидев очертания целого, достичь все же некоторой суммарной характеристики человека Картезия.
А. Субъект, или субстанциализированное сознание. Итак, исполнить миссию совершенного познания способна мысль человека, мыслящее Я. Это исходная интуиция и установка Декарта; но с самого начала в эту установку входило и важное дополнение: полноценный исполнитель миссии – только чистая мысль, та, что движется лишь по собственным законам (кои, как мы помним, Божественны и ведут к истине). В обычном же своем бытовании, мысль включает и другие активности, такие как воображение, воля, которые отличны от чистого постижения или понимания (entendement), однако тоже принадлежат к Res Cogitans и противоположны Res Extensa. Таким образом, Я, как Мысль, (Мышление) структурируется в своем содержании. Первая дефиниция в геометрическом изложении Метода гласит: «Под мыслью я понимаю все, что присутствует в нас таким образом, что мы это немедленно и непосредственно сознаем (sommes connaissants). Тем самым, все действия воли, понимания, воображения и чувств суть мысли»[52 - Ib. Р. 390.]. Как видно из этой дефиниции (затем повторяемой в «Началах»), «мыслящий» полюс декартовой дихотомии как широкое понятие, не сводящееся к чистому познающему разуму и объединяющее все мыслительные активности, ближе всего соответствует современному понятию сознания – с важною оговоркой, что «мыслящая вещь» Декарта, в отличие от наших представлений о сознании, трактуется как субстанция. Термин же «субъект», равно как и выражение дихотомии в форме «расщепления субъект – объект», еще не употребляются у Декарта, представляя собой позднейшее немецкое привнесение; мы будем пользоваться ими, памятуя о различии между «субъектом познания» и «субъектом сознания».
Не исчерпывая собой сознания, познающий разум есть тем не менее исполнитель высшей миссии сознания, и потому представляет собой его главную и важнейшую составляющую, его raison d'etre. Философская дескрипция его активности, или же конституция познавательного акта, есть средоточие и ядро всей эпистемы Декарта, так что наш долг – описать основные элементы этой конституции. Все когнитивные установки Декарта направлены к идеалу строгого научного познания; однако систематический органон научного познания еще отнюдь не создан в его трудах: пред нами лишь общие черты и отдельные элементы. Выдвинув и усиленно подчеркнув идею необходимости цельного познавательного метода, философ в то же время оставил собственный метод во многом недоочерченным. Прежде всего, это касается выбора общей ориентации, общего типа когнитивного аппарата: должен ли когнитивный процесс ставить во главу угла опытные или же умозрительные критерии и средства? Как мы знаем сегодня, первый путь ведет к познавательной парадигме эмпирической и экспериментальной науки, второй же – к феноменологической парадигме познания как интенционального акта интеллектуального всматривания; и обе парадигмы обладают весьма различными свойствами и сферами применения. Дискурс же Декарта – на распутье. С одной стороны, мыслитель тяготел к изучению явлений природы, («великой книги Мира», как он выражался), к естественнонаучной проблематике, – что неизбежно склоняло к экспериментальной парадигме, но, с другой стороны, в числе его самых стойких убеждений – глубокое недоверие к чувственному опыту, его данным, и столь же глубокое доверие к внутренним нормам и законам чистого разума.
Опытная ориентация была традиционным отличием английской мысли, и поучительно видеть, как во всех контактах Декарта с ее представителями (в дискуссии с Гоббсом по поводу его Возражений на «Медитации», в переписке с маркизом Ньюкаслом) с наглядностью выступает различие мыслительных школ. Декарт-метафизик мешал Декарту-естественнику: прежде всего мешал его мысли развить необходимую и назревшую концепцию научного эксперимента, без которой уже не могло продвигаться опытное познание. Мотивы совершенно ясны: в ставимом и проводимом эксперименте чистый разум добровольно соединяется с чувствами, образуя нераздельный умно-чувственный комплекс; тогда как по картезиевой дихотомии разум всегда обязан избегать смешения с чувствами. – Напротив, с феноменологическим руслом у философа нет столь же коренных расхождений, и хотя все новоевропейские парадигмы научного познания имеют основания себя возводить к Декарту, однако у парадигмы феноменологической эти основания наиболее весомы. В когнитивных установках Картезия можно и должно видеть дальний прообраз феноменологической теории познания. Даже не всегда дальний: когда во Второй Медитации Декарт вводит понятие «умственного обозревания-обследования» (inspection de l'esprit), которое в ходе познания следует превратить из «несовершенного и смутного» в «ясное и отчетливое», когда он отличает «обозревание умом» и от «видения глазами», и от силлогистического вывода, – он уже определенно протофеноменолог. В целом же, можно согласиться, что пресловутая установка ясного и отчетливого познания оставалась у самого Декарта скорее девизом и призывом, по частоте повторений порой походя на заклинание; и феноменологический органон интенционального опыта, наследуя эту установку, вполне адекватно воплощает ее в конкретную, детальную когнитивную процедуру Разумеется, этот органон наследует не только картезианской, но и платонической философии, и в духе последней, он вовсе не разделяет резкого декартова противопоставления мысли и «протяженности», пространства, не отвергая возможности некой ноэтической пространственности и заведомо отвергая дихотомию Res Cogitans – Res Extensa. В целом, здесь перед нами – одна из самых существенных и самых насыщенных линий в дальнейшей истории декартовой эпистемы; но за ее раскрытием, которое далеко увело бы от нашей темы, мы должны отослать к «Картезианским медитациям» Гуссерля.
Не представляя собой последовательной дискурсивной реконструкции когнитивного акта, декартова эпистемология тем не менее содержит каркас, базисные элементы такой реконструкции. Большая часть из них уже присутствует в выводе «Первой истины» Картезия, положения Cogito ergo sum. Из элементов, привходящих в дальнейшем, важен, пожалуй, всего один, который следует назвать сразу: вслед за конституцией субъекта (в главном, достигаемой с выводом Первой и Второй истин), Декарт намечает и отвечающую субъекту эпистемологическую перспективу: перспективу, в которой может осуществляться уже не только самопознание, но познание любых вещей. Закономерным образом, это – субъективистская перспектива, в которой дескрипция реальности, после установления собственного существования, начинается с вопроса о существовании внешних вещей. Таким путем следует мысль Декарта в заключительных Пятой и Шестой Медитациях, которые открываются характерным исходным тезисом субъективистской перспективы: «Прежде рассмотрения, существуют ли вещи вне меня, я должен рассмотреть их идеи, какими они присутствуют в моей мысли»[53 - Ib. Р. 310.]. Данная логика опять-таки не чужда феноменологической установке, и в развертываемом далее рассуждении Декарта можно даже увидеть некоторую аналогию перехода от чисто субъективистской перспективы к трансцендентальной субъективности.
Переходя от перспективы к самому когнитивному акту, мы видим, прежде всего, что его совершающее орудие, познающий разум, Декарт трактует самым традиционным образом, в зрительно-световой метафоре, укоренившейся еще до Аристотеля: это – «природный свет», la lumiere naturelle, который «естественно присутствует в наших душах». Он не находит нужным анализировать его, сближая, тем самым, с непосредственно понятными данностями, «внутренними свидетельствами» сознания (о которых скажем чуть ниже); но все же в одном из писем мы найдем не столь односложную характеристику: «Я различаю два вида природных наклонностей (instincts): одна наклонность присуща мне как человеку и является чисто разумной; это природный свет, или intuitus mentis, и им одним лишь стоит гордиться. Другая же принадлежит нам, равно как животным, и является неким стремлением (impulsion) природы к сохранению нашего тела, получению телесных удовольствий и т. п.; и ей отнюдь не всегда должно следовать»[54 - Id. Lettre a Mersenne de 16.Х.1639. Loc. cit. P. 1060.]. Что касается самого осуществления акта, то наиболее детально Декарт характеризует его начальные стадии, соответствующие установке радикального сомнения. О ней мы уже говорили выше; но надо сейчас добавить, что к этим же начальным стадиям относится и еще один фактор, который Декарт явно включил в конституцию акта, лишь отвечая на возражения по поводу своего вывода Cogito. Этот фактор – еще одно немаловажное ограничение установки сомнения, помимо уже отмеченных: Декарт принимает, что в сознании присутствуют некоторые изначальные и несомненные истины, которые весьма существенны для всякого акта познания, но сами не нуждаются ни в выводе, либо доказательстве, ни даже в дефиниции, поскольку «понятны» сами по себе и из себя, без обращения к другим вещам. В первую очередь, к таким истинам принадлежат те, что необходимы для вывода Cogito: что такое сама мысль, существование, сомнение. Декарт впервые утверждает их специфический статус в Ответах на Шестые Возражения, заявляя, что они познаются «внутренним знанием, которое всегда предшествует знанию обретенному и которое присуще каждому»[55 - Id. Mеditations. Loc. cit. P. 527.]. Позднее в письме к Арно он добавит в их ряд также связь тела и души, при этом слегка иначе характеризуя их природу: «Что не телесная душа может двигать тело, показывается не каким-либо рассуждением или сравнением, а повседневным опытом, самым очевидным и достоверным; это одна из вещей, которые известны сами по себе и только затемняются, когда мы хотим объяснить их другими вещами»[56 - Id. Lettre ? Arnauld de 29.VII.1648. Loc. cit. P. 1308.]. Наконец, наиболее подробная характеристика – в диалоге «Разыскание истины». Здесь философ прямо утверждает подобные данности сознания как особый род вещей: надо «отличать вещи, что нуждаются в дефиниции, от тех, которые могут быть поняты сами по себе». И здесь же – относительно «ясное и отчетливое» описание их природы: «Что такое сомнение, мысль, существование… невозможно узнать… иначе как самому по себе и убедиться в этом знании иначе как по собственному опыту, с помощью того сознания или внутреннего свидетельства, которые каждый находит в себе, когда рассматривает что-либо… Чтобы знать, что такое сомнение и мысль, достаточно сомневаться и мыслить. Это научит нас всему, что на сей счет можно знать, и даже скажет нам больше, чем самые точные дефиниции»[57 - Id. Recherche de la veritе par la lumi?re naturelle. Loc. cit. P. 898–899.]. Это неплохо сказано, но, конечно, позиция философа здесь зыбка и оспорима: он не оградил введенный им род вещей никакими критериями и границами – и, допустив, что существует некий фонд вещей, которые «понятны сами по себе», по сути, открыл возможность кому угодно включать туда что угодно.
Также уже с начальных стадий когнитивного процесса проявляется хорошо известная установка декартовой эпистемологии: полное отрицание «аргументации от авторитета», недопущение любой опоры на предшествующую традицию мысли. Картезию свойственно скептическое, если не прямо пренебрежительное отношение ко всем прошлым и настоящим мыслителям и их достижениям. В «Письме к переводчику», помещаемом перед текстом «Начал», он резюмирует всю историю философии весьма в стиле характеристики граждан города N Собакевичем: «первые и главные» философы – Платон и Аристотель, и они равно не достигли ничего определенного (certain), с тою лишь разницей, что Платон это честно признавал, тогда как Аристотель пытался выдавать шаткое за прочное; в последующие же века «те, что хотели быть философами, по большей части слепо следовали за Аристотелем»[58 - Id. Principes de la philosophie. Loc. cit. P. 561.]. Но смысл указанной установки слабо связан с этим историческим скептицизмом или нигилизмом, он лежит глубже. Уже на первых страницах «Метода» Декарт заявляет: «Ни на один момент я не должен удовлетворяться мнениями других»[59 - Id. Discours de la Mеthode. Loc. cit. P. 144.]: и суть – в этом. В конечном счете, дело не в том, насколько бесспорны выводы Аристотеля или Платона, но в том, что выводы – мнения других, они получены ими, а не самим Картезием, – и потому не принадлежат к выстраиваемой им перспективе субъекта. Принадлежит же к ней только то, что его собственный познающий разум усмотрел ясно и отчетливо – и это означает, что любое положение, чтобы быть принятым этим разумом, должно быть воспроизведено им самим, вместе со всем своим выводом. – Так негативная установка по отношению к философской традиции оказывается существенно позитивным и конструктивным элементом конституции когнитивного акта в субъективистской перспективе.
Вместе с тем, за этою установкой проступает и некоторая серьезная проблема. Декарт подверг деконструкции когнитивную валидность философской традиции, увидев традицию, как «мнения других», и мы признаём, что это законная позиция субъективистской перспективы. Однако, как сразу ясно, такая позиция может идти гораздо шире: точно на том же основании, в субъективистскую перспективу не должен включаться любой опыт «других», если только он не воспроизведен заново и самостоятельно в собственном опыте субъекта. (Сам Картезий отверг бы такую экстраполяцию, поскольку считал, что его Метод не следует распространять за пределы сферы научного познания, где должен сохранять права лишь обыденный здравый смысл; но с философской точки зрения, он здесь проявлял непоследовательность, и экстраполяция законна). В итоге, мы обнаруживаем, что строгое, последовательное проведение выдвинутых Декартом когнитивных принципов ведет, вообще говоря, к обособленности и отъединенности познающего субъекта от всех «других», к исчезновению у него базы общих, разделяемых с «другими» понятий и позиций, т. е. базы для межчеловеческой общности и общения. Иными словами, здесь в острой форме появляется сакраментальная «проблема Другого», оказавшаяся в центре поисков европейской философии последних лет. При этом, появление проблемы следует ставить в связь отнюдь не с гносеологией Декарта как таковой, но со всей магистральной линией развития западной мысли о человеке: уже и «человека Боэция» мы характеризовали как шаг в направлении декартовой концепции субъекта; а постдекартова метафизика (при решающем участии Канта, но не забудем и Беркли) полностью реализовала заложенные в этой концепции возможности законченной и совершенной субъективистской перспективы. Как известно, философского субъекта, созданного этою линией, сегодня уже постигла смерть; и в числе основных причин, он пал также и жертвой собственного совершенства: его субъективность была настолько чистой и полной, что в рамках его конституции никакого удовлетворительного решения проблемы Другого, или же проблемы интерсубъективности, достичь не удалось. Ниже нам еще предстоит обсуждать этот узел проблем.
Далее, пора указать фактор, который всегда усиленно заботит Декарта: предупреждение, выявление, исправление ошибок и искажений в процессе познания. Они возможны, разумеется, во всем ходе когнитивного акта, но особенно важно уделить им внимание вначале, пока они не принесли непоправимых последствий. Картезий говорит много об ошибках; демонстрация негодности прежнего подхода к познанию, как чреватого всяческими ошибками, входит в само назначение его Метода, в его «весть». Возможные ошибки (искажения, заблуждения, погрешности…) весьма разнообразны, но есть один их главный и безусловный источник. Это – неучет фундаментальной дихотомии: несоблюдение познающего орудия, способности понимания, постижения (entendement) в должной чистоте, в изоляции от замутняющего воздействия телесно-чувственной реальности. Опасность такого воздействия существует постоянно, поскольку, согласно Декарту, способность постижения у человека имеет тройственную структуру: наряду с высшей, и даже Божественной, способностью чисто интеллектуального постижения (intellection, conception), она включает две низшие способности, воображение и чувственное восприятие (перцепции, «чувства»); и если первой способности отвечает активность разума, остающегося в своей сфере, то в действиях воображения и чувств разум входит в связь с противоположным полюсом дихотомии, телесной природой. Но лишь пребывая в собственной сфере, разум может надежно рассчитывать на достижение ясного и отчетливого, достоверного знания! Данные же воображения и чувств несут на себе свойства телесных стихий, где все темно и смутно, спутано и неоднозначно; и некритическое включение, примешивание этих данных к деятельности разума – важнейший источник когнитивных ошибок. Вновь и вновь Декарт поднимает, муссирует тему об ошибках и искажениях, присущих данным воображения и чувств, перебирает набор примеров, когда эти данные обманывают… Тема, казалось бы, очень не нова, начиная с Аристотеля, к ней обращались многие, и едва ли найдешь философа, который стоял бы за слепое доверие к чувствам, а тем паче, к фантазиям воображения, – чего же стулья ломать? Но для Картезия тема наполнена новым смыслом, новой принципиальностью: теперь здесь – один из главных аргументов в пользу его дихотомии, в пользу невозможности достоверного познания без радикального отделения «мыслящего» от «протяженного». Шестые Возражения на «Медитации» оспаривают тезис о большей достоверности понимания, нежели чувственных восприятий; и, парируя, он углубляет анализ чувственного восприятия, выделяя в его строении три ступени (мы опишем их ниже, говоря о чувствах в завершение конституции субъекта). – Итак, ошибки, вносимые в познание чувствами и воображением и придающие продукту познания свойства материальных стихий, смутность и темноту, – вот основной и важнейший вид ошибок, который должна учитывать конституция когнитивного акта.
Декарт указывает также и ряд других видов. Большая часть из них рассматривается в конце первой части «Начал», где названия глав образуют как бы сжатый перечень: «71. Первая и главная причина наших ошибок – детские предрассудки… 72. Вторая же в том, что мы не можем забыть эти предрассудки… 73. Третья в том, что наш дух утомляется, внимательно следя за всеми предметами суждения… 74. Четвертая в том, что мы передаем мысли словами, которые выражают их неточно»[60 - Id. Principes de la philosophie. Loc. cit. P. 606–609.]. Обсуждение этих видов ошибок не несет уже для философа столь важной идеологической нагрузки, но ценно для нас тем, что здесь становится конкретней и содержательней его концепция сознания. Мы видим, что представлениям детства с их стойкостью придается чрезвычайное значение; Декарт замечает, что если ошибки от воображения и чувств носят характер «замутнения» Природного Света, то предрассудки детства несут его «ослепление». Он также затрагивает в связи с ошибками и тему внимания, концентрации разума, находя, что «трудней всего для души, когда она сосредоточивается на чисто умопостигаемых предметах, которые не воспринимаются ни чувством, ни воображением»[61 - Ib. P. 608.]; причем и здесь причина связана с детством: она в том, что изначально, в детстве, у человека имеются только две низшие способности постижения; и т. д. Разбираемый перечень отнюдь не объявляется исчерпывающим; философ понимает и признает, что ошибки и заблуждения могут вкрасться неисчислимыми путями. Так, ко многим заблуждениям ведут страсти: к примеру, «любая страсть представляет нам то благо, к которому она стремится… гораздо бо?льшим, чем в действительности»[62 - Lettre a Elisabeth, princesse de Boheme, de 1. XL 1645. Loc. cit. P. 1203.]. Обсуждает также Декарт ошибки памяти и их роль, и еще некоторые другие, – так что в итоге, анализ ошибок познания составляет у него, пожалуй, наиболее разработанный раздел в конституции когнитивного акта.
Напротив, центральная часть этой конституции, где должен быть представлен сам когнитивный механизм, который производит продукт познания, удовлетворяющий заданным критериям, не получает у Картезия систематической разработки. Тем не менее, основные принципы этого порождающего механизма все же присутствуют у него, хотя их роль и не акцентирована. Именно, в качестве таких принципов можно рассматривать выделенные нами выше «феноменологические» элементы. В основе их – понятие inspection de l'esprit (что можно передать и как интеллектуальное всматривание) и в целом, они приближают декартов когнитивный акт к интенциональному акту. Далее, существенная особенность механизма – его чисто интеллектуальный характер: если Гуссерль включит воображение в круг способностей, участвующих в интенциональном акте, то Декарт, как мы говорили, усиленно отрицает всякую положительную когнитивную роль воображения и чувственного восприятия. Детальный анализ познавательного акта во Второй Медитации приводит к выводу: «Его [познаваемого предмета, куска воска] восприятие, или точнее, действие, которым его апперципируют (on l’aper?oit), не есть ни зрение, ни осязание, ни воображение, и никогда ими не было, хотя вначале и представлялось так, – но исключительно умственное узрение, которое может быть несовершенным и смутным, каким было вначале, или же ясным и отчетливым, каким стало теперь, в зависимости от того, меньше или больше направлено мое внимание на те вещи, которые в нем присутствуют и составляют его»[63 - Id. Mеditations. Loc. cit. P. 281.]. Как видим, в качестве решающего когнитивного фактора Декарт здесь указывает внимание, которому в феноменологическом органоне будет отведена самая значительная роль. Наконец, итог когнитивного акта философ описывает более подробно, в особенности, в «Началах»: это – обретенная несомненная и достоверная истина, знание ясное и отчетливое, etc. Но, как часто бывает, большая подробность не совсем на пользу предмету: детализация видов и свойств истины отчасти заслоняет ведущую интуицию, согласно которой акт познания в своем итоге воспроизводит предмет в форме полной реконструкции ансамбля его смысловых, или эйдетических содержаний. (Эта интуиция выступает наиболее явно в трактовке объективного знания («Начала», 1, 45–46), приведенной частично выше). В целом же можно заключить, что у Картезия остается совсем немного до того, чтобы конституция когнитивного акта приняла законченную форму прогрессивно продвигающегося, все более прецизионного интеллектуального фокусирования.
* * *
Чтобы продвинуться от конституции когнитивного акта к полной конституции субъекта, напомним строение картезианского субъекта-сознания, каким оно представлено в Первой книге «Начал». По Декарту (как позднее по Канту, в целом, повторяющему Картезия), деятельность мышления двоякого рода: «Все способы мышления могут быть сведены к двум общим, один из которых заключается в апперцепции посредством понимания, а другой – в вынесении решений посредством воли. Поэтому чувствовать, воображать и даже постигать чисто интеллигибельные предметы – все это суть лишь разные способы апперцепции; тогда как желать, испытывать отвращение, убеждаться, отрицать, сомневаться суть разные виды воления»[64 - Id. Principes de la philosophie. Loc. cit. P. 585.]. Суждение же, по Декарту, – синтетический акт, в котором совместно участвуют и воля, и постижение. Нет нужды повторять здесь классическую и общеизвестную картезианско-кантовскую трактовку отношения разума и воли, но стоит все же указать наиболее существенные для Картезия моменты. Во-первых, воля по самой своей природе есть свободное начало, для Декарта (как и в русском языке) она почти синоним свободы, и эта свобода воли (libre arbitre), составляющая «главное совершенство человека», принадлежит к числу обсуждавшихся выше непосредственных данностей разума и опыта, не требующих вывода или доказательства. Затем, сфера воли (та сфера, где воля может осуществлять себя, вынося решения) совпадает со всем горизонтом сознания – и тем самым, она несравненно шире сферы разума, которая объемлет предметы, доступные пониманию. Говоря проще, мы вольны решать во множестве ситуаций и областей, где вовсе не обладаем пониманием. Здесь, по Декарту, коренится одна из главных причин ошибок и неверных действий человека; но философ сразу же предлагает и способ, как ее устранить. «Мы никогда не совершим ошибки, если будем судить лишь о том, что постигаем ясно и отчетливо»[65 - Ib. P. 590.]; а потому рецепт правильного поведения состоит в координации воли с разумом: «Природный свет учит нас, что понимание всегда должно предшествовать решению воли»[66 - Id. Mеditations. Loc. cit. P. 307.].
Этот третий момент в декартовой трактовке воли становится ключевым положением в развитии этики Декарта. Занимая довольно малое место в его учении, она умещается почти всецело в рамки проблематики воли и разума. Как мы уже можем ожидать, этический дискурс также подвергается встраиванию в гносеологизированную субъективистскую перспективу. Необходимые предпосылки для этого доставляет тезис: «Воля человека такова, что по своей природе может стремиться только к добру»[67 - Ib. P. 536.]. В «Геометрическом изложении» Метода данный тезис включен в число «аксиом» и выражен более развернуто: «Воля направляется свободно и добровольно (ибо такова ее сущность), но при этом безошибочно, к добру, которое ясно познано ею»[68 - Ib. P. 395.]. Тезис означает, что Декарт примыкает к традиции, идущей от Августина и трактующей зло чисто привативно, как недостачу в наличии добра; но, неуклонно воплощая свою эпистему, философ переводит эту классическую позицию в гносеологическое измерение, так что зло у него – недостача знания о добре. Коль скоро воля заведомо стремится к добру, зло и грех могут твориться лишь по незнанию, в порядке ошибки: «Я простираю ее [волю] на те вещи, которых не понимаю; с легкостью заблуждаясь меж них, она принимает зло за добро, или ложное за истинное. И вследствие этого я ошибаюсь и грешу»[69 - Ib. P. 306.]. Как видим, понятие греха, этического проступка, также переводится в гносеологический дискурс: грех – вид ошибки в познании, и как зло, так и грех равно проистекают из несовершенных познавательных актов. Такую позицию верно передает краткая формула, встречаемая у Декарта: «достаточно правильно судить, чтобы правильно поступать». Формула вызвала обвинения теологов, увидевших в ней пелагианство, утверждение достаточности собственной воли человека для спасения; и Декарт парировал обвинения обычным своим приемом, указав, что его рассуждения не заходят на территорию теологии: «То “правильно поступать”, о котором я говорю, относится не к области теологии, где говорят о благодати, а только к моральной и натуральной философии, где благодать не рассматривается»[70 - Id. Lettre a Mersenne de 27. IV. 1637. Loc. cit. P. 963.]. – В целом же, этический дискурс очень бегло очерчен у Декарта. Лишь незначительно детализируясь в учении о страстях, он оставляет в стороне большинство этических апорий и принципиальных проблем. Вершина дискурса, понятие добра, не подвергается анализу; любовь не рассматривается как этический принцип, оставаясь вне этики – равно как этика вне любви – и мы можем лишь заключить, что для мысли Картезия, этика – весьма побочная тема.
Оставшиеся элементы в конституции Субъекта, воображение и чувственное восприятие, включаемые Декартом в состав способности постижения, отчасти уже обсуждались нами при описании конституции когнитивного акта. Их негативная роль в этой конституции, как факторов, «замутняющих Природный Свет», – основной момент в их трактовке у Картезия; к нему достаточно добавить немногое. Что касается воображения, то нам следует осмыслить характерную черту, кратко отмеченную выше: Декарт не признает за воображением никаких положительных функций и возможностей в процессе познания – и это прямо расходится не только с обычными представлениями о «творческой роли воображения», но и с конституцией интенционального акта в феноменологии, где, по Гуссерлю, «свободная фантазия» доставляет интеллектуальному всматриванию модели, примеры, образцы, используемые для достижения ясного и отчетливого узрения смыслового облика предмета познания. Сюда присоединяется еще то, что в своем собственном дискурсе Декарт активно использует эвристический прием, который сегодня именуется «мысленным экспериментом» и заключается в анализе искусственных ситуаций, создаваемых в воображении специально для демонстрации или проверки тех или иных положений. При этом, его «мысленные эксперименты» включают ситуации как укладывающиеся, так и не укладывающиеся в рамки эмпирической реальности (пример первых – превращения куска воска во Второй Медитации, пример вторых – искусственные миры, где развертываются «Трактат о свете» и «Трактат о человеке»). – Из вопросов, встающих здесь, легче всего объясняется неприятие идеи «творческого воображения»: эта идея действительно не входит в органон научного познания (а входит лишь в более широкую картину, объемлющую процессы рождения новых идей и теорий). Вопросы же о «мысленных экспериментах» и о роли воображения в интеллектуальном всматривании глубже и интересней. Мы начинаем видеть не только близость, но и отличия в декартовой и гуссерлевой когнитологии: эти отличия лежат там, где конституция интенционального акта примыкает к руслу платонизма. «Свободная фантазия» Гуссерля должна доставлять детали к смысловой картине, эйдосу, конструируемому в умном пространстве, – и тем самым, она связана именно с платоническими элементами указанной конституции. Но Декарт мыслит интеллектуальное всматривание, работу Природного Света, более позитивистски, без примеси платонизма, – и в его конституции когнитивного акта «свободная фантазия» не нужна. В его упрощенном понимании, «воображение… есть не что иное как определенное приложение познавательной способности к телу, которое теснейше (intimement) присутствует в ней»[71 - Id. Mеditations. Loc. cit. P. 318.], и если для платоника воображение уносится в умный мир, то для Декарта эта направленность на тело, замутняющая познание, всегда остается главной и решающей чертою воображения. Геометрическое воображение не является исключением, ибо геометрические фигуры – отнюдь не идеальные образы в умопостигаемом мире: имея протяженность, они принадлежат к телесному полюсу дихотомии (давая, тем самым, яркий пример различия Платоновой и декартовой дихотомий). Поэтому Декарт, чтобы включить геометрию в орбиту своего Метода, делает ее аналитической, обращает от фигур к уравнениям. И в свете сказанного, мы можем также сделать догадку, что и его «мысленные эксперименты» в его глазах не были деятельностью воображения: вероятно, он предпочитал относить их к чисто интеллектуальной активности, считая, что оперирует в них не телами, а уже идеями тел, что, как известно, у него, в отличие от Платона, означало понятия.
Наконец, чувственные восприятия подходят уже вплотную к границе субъектной сферы: это та часть «мыслящей вещи», которая тесней и ближе всего соприкасается и взаимодействует с «вещью протяженной». Поэтому в теме о чувствах у Декарта уже присутствует в качестве существенного аспекта анализ физиологии чувств. Этот аспект входит и в дефиницию чувственного восприятия, данную в «Началах»: «Мы называем чувствами, или же восприятиями наших чувств… различные мысли нашей души, происходящие непосредственно из движений, которые возбуждаются в мозгу путем передачи по нервам»[72 - Id. Principes de la philosophie. Loc. cit. P. 654.]. Трактуя чувства как «мысли», феномены сознания, Декарт, в первую очередь, озабочен их отличением и отделением от возбуждающих их материально-пространственных факторов. Здесь его описание достигает известной убедительности и, в общем, принципиально не расходится с современными представлениями. Рецепторы, которыми снабжены органы чувств, реагируют на определенные виды явлений «протяженной» реальности тем, что формируют сигналы, импульсы возбуждения; сигналы передаются по нервам в мозг; будучи там восприняты, они вызывают те или иные реакции сознания, или «мысли». При этом, как усиленно настаивает философ, события на разных концах нервного канала коммуникации связаны меж собой только причинно-следственным отношением и никак иначе; по своей природе и свойствам, исходный эмпирический феномен и проистекающий феномен сознания не имеют ничего общего между собой. Нам понятен этот усиленный акцент: Декарт снова на страже дихотомии. Его описание, повторим, убедительно, причем, нарочито употребляя современную терминологию (рецепторы, сигналы, канал коммуникации), мы хотим подчеркнуть, что весь этот понятийный арсенал, по сути, уже имеется у Декарта, и даже не очень имплицитно. Пред нами один из примеров нового научного сознания в действии.
При всем том, в этой трактовке чувств – как и далее, в трактовке страстей – декартова фундаментальная дихотомия, конечно же, оказывается под вопросом. Оба рода явлений в самой своей природе и структуре соединяют оба полюса дихотомии, принадлежа и «мыслящему», и «протяженному», осуществляя их связь. Декарт, разумеется, анализирует эту связь (пример чего мы только что видели); но, направляя анализ на ее конкретный механизм и особенности, он полностью обходит более общий и кардинальный «кантианский» вопрос: Как возможна эта связь? Меж тем, его учение, несомненно, рождает такой вопрос. В начальных разделах этого учения все усилия прилагаются к тому, чтобы убедить в предельной дистанцированности двух природ, их абсолютном различии, в полном отсутствии у них общих свойств, вообще – чего бы то ни было общего, и в том числе, общей почвы, общей сферы действия. Тем самым – приходится заключить – для них нет и никакого места встречи, нет самой возможности встречи. В самом деле, о какой встрече может идти речь, если «протяженное» существует исключительно в пространстве, а «мыслящее» не имеет никакого отношения к пространству?
История, однако, необратима, и мысль Декарта не следует кантианской логике. В данном пункте в ней побеждает логика обыденного сознания: связь Тела и Души существует самоочевидным образом, и философу надлежит показывать и доказывать лишь то новое и непривычное, что он утверждает: а именно, полную противоположность этих двух природ. Что же касается связи, то, коль скоро сам факт ее не нуждается в доказательстве, философу остается лишь описать ее и разобрать, какова она есть. Не в сочинениях, а только в позднем письме к Арно мы нашли процитированные выше (см. прим. 29) лаконичные строки о существе одного из видов связи Души и Тела: способность Души двигать Тело Декарт относит к разряду непосредственных данностей сознания, не требующих ни доказательства, ни объяснения. О самой же связи как таковой никаких философских суждений нет, и метафизический вопрос о ее возможности не возникает у философа. Тема о связи взаимно противоположных природ, «мыслящего» и «протяженного», не получает метафизической постановки, а переводится или соскальзывает в эмпирический дискурс, начинаясь сразу с чисто эмпирического постулата: «Хотя душа соединяет нас со всем телом, она совершает свои главные функции в мозгу»[73 - Ib.]. Этот неоднократно повторяемый постулат в «Страстях души» получает подробную детализацию, характер которой ясен из названия главы: «31. О том, что в мозгу существует малая железа, в которой душа совершает свои функции более непосредственно (plus particuli?rement), чем в других частях [мозга]»[74 - Id. Passions de l'ame. Loc. cit. P. 710.]. Названная «малая железа» есть пресловутый conarium, шишковидная железа (эпифиз), с которою связана долгая и бесславная история псевдонаучных спекуляций. Обсуждая учение о страстях, мы еще столкнемся с ней, а сейчас лишь заметим, что, постулируя такую локализацию или «седалище» (siege) для «мыслящей вещи», Декарт вновь оставляет в стороне рождаемые постулатом метафизические вопросы: становится ли мозг (или conarium) седалищем души в силу воления последней или в силу неких своих особых свойств? И какими особенными свойствами должна обладать некая точка пространства, чтобы «в ней совершались главные функции» радикально непространственной души? И насколько оправданно само утверждение этой радикальной непространственности, если душа имеет «седалище» в очень определенном месте пространства и все ее главные функции пространственны? – и т. д.
Как видим, проблематика чувственных восприятий у Декарта не менее связана с Res Extensa, нежели с Res Cogitans. Но прежде чем прямо обратиться к противоположному полюсу дихотомии, отметим еще несколько моментов этой довольно обширной у него проблематики. В небольшом подразделе в конце «Начал», Декарт дает ей сводное изложение, начиная с классификации чувств: пять перцептивных модальностей именуются здесь «внешними чувствами» и подразделяются по «тонкости» (самая тонкая – зрение, самые грубые – осязание и вкус); к ним он добавляет два «внутренних чувства», первое из которых – совокупность всех естественных потребностей, второе же – совокупность «страстей» (радость, печаль, любовь, гнев…). Здесь же дан и анализ каждого из семи чувств, сводящийся целиком к описанию их физиологических механизмов и включающий в себя известную долю примысливания и фантазий (элемент, который получит наибольший простор в учении о страстях). Этот анализ интересен для нас лишь тем, что дополнительно иллюстрирует, как представлял философ смешанные явления, «междумирье» своей дихотомии; но есть и такие моменты в теме чувств, что заслуживают упоминания по существу В Ответах на Шестые Возражения Декарт дает содержательную характеристику структуры чувственного восприятия, охватывающую уже не только физиологию. Он выделяет три ступени этой структуры, из которых две первые отвечают вышеописанному передаточному механизму восприятия (внешнее воздействие на телесный орган и непосредственная реакция сознания на дошедший импульс), тогда как третья осуществляет оценку, интерпретацию данных разумом на базе всего предшествующего опыта: она «объемлет все суждения, которые мы, начиная с детства, привыкли делать об окружающих вещах на основе производимых ими впечатлений или движений в органах чувств»[75 - Id. Mеditations. Loc. cit. P. 539.]. Понятно, что добавление этой ступени – ценное углубление трактовки чувств. И наконец, весьма стоит отметить сжато развитую Картезием мысль о существовании порога, «предела разрешения» чувственных восприятий и о том, что этот порог не должен стать пределом познания. Исходя из своей идеи бесконечной делимости всего протяженного, он замечает, что за некоторым пределом части тел неизбежно делаются слишком малы, неуловимы для чувств; однако разум может и должен «судить о том, что происходит в этих малых телах… по примеру того, что происходит в телах, нами воспринимаемых,… и таким путем осмыслить все, что существует в природе»[76 - Id. Principes de la philosophie. Loc. cit. P. 664.]. Познание чувственно воспринимаемых тел должно происходить с помощью законов геометрии и механики, справедливость которых отнюдь не ограничена порогом чувственных восприятий. Перед нами – явно поставленная задача изучения микромира; и когда философ открывает разуму этот новый горизонт, в его тоне звучит подлинный ренессансный пафос познания: «Я полагаю, что не желать выйти за пределы зримого значит наносить человеческому разумению большой вред»[77 - Ib. P. 663.].
Со всем сказанным, в конституцию Субъекта осталось добавить всего единственный пункт, но этот единственный – из важнейших. Изредка употребляя этот термин, мы пока откладывали его обсуждение: декартов субъект, «мыслящая вещь» – субстанция. В историческом контексте, это положение видится естественным и неизбежным, само собой разумеющимся: ничего иного не содержала и не подсказывала философская традиция. Но ведь мысль Декарта сразу поставила себя в особое положение! Она отвергла всякую подсказку, всякую базу традиции и объявила, что принимает в свой состав не «мнения других», а исключительно плоды собственного ясного и отчетливого усмотрения. В рамках такой позиции, положение о субстанциальности «мыслящего» априори могло и не приниматься, и его принятие – философское решение Декарта, показывающее пределы его обновления дискурса и его независимости от традиции. Значение этого решения для путей европейской мысли – и собственно в философии, и в антропологии – весьма велико и будет еще обсуждаться нами. Сейчас же мы лишь рассмотрим декартов концепт субстанции в его приложении к субъекту.
Нельзя сказать, что Декарт попросту воспринял существовавшее до него понятие субстанции, уже оттого, что это понятие заметно варьировалось (как мы, в частности, видели при обсуждении субстанции у Боэция). В его трактовке, понятие несет уловимую печать его учения, печать гносеологического поворота философского дискурса. В самом деле, вот дефиниция, данная им в Геометрическом изложении: «Всякий предмет, в котором, как в своем подлежащем (sujet) непосредственно пребывает или чрез посредство которого существует некоторый постигаемый нами предмет, т. е. некоторое свойство, качество или атрибут, реальную идею коего мы имеем в нас, именуется субстанцией»[78 - Id. Mеditations. Loc. cit. P. 391.]. С одной стороны, мы здесь вполне в русле классической этимологизирующей трактовки (субстанция = sujet = подлежащее); однако эта трактовка теперь встроена в объемлющий контекст процесса познания, в котором главная инстанция – познающий разум, субъект. По сравнению с дискурсом Аристотеля, как равно и Боэция, роль субстанции оказывается более формальной и служебной: она требуется для инвентаризации продуктов познания, т. е. всевозможных свойств явлений – как то, что способно быть носителем, «седалищем» свойств, как подлежащее или «имя существительное» в грамматике философского дискурса, к которому могут относиться атрибуты, «прилагательные». К такому смыслу понятия толкает и пояснение, следующее сразу за дефиницией: «Ибо у нас нет никакой иной идеи субстанции, точно говоря, кроме того, что она – это вещь, в которой формально существует то, что мы постигаем или то, что объективно присутствует в какой-либо из наших идей»[79 - Ib.]. Этимологической, или «грамматической» дефиниции, как известно, равносильна другая столь же традиционная дефиниция субстанции как самодовлеющего сущего; и ее мы также находим у Декарта: «Когда мы постигаем субстанцию, мы постигаем лишь вещь, существующую таким образом, что для своего существования она нуждается лишь в себе самой»[80 - Id. Principes de la philosophie. Loc. cit. P. 594.]. В такой форме – напомнили философу – дефиниция имеет теологическую некорректность; и он охотно сделал в сторону теологии реверанс, ничуть не вредящий его деистической установке: субстанция нуждается для своего существования лишь в себе самой – и, конечно же, в изволении (concours) Бога. Сам Всевышний – единственная субстанция, для которой дефиниция справедлива без оговорки; и все устроение реальности по Картезию объемлется тремя основоположными субстанциями: Бог – Дух («субстанция, главный атрибут и природу которой составляет мышление») – Тело.
Понятие субстанции дает большие удобства в проведении философских рассуждений, открывая широкие возможности для формализации философского дискурса, превращения его в алгебру понятий. Ко времени Декарта, философия знала это уже давно; но она еще недостаточно знала и сознавала, что платой за удобство оказывается бесплодие философии, утрата дискурсом творческой, порождающей способности. К чести Картезия, роль схоластической алгебры субстанций в его дискурсе невелика[81 - Мы указали бы, пожалуй, всего один важный пункт в учении Декарта, где существенно используются манипуляции субстанциями: это как раз доказательство дихотомии, совершенного различия мыслящей и протяженной субстанций. Не раз повторяемое, оно всегда имеет своим ядром положение, сформулированное в Геометрическом изложении как Дефиниция X: «Две субстанции реально различны, если каждая из них способна существовать без другой».]. В частности, это сказывается в том, что деления Я на более частные субстанции он не вводит: ни воля, ни понимание (апперцепция), ни виды апперцепции (интеллектуальное познание, воображение, чувства) не квалифицируются им как отдельные субстанции, но выступают как активности, или же предикаты Духа как единой субстанции.
В. Тело-Машина. При изучении субъекта, фундаментальная дихотомия Декарта привлекается им постоянно, анализируясь, по преимуществу, в своем духовном полюсе. Тема о теле, телесности человека также открывается обращением к дихотомии, однако теперь пристальнее рассматривается ее «протяженный» полюс. Прежде всего, вновь и вновь категорически подчеркивается непричастность тела к мышлению: «Тело не может мыслить… Мнение, что части мозга участвуют вместе с духом в образовании мыслей, не основано ни на каких положительных доводах»[82 - R. Descartes. Mеditations. Loc. cit. P. 368–369.]. Однако декартова дихотомия несет в себе не только отрицательные, но и важные положительные утверждения о теле. Как равноправный полюс дихотомии, тело – самостоятельная субстанция, т. е. существование тела не зависит ни от каких внешних для него инстанций в тварном мире, и в первую очередь – сюда и направлено острие тезиса! – не зависит от противоположного полюса дихотомии, Духа, Я. Но что такое «существование тела»? Как полюс дихотомии, «тело» означает все в человеке, что не есть мышление, – и оно понимается, тем самым, отнюдь не как одна лишь материя телесности, или совокупность телесного состава человека, но как телесность деятельная, функционирующая, как тело с работой всех его внутренних систем (коль скоро эта работа не есть мышление). Соответственно, «существование тела» есть нормальное, обычно наблюдаемое существование живого тела, попросту говоря, жизнь тела: но только с исключением всех проявлений мышления. В силу дихотомии, подобное существование не только возможно, но именно оно и есть – род, способ существования телесной субстанции. «Если бы в нем [теле] не было никакого духа, оно не прекратило бы никаких видов движений, какие совершает сейчас, когда оно движимо не приказаниями воли (тем самым, и не посредством духа), а только посредством системы своих органов»[83 - Ib. Р. 329.]. Очевидно существенное отличие от Аристотеля и всей восходящей к нему традиции: дух (душа) не требуется, чтобы сделать тело «одушевленным», живым; душа – источник не самой подвижности тела, а только некоторых его избранных активностей. По современным представлениям, это близко к тому, чтобы относить центральную нервную систему к одному полюсу дихотомии, а систему вегетативную – к другому. Можно тут вспомнить одну цитату, принадлежащую еще позапрошлому столетию: «Вопрос о взаимодействии духа и материи есть, как всякому известно, больное место картезианского дуализма»[84 - Вл. С. Соловьев. О грехах и болезнях // Он же. Соч. в 2-х тт. т. 1. М., 1989. С. 527.].
Итак, анализ телесного полюса дихотомии приводит к любопытным выводам. По ближайшем рассмотрении, этот полюс предстает как оригинальный философский конструкт: тело человека, полностью действующее, живущее, однако взятое вне мышления, лишенное мышления. Этот конструкт и есть знаменитое тело-машина, декартова идея тела. «Я рассматриваю тело человека как машину, построенную и состоящую из костей, нервов, мышц, вен, крови и кожи»[85 - R. Descartes. Mеditations. Loc. cit. P. 329.]. Нам понятна теперь философская основа этого тезиса. Практическим же воплощением его служит «Трактат о человеке», представляющий собой детальную дескрипцию картезиева конструкта, тела-машины в его работе. Как физиологическая модель середины 17 в., конструкт имеет сегодня лишь узкий историко-научный интерес, и для нас нет никаких причин входить в его содержание. Отметим только, что для Декарта, для его научных позиций, имела немалое значение сама машинность, т. е. механичность модели: построение полного механического описания человеческого организма, со всеми его функциями, было несомненным триумфом механики как Универсальной Науки о Мире. Но и механицизм Картезия нам незачем обсуждать подробней; нас занимают лишь философско-антропологические аспекты декартова подхода к телу.
Прежде всего, выяснив декартовскую идею тела, мы можем до конца уяснить и общее отношение философа к телесной стихии. Уже подчеркнутая «антиантропологическая» установка рассечения человека со всей определенностью ставит его мысль в русло дуалистической антропологии. В этом древнем русле, едва ли не древнейшем из всех, идущем от орфиков и пифагорейцев, все учения и концепции противопоставляли дух или душу телу, плоти, возвышая первое над вторым и соревнуясь между собой в резкости их противопоставления; причем основанием для возвышения духа всегда служил постулат о его Божественности, той или иной форме его причастности Божественной природе. Все эти родовые черты мы видим и у Декарта, так что его позиция, на первый взгляд, вполне традиционна, типична для данного русла – и может там помещаться где-то среди учений, достаточно крайних по резкости рассечения человека и вместе с тем, наиболее философски зрелых, отрефлектированных. Наилучший образец таких учений в додекартовой философии – неоплатонизм. Нас тянет к выводу, что ближайшим соседством для антропологии Декарта должна быть антропология Плотина, и к этому выводу еще подталкивает тот факт, что плотинов дуализм мы в свое время характеризовали почти теми же выражениями, как сейчас – «антиантропологизм» Декарта: «дуалистическое рассечение в неоплатонизме столь глубоко, что в неоплатоническом дискурсе собственно нет человека!»[86 - С. С. Хоружий. О старом и новом. СПб., 2000. С. 391.] – Однако пока наши типологические аргументы были слишком общего сорта, au vol d’oiseau. Если же обратить внимание на конкретные особенности и мотивации декартовой дихотомии человека, то родство с Плотином, как и со всей исторической традицией антропологического дуализма, драстически уменьшается. Едва ли не самой яркой, выпуклой чертой традиции всегда было негативное отношение к телу и плоти. Оттенки отношения варьировались, в них могли быть враждебность, гнушение, презрение, простое пренебрежение, суеверная боязнь… Но в спектре негативных характеристик были непременны религиозно-онтологические и аксиологические оценки. Антропологическая дихотомия всегда означала установление иерархии: два полюса человека, его духовная и телесная природы противопоставлялись как высокое и низкое, лучшее и худшее, достойное и недостойное, ценное и менее ценное… Имманентной чертой традиции была религиозно-онтологическая, аксиологическая и, как правило, этическая девальвация тела. В философии это порождало и питало тенденцию к спиритуализму, пониманию философии как философии духа, итинерария духа, устремляющегося прочь от плоти. И именно у Плотина, в его обращенном к духу призыве «бегства в дорогое отечество», спиритуалистический пафос и порыв достигают наибольшей силы. Возвращаясь же к Картезию, мы видим, что сходства, действительно, закончились. Почти ничего из описанного у него нет, но зато есть совсем иные черты. Главным и первоочередным образом, дихотомия Декарта несет эпистемологическое содержание. Философ не отвергает и онтологического аспекта: как выше мы говорили, его «гносеологический панентеизм» находит законы чистого разума непосредственно Божественными, тогда как за другим полюсом дихотомии, конечно, не утверждается подобных свойств. Тем самым, дихотомия имеет и иерархический характер. Но и то, и другое, и онтологичность, и иерархичность, для Декарта – достаточно побочные черты. У него нет никакой тенденции усиливать, акцентировать иерархичность, нет девальвации и принижения тела, тем паче, гнушения, презрения. Суть дихотомии – Картезий прав – вполне ясна и проста: из двух ее полюсов, познающим орудием служит исключительно один, дух, и всякое его смешение с другим полюсом, телом, – помеха великой миссии познания, независимо от того, хорош или плох сам по себе этот другой полюс. В Ответах на Вторые Возражения философ говорит, что те, кто утверждает причастность тела к мышлению «достаточно часто испытывали от него [тела] помехи в своих действиях, и это [их позиция] подобно тому, как если бы некто, с детства имевший оковы на ногах, решил, что эти оковы – часть его тела, и они ему необходимы, чтобы ходить»[87 - R. Descartes. Mеditations. Loc. cit. P. 369.]. Пожалуй, это – самый «анти-телесный» пассаж у Декарта, и его стиль с классическим образом оков вполне отвечает дискурсу старого спиритуалистического дуализма. Но смысл его, тем не менее, отнюдь не тот, что в традиции, он – чисто гносеологичен. Дурно не тело, а лишь чинимые им помехи познанию: ничего иного мы не прочтем нигде у Декарта.
Но надо пойти и еще дальше. Великая миссия познания, требуя отсечения всего телесного от орудий познания, одновременно ставит это же телесное, протяженное в центр как предмет познания. Разум должен быть строго отделен, очищен от всех влияний тела и мира – чтобы посвятить себя совершенному познанию тела и мира. В ряде мест Декарт эксплицирует тот порядок осуществления миссии познания, которому следует его Метод: Установление существования Я, как Первофакта – Установление существования Бога – Познание мира. Очевидно, что в данном порядке две первые задачи для него выступают как вполне обозримые, и их выполнение целиком достигается в его главных текстах; последняя же задача мыслится безграничной. Но еще более существенно другое: в рамках миссии, взятой в целом, две первые задачи неизбежно видятся как подготовительные по отношению к третьей, служащие созданию для нее базы и предпосылок. И это впечатление не обманывает. Сколь бы ни была значительна Philosophia prima, созданная Декартом, но в его эпистеме она имеет лишь ограниченные задачи, предназначаясь быть прологом, преддверием к главному и безграничному делу разума – всестороннему познанию мира, ведущему к пользе человека и общества. (Принцип пользы, полезности также занимает видное место в эпистеме). Сильней всего этот мотив звучит в разговоре с Бурманом: «Не надо особо погружаться в метафизические предметы… достаточно получить о них общее представление и запомнить выводы, иначе дух слишком удаляется от чувственных и физических предметов, а именно их рассмотрение всего желательней для людей, ибо в нем они бы в изобилии нашли то, что полезно для их жизни»[88 - Id. Entretien avec Burman. Loc. cit. P. 1381.].
Без натяжки можно сказать, что Декарту предносилась картина познания как технического прогресса, служащего источником улучшения нравов, общества и человека: картина, составляющая идеал новоевропейской цивилизации. И едва ли мы ошибемся, сказав, что эта ориентация, а точней, переориентация разума и познания – самое революционное в его учении. Мы постоянно говорили, что новизну его мысли составляет гносеологический или эпистемологический поворот, перевод метафизической проблематики в эпистемологический ракурс, или дискурс. Сейчас, однако, можно заметить, что для истории мысли было не новым, а достаточно традиционным выражать назначение разума и человека на языке познания; и исполнение этого назначения весьма часто – к примеру, во всей платонической традиции – описывалось как идеальное познание-созерцание. Кардинальное отличие Декарта – именно в направленности, в целях познания! На поверку, у него происходит полный переворот, инверсия освященной веками иерархии познания: всегда и незыблемо считалось, что разум восходит от «низких истин» эмпирии – к «вечным истинам», от наблюдения обычных окружающих явлений – к созерцанию «вещей Божественных», что бы под ними ни понималось. Но разум Картезия следует обратным путем: занявшись ненадолго «вопросом о Боге» (дабы получить от Бога водительские права), он переходит, как к самому главному и серьезному, к изучению явлений. Плотин стыдился тела, в своей философии не желал входить в связанные с ним темы, даже в ущерб полноте анализа[89 - См. примеры в нашей книге: С. С. Хоружий. Цит. соч. С. 393–394.], и страстно звал дух к «бегству в дорогое отечество», к Единому. Декарт же пишет подробный трактат о теле и не призывает разум ни к какому бегству, ни к какому созерцанию «вещей Божественных». Так ближайшее соседство – тоже реальное, не измышленное нами! – сочетается с полной противоположностью, причем почти в том же самом: в трактовке исповедуемого обоими гениями глубокого антропологического дуализма. История мысли – поучительное занятие… Конечно, Декарт не отрицает существования «вещей Божественных», но он устраняет их из горизонта познания – а по существу, и сознания, передав в ведение теологии, а от последней тщательно отгородившись, устроив для нее своего рода splendid isolation или почетное гетто. В результате, признание их существования оказывается простой словесной условностью, не влияющей на программу деятельности разума – и поворот разума в установку, всецело обращенную к миру, достигает успешного довершения. Этот поворот есть подлинная, коренная секуляризация мысли – поистине, коперниканский переворот! – и я убежден, что, по всей справедливости, сакраментальная формула должна быть переадресована от Канта Картезию.
Сказанное не может не иметь и прямо относящегося к нам, антропологического значения. Войдя глубже в картезианское отношение к «протяженному», к телу и миру, представив идейный контекст этого отношения, мы видим, что все это не заставляет изменять начальные общие оценки: конституируя телесность человека, с одной стороны, и его мышление, с другой стороны, как полюсы резкой бинарной оппозиции, декартова речь о человеке неоспоримо принадлежит руслу дуалистической антропологии. Но в этом русле она представляет собой радикально новое, революционное явление: она основывает гносеологизированный и секуляризованный антропологический дуализм Нового Времени. В терминах антропологии, его кардинальное отличие заключается в отказе от стратегии или парадигмы мета-антропологического восхождения-трансцендирования. Об этой парадигме мы еще будем много говорить ниже, даже дадим ей, на декартов манер, «геометрическую дефиницию», однако сейчас удовлетворимся предварительной характеристикой, связывающей ее со старинным языком «восхождения». Парадигма не ограничена рамками дуализма, она описывает некоторую стратегию человека, независимо от того, мыслится ли его природа цельной или рассеченной. Сама же стратегия заключается в осуществлении устремления («восхождения») Человека к Инобытию, онтологически Иному, с финалом, мыслимым как претворение в Иное, или что то же, трансцендирование, актуальная онтологическая трансформация. Реализация стратегии – онтологический и мета-антропологический процесс, который проходит человек, либо, в дуалистических концепциях, некая выделенная, избранная часть его природы, «душа». Явно или неявно, данная парадигма всегда была «подлежащим» не только христианского, но и значительно шире, религиозного мироотношения как такового. Коперниканский переворот Декарта выводит разум из этой парадигмы. В декартовой эпистеме разум не совершает онтологического трансцендирования; он изначально божествен в достаточной для себя мере и таковым остается. При этом, он может и должен усовершаться, очищая себя; и установка «очищения» есть совпадающий элемент с парадигмой восхождения. Но смысл установки уже другой: очищение декартова разума – не онтологическая, а сугубо эпистемологическая процедура, которая в дальнейшем будет осмыслена Кантом как формирование «трансцендентального» разума, или же некое сугубо когнитивное трансцендирование. (Как мы уже не раз видели, сдвиг или модуляция дискурса из онтологии в эпистемологию – типичная черта в соотношении учения Декарта с предшествующей мыслью). – Т. о., принятие, усвоение новой эпистемы несло с собою отход европейской мысли от базовой парадигмы онтологического трансцендирования. На языке антропологической модели, которую мы будем развивать в этой книге, это означает, что начали изменяться отношения Человека с его Границей. Подобные изменения – самые крупные из всех, какие возможны в ситуации Человека. Mein Liebchen, was willst du mehr?
С. Зона связи. Выше мы уже неоднократно затрагивали смешанные явления, в конституции которых принимают участие оба полюса дихотомии, и сознание, и тело. Сейчас нам предстоит дать сводное обозрение их сферы, и начать следует с того, какова же природа связи этих полюсов, их соединенности в человеке. Этот вопрос мы тоже затрагивали, заметив, что у Декарта нет его рассмотрения, хотя в его учении он встает как серьезная проблема: Что такое соединение и соединенность пространственного и непространственного, отсутствующего в пространстве? Такая лакуна симптоматична, поскольку в системе понятий Декарта имелась лишь одна возможность «ясного и отчетливого» ответа на вопрос: допущение, что элемент непространственный есть действие, а пространственный – действующий агент; а это отвечало бы отвергнутому Декартом положению «тело мыслит». Но, избегая острия проблемы, философ все же пытается дать некие формулы или образы для характеристики природы связи. В Ответах на Шестые Возражения он вводит различие между «единством природы» и «единством состава (composition)», понимая под вторым единство двух разных элементов сложного целого; и утверждает, что мыслящее и протяженное «обладают лишь единством состава, в том смысле, что они сочетаются в одном человеке, как кости и плоть в одном животном»[90 - R. Descartes. Mеditations. Loc. cit. P. 528.]. В Ответах на Возражения Арно найдем также тезис, что «дух субстанциально соединен с телом, [однако] это субстанциальное соединение не мешает тому, чтобы можно было иметь ясное и отчетливое понятие духа как полного в себе предмета»[91 - Ib. P. 447.]. Вводимое здесь понятие субстанциального соединения (union) двух всецело различных субстанций не слишком ясно, но по контексту можно предположить, что имеется в виду включенность обеих субстанций в «сущность человека», и в этом случае «субстанциальное соединение» имеет тот же смысл, что и «единство состава». Не однажды Декарт указывает, что связь духа и тела в его учении рисуется иначе, чем в платонизме (современники сразу же начали сближать новую дуалистическую концепцию с древней). По Картезию, эта связь тесней, она не соответствует платоническим образам души, использующей тело лишь как пристанище: «Я не просто помещаюсь в теле, как кормчий на судне, но я связан с ним теснейше, слит так, что составляю с ним одно целое. Иначе, когда мое тело поранено, я бы не ощущал боли… но замечал бы рану лишь пониманием, как кормчий замечает поломку в судне»[92 - Ib. P. 326.]. На этой цитате стоит немного остановиться. Платон не счел бы ее состоятельным возражением против его представлений о связи духа и тела: ощущения, о которых говорит Картезий, не принадлежат духу в платоновском понимании, для платоника и рана, и боль от раны – дела тела, и никакой тесной связи двух полюсов эта боль не доказывает. Не увидим и мы сегодня в этом доводе оснований считать, что какая-либо из двух позиций истиннее другой: несостоятелен любой дуализм, какую бы бинарную оппозицию он ни устраивал из человека. Но мы заметим, что из приведенных слов ясно выступает действительное открытие Декарта: в отличие от Платона, он включил в дух данные чувств, включил все, что мы знаем сегодня как содержания сознания; и то, что получилось, назвал «Я». Это означает, что Декарт, в самом точном смысле, открыл сознание; тогда как Платон еще сознания не открыл.
В целом, однако, смешанные явления – та сфера, где философу менее всего удается воплотить свою эпистему. Их описание далеко от строгого следования Методу, когда прежде всего полагаются немногие Первые Принципы, и затем все утверждения «ясно и отчетливо» выводятся из них, и только из них, по сформулированным правилам. Применяемая здесь эпистемология, равно как и метафизика, почти не выходит за рамки старого аристотелизма; а, в основном, Картезий здесь вынуждается быть попросту эмпириком. Хуже того: эмпирического материала постоянно недостает, и тогда описание дополняется примысливанием, которое у Декарта, увы, гораздо чаще представляет собой неумеренную фантазию, чем обоснованную научную интуицию. Аристотелев подход выдвигается с самого начала: классификация смешанных явлений, структурирование всей области их производится на основе классической оппозиции Стагирита, действие – претерпевание. Новая наука не будет так подходить к описанию явлений, но мы видим, что к старому школьному подходу тут толкает сама декартова дихотомия: требуется описать явления, которые определены как явления встречи, соединения двух природ; и наиболее общим принципом кажется разделять такие явления по тому, какая из участвующих природ служит действующей, и какая – претерпевающей.
Действие души – воления (volontеs), и к смешанным явлениям принадлежит один их определенный вид: «Есть два вида волений. Один суть действия души, в ней же и завершающиеся, как то, воление любить Бога или вообще приложить мысль к некоторому нематериальному предмету; другие же суть действия, завершающиеся в теле, как то, воление прогуляться, при котором ноги двигаются и начинают ходьбу»[93 - Id. Les passions de l'ame. Loc. cit. P. 705.]. К волениям, входящим в круг смешанных явлений, Декарт относит и воображение, хотя с оговоркой, указывающей на долю произвола в таком решении, поскольку в структуру воображения входит восприятие, элемент пассивный: «Когда душа воображает… ее восприятия зависят, главным образом, от воления, создающего апперципируемые вещи, и потому [эти явления] рассматриваются скорее как действия, нежели как страсти»[94 - Ib.]. Что касается претерпеваний души, то они имеют такие же два вида: душа может претерпевать воздействия со стороны себя самой, либо со стороны тела. Оба вида объемлются термином «восприятия» (perceptions). Кроме того, в согласии с изначальным аристотелевским смыслом понятия, все претерпевания как таковые могут обозначаться и термином «страсти» (passions): «Можно называть страстями вообще все виды наших восприятий и познания, поскольку часто не душа делает их такими, каковы они суть, и она всегда получает их от вещей, ими представляемых»[95 - Ib. Р. 704.]. Декарт, однако, предпочитает дать термину более узкое значение, выделяющее такие претерпевания души, в которых роль тела в некоем смысле минимизирована или опосредована; для них он всегда использует сочетание двух слов, «страсти души», а не просто «страсти». «Восприятия, относимые нами только к душе, суть те, действие которых ощущается непосредственно в самой душе и для которых не известно никакой ближайшей [имеется в виду, телесной] причины: таковы чувства (sentiments) радости, гнева и подобные им, которые возбуждаются в нас иногда предметами, затрагивающими наши нервы, а иногда также иными причинами… Только этот род восприятий я называю страстями души»[96 - Ib.Р. 707–708.]. Из всей сферы смешанных явлений, именно на «страстях души» Декарт сосредотачивает главное внимание, посвящая им особый трактат. Нам в ретроспективе ясна тенденция, сквозящая в этом выделении: мысль философа пробивается к тому, чтобы нащупать и выделить, очертить некую область, которая в позднейшей психологии будет областью «душевных явлений».
Понятно, однако, что «страсти души» не исчерпывают всех претерпеваний души, связанных с телом. Общим термином для всей области этих претерпеваний служат «чувства» (sens): Декарт принимает широкое значение термина, следуя за языком, который в большинстве европейских наречий, включая русское, именует «чувствами» и внешние перцепции, и душевные эмоции, и потребности (как мы помним, две последние категории у Декарта носят название «внутренних чувств»). Перечисление всего содержимого этой области найдем в «Началах»: «Есть определенные вещи, которые мы ощущаем в нас и которые нельзя отнести ни только к душе, ни только к телу, а можно отнести лишь к их тесному соединению: таковы чувства жажды, голода, эмоции и страсти души, которые зависят не только от мысли, как то, эмоция гнева, радости, печали, любви и т. д.; таковы же все чувства – света, цвета, звука, запаха, вкуса, тепла, твердости и все прочие качества, относящиеся к осязанию»[97 - Id. Principes de la philosophie. Loc. cit. P. 592.]. В совокупности с «волениями, завершающимися в теле», данное перечисление составляет полное описание области смешанных явлений. Представленная классификация этих явлений, как замечает и сам Декарт, далеко не обладает четкостью и однозначностью: в первую очередь, оттого что в сфере феноменов сознания сама оппозиция действие – претерпевание зыбка, неоднозначна и часто попросту условна. В очень многих явлениях роль души может описываться двояко, как в терминах действия, так и в терминах претерпевания: «Хотя для души хотеть (волить, vouloir) чего-то является действием, можно также сказать, что здесь у нее страсть воспринять то, чего она хочет. Здесь восприятие и воление суть одно и то же, и выбирается имя, отвечающее более благородному, так что обычно тут говорят не о страсти, а о действии»[98 - Id. Les passions de l’ ?me. Loc. cit. P. 705.]. От полной условности классификацию ограждают, однако, некоторые актуальные отличия волений души от ее страстей: «Воления… целиком во власти души, и тело может лишь косвенно изменять их, страсти же [в широком смысле любых претерпеваний], напротив, всецело зависят от порождающих их действий, и душа может лишь косвенно их изменять, за вычетом тех, причина которых она сама»[99 - Ib. P. 715.].
Рассмотрение феномена «страстей души» в общем контексте учения о душе (духе, Я, сознании) – центральная задача психологии Декарта и ее главное содержание. В решении выделить эти явления, положив их в основу особого антропологического раздела, промежуточного между учением о духе и учением о теле, философ достаточно традиционен; начиная с античности, общие представления о человеке, антропологические концепции и учения практически всегда выделяли меж сферами Разума и Тела, Плоти некую промежуточную область. Она долго не могла получить четких границ и даже определенного названия, пока наконец в рамках христианской трихотомии человека за ней не был закреплен аристотелев термин «душа», понимаемый, однако, в значительно измененном и суженном смысле. Учение Декарта – важный, но еще далеко не завершающий этап в этой эволюции души и конституции психологии: «душа» еще сохраняет у него старое значение, однако в понятии «страстей души» и в развитии учения о страстях его мысль, как мы отмечали, уже продвигается к оформлению особой предметной области «душевных явлений». Чтобы оценить это продвижение, следует рассматривать психологию Декарта в сопоставлении с двумя референтными дискурсами, между которыми она располагается в истории предмета: разумеется, с воззрениями современной научной психологии, но также и с позициями древней практической психологии христианской аскезы, в рамках которой было впервые развито учение о страстях.
Трактат о страстях открывается и строится как строгий научный текст, желающий дать систематическое описание-исследование определенной области явлений. Эта область прежде рассматривалась с сугубо ошибочных позиций, и свой подход Декарт представляет всецело новым: «Я должен буду писать так, как если бы рассматриваемые предметы до меня никто не затрагивал»[100 - Ib. Р. 695.]. По правилам своего Метода, он начинает с построения эпистемологической базы: определяется круг объектов и процессов, устанавливаются главнейшие отношения между объектами, указываются главнейшие механизмы, управляющие процессами. Вводятся основные понятия, подлежащие изучению: воления, восприятия, страсти в широком значении, страсти души; устанавливаются взаимосвязи и наиболее общие свойства этих понятий. Далее, вслед за созданием базы ставится и решается первая крупная проблема: построение полной системы страстей души. Решение осуществляется с помощью единого принципа: поскольку «главные и стандартные (ordinaires) причины страстей… предметы, действующие на чувства… следует лишь рассмотреть по порядку, какими различными способами наши чувства способны возбуждаться действующими на них предметами»[101 - Ib. Р. 722–723.]. В итоге, выстраивается обширная номенклатура страстей, которая дополняется их классификацией и наделяется богатой структурой. Главный принцип структуры – выделение шести «первичных» (primitifs) страстей: восхищение, любовь, ненависть, желание, радость, печаль; «все прочие суть комбинации каких-либо из этих шести, либо их разновидности»[102 - Ib. Р. 728.]. Каждая из первичных страстей подвергается отдельному анализу; для первичных страстей, а также и для большинства остальных описывается их внутренний механизм, посредством которого они порождаются и действуют. Отдельно описываются и систематизируются внешние проявления страстей. Легко согласиться, что названные результаты образуют солидный фундамент учения о страстях. Успешно завершив возведение этого фундамента, в заключительной части трактата Декарт переходит к рассмотрению более частных проблем: особенности отдельных страстей, способы и стратегии обращения души со своими страстями, возможности воздействия на них, и др.
Это резюме трактата не стилизовано нами специально под описание современной научной работы: текст Декарта действительно написан так, он подчинен правилам организации научного дискурса, почти в современном понимании этих правил. Тем не менее, резюме еще далеко не дает полного представления о трактате. Мы описали задачи, которые ставит и решает текст: так сказать, уровень замысла. Не описали же мы пока, как текст решает эти задачи – т. е. уровень исполнения. И едва мы переходим на этот уровень – за наукообразным фасадом открывается самая причудливая картина. Дело в том, что, желая построить научное учение о страстях, философ начинает применять свой принцип дихотомии души и тела в такой сфере, где он теряет почву реальности и становится измышлением, влекущим на путь грубых фантазий. Дихотомия Декарта была философским (эпистемологическим) открытием, проложившим путь к конституции нужнейших для философии и психологии концептов – Эго, Сознание, Субъект. Но в сфере учения о страстях философ принял ее в качестве естественнонаучного принципа – и на базе этого принципа принялся строить прямолинейные описания того, как именно «душа» эмпирического человеческого существа претерпевает действия «тела», рождая определенные страсти. То была ошибка, которую хорошо выразил некогда Антоша Чехонте: если можно сказать «я друг этого дома», это еще не значит, что можно сказать «я друг этого кирпичного дома»; наука же называет такую ошибку употреблением понятия или приема вне сферы его корректного применения. Далее, чрезмерная вера Декарта в свою дихотомию совокупилась с чрезмерной же верой его в механику – и, увы, весь «научный аппарат» его учения о страстях есть плод сего нездорового совокупления. Незадолго до текста о страстях, в начале 40-х годов, был написан «Трактат о человеке», где Декарт развил механико-физиологическую модель тела-машины: модель затейливого переплетения системы разнообразных трубок, по которым под действием чисто механических сил циркулируют разнообразные жидкости, пары, тонкие и грубые частицы. В учении о страстях философ распространяет эту модель с описания телесных функций на функции сознания. Результат мог быть только плачевным: если в первом случае возникает любопытный и даже, пожалуй, героический пример законченного механистического редукционизма, то во втором редукционизм соединяется с полным вымыслом. В трубочную механику требовалось включить прямые переходники от тела к душе, аналоги перцептивных механизмов в модели тела. Но для эмоций и страстей подобных аналогов не существует, и в модель вводятся чисто фантастические элементы: переходный пункт из одной природы в другую (уже упомянутый conarium, эпифиз, где якобы сосредоточены все функции души), а также особая передаточная среда, «некий весьма тонкий воздух или ветер, именуемый животными духами (esprits animaux)». Эти-то два агента и выполняют всю работу: для каждой из страстей философ измышляет свой механизм или пожалуй сценарий их совместной деятельности. В итоге же, на месте предполагавшейся научной теории страстей оказывается мыльная опера «Похождения Шишковидной Железы и Животных Духов».
Если механическая модель служит для описания внутреннего механизма страстей, то для построения их системы и установления их взаимосвязей используется по преимуществу другой дискурс, базирующийся не на данном механизме, а на непосредственном наблюдении и обычной логике. Так, восхищение Декарт ставит на первое место, в вершину всей системы страстей, на том основании, что это самая непосредственная из страстей, способная вспыхнуть до всякого познания вещи; надежда, опасение, ревность, уверенность и отчаяние объединяются вместе, в одну группу, оттого что все они выражают разные степени обладания или не-обладания некоторым желаемым благом; и т. д. Как ясно уже из этих примеров, это отнюдь не дискурс, строимый на философских концепциях или научных доказательствах, и ни из каких немногих общих Первоначал, как следовало бы по Методу, декартова система страстей не выводится. Гораздо ближе мы здесь к дискурсу простого морализма, «житейской мудрости», который имел расцвет во Франции и во всей Европе в 17 в. В этом жанре большой простор субъективности, и важное значение приобретает личность философа; лучшие образцы жанра – те, в которых за текстом ощутимы высота духа, пронзительность видения человеческой натуры, особое богатство опыта… Но этих свойств не демонстрирует текст Декарта; пред нами скорее морализм средней руки – и средней души: во всем сквозят умеренность, добропорядочность, осторожность, так что в аспектах личных Декарт тоже кажется близок к Канту (хотя тот несравненно прямодушнее).
Наконец, как мы замечали, следует сопоставить декартов опыт психологии, в качестве ближайших референтных дискурсов, с научной психологией и с аскетикой. Сопоставление с первой уже, по сути, проделано; стоит разве что добавить один момент. При создании новой научной области, одна из главных задач – отыскание, формирование, конституция системы или хотя бы отдельных базовых понятий данной области, выражающих специфическую, несводимую природу ее явлений. Но подход Декарта, принципиально редукционистский, не ставит такой задачи, и это с самого начала ограничивает его возможности на пути к научной психологии. Что же касается аскетики, то сам Декарт не раз отмечает, что в трактовке различных страстей и их отношений его учение отличается от принятого церковного учения о страстях; последнее же, в целом, следует подходу аскетики. При этом, однако, все указываемые им расхождения восходят скорее к терминологии, к исходному пониманию страсти: аскетическое понимание имело практические генезис и основу, оно рождалось из опыта раннехристианского монашества и вовсе не ориентировалось на Аристотеля; более узкое декартово понятие «страстей души» подходило ближе к нему, но также отнюдь не совпадало полностью. Но главные отличия трактовки Декарта от аскетической традиции совсем не в этом, они много глубже. Независимо от терминологии, от дефиниций, сам феномен страстей, вся область их обладали для Декарта совершенно иным смыслом, ибо интегрировались в иную общую антропологическую парадигму. Для аскетики страсти были препятствием на пути восхождения к Богу: восхождения, в котором виделись смысл и назначение человека (и которое в наших терминах значило не что иное как вышеупомянутое «мета-антропологическое восхождение-трансцендирование»). Такой взгляд имплицировал предельно активное отношение к ним, и главным предметом аскетического учения о страстях было их преодоление, а затем искусство избегать самого зарождения их. Но, как мы говорили, мысль Декарта покидает парадигму мета-антропологического восхождения-трансцендирования, – и именно это коренное обстоятельство влечет главные различия двух подходов к страстям. Исчезает стратегия претворения человеческой природы – ergo, исчезает и задача общего преодоления, искоренения страстей в целом, как таковых. Обращение души со страстями, по Декарту, – не борьба, а балансирование, соизмерение, расчетливая коммерция; и финальный вывод его трактата гласит: «Мы видим, что все они [страсти] по природе благи»[103 - Ib. Р. 794.]. – Различие, на поверку, оказывается кардинальным. В аскезе страсти – религиозный, онтологический и психологический феномен; в деистической секуляризованной парадигме Декарта остается лишь чисто психологический аспект, и при этом этическая оценка явления меняется диаметральным образом.
* * *
Итак, нам представились, по очереди и по отдельности, разделы учения Декарта, относящиеся к человеку. Далее, как предполагалось, мы должны дать характеристику целого, сложив из частей некоторый общий облик человека Картезия. Желая увидеть такой облик, мы должны, прежде всего, поставить вопрос: чем объединяются у Декарта описанные части, Субъект-Сознание, Тело-Машина, Сфера Смешанного? Каковы у него идеи, понятия, установки – вообще, любые «параметры» – которые относятся разом ко всем этим частям и тем самым характеризуют человека-в-целом, человека как определенное единство? Ответ оказывается затруднительным. Вновь обозревая учение, только что подробно описанное, мы как будто нигде не обнаруживаем нужных предметов. Это озадачивает нас и заставляет задать следующий вопрос: а какие собственно предметы должны были обнаружиться? Что должно входить в эти объединяющие, интегральные понятия и параметры, коих мы искали и не нашли? Установить их исчерпывающую систему было бы, пожалуй, еще затруднительней, но в этом и нет нужды; мы можем удовлетвориться главными видами, которые достаточно очевидны. В первую очередь, к характеристикам человека-в-целом принадлежат те антропологические понятия, которые являются и онтологическими, характеризующими сам способ бытия человека: таковы понятия, выражающие фундаментальные предикаты данного онтологического способа (как то, конечность, смертность) или прямо связанные с ними. Они усиленно изучались в экзистенциализме, причем исходной задачей изучения всегда ставилось именно обоснование и удостоверение их онтологической природы, сущностного отличия их от простых психологических категорий. Общеизвестными примерами их служат бытие-к-смерти, забота, тревога и проч. Заметим, что признание их онтологическими, а тем самым, и интегральными характеристиками человека отнюдь не требует принятия той или иной экзистенциалистской доктрины: оно вытекает из их принадлежности основоустройству смертности или иного предиката бытия человека. Мы будем называть этот род понятий экзистенциальными предикатами. Далее, в круг интегральных характеристик входят понятия и установки религиозной жизни: всегда и во всех обществах, вплоть до появления глубоко секуляризованных, религиозная сфера была главным и самым явным источником и примером, ареной проявления человека-в-целом. В своем доктринальном выражении религия и религиозность могли быть дуалистичны, спиритуалистичны, могли исключать «плотского человека» из отношения к Инобытию, но в антропологическом аспекте это не меняло дела: самореализация человека в орфическом культе, как и в холистической духовной практике, была его целостной, интегральной активностью; разве что деистическая религиозность, как редуцированная форма, прямо предшествующая секуляризации, может быть исключением из этого правила. И наконец, в число основных видов интегральных проявлений следует включить проявления интерсубъективные, феномены человеческого общения. Как не раз демонстрировала, обосновывала современная философия – убедительнее всего, вероятно, Левинас, хотя в христианской мысли разных эпох также можно указать яркие утверждения этой идеи, – отношение к Другому (другому человеческому лицу, «ближнему» и т. п.) тоже должно рассматриваться как онтологический предикат, оно выступает в антропологической структуре не одним из частичных и частных отношений, но как отношение целостное и личностное, конституирующее для человека-в-целом.
Итак, дискурс религиозной жизни, мир интерсубъективности, межчеловеческого общения, экзистенциальные предикаты – все это суть аспекты и измерения человека-в-целом, элементы его основоустройства. (Повторим, список может быть и продолжен, мы не стремимся к полноте). Все эти аспекты и измерения, действительно, практически отсутствуют в дискурсе Декарта, разве что при тщательном разыскании мы найдем какие либо их бледные и умаленные подобия, тени. Так, в «Страстях души» есть и некая трактовка любви. Здесь, в виде исключения, томистская теология созвучна Декарту и помогает ему, ибо она утверждает первичность познания по отношению к любви. (Как мы показывали[104 - С. С. Хоружий. К феноменологии аскезы. М., 1998. С. 214–216.], позиции православной мысли в этом противоположны). Декарт усиленно акцентирует этот примат познания, замечая, в частности, что, когда он соблюден, то никакая любовь не может быть чрезмерной, в том числе и любовь к себе самому. Но и не только познание первичней любви. «Более первична и необходима… ненависть, чем любовь, поскольку важнее отбрасывать вещи, что могут вредить и разрушать, чем приобретать такие, что добавляют какие-либо совершенства, без которых можно просуществовать»[105 - R. Descartes. Les passions de l’ ?me. Loc. cit. P. 759.]. Описываемая здесь человеческая способность, «без которой можно просуществовать», абсолютно не совпадает с той, что признается верховным началом и религиозной, и интерсубъективной сфер. Поэтому имя, сохраняемое за этим ублюдочным конструктом, может лишь ввести в заблуждение: в действительности, в учении Декарта нет любви, как нет в нем и смерти (есть только списание отслужившей машины), нет Бога Авраама, Исаака и Иакова и нет еще многих вещей, отмеченных нами и не отмеченных. Для верной оценки нельзя не взглянуть на откровение Декарта в свете откровения Паскаля. Мы видели, что приобрел Декарт, а следом за ним и все человечество, воплощая откровение новой эпистемологии: приобрели цельную эпистему, перспективу видения и способ познания, максимально ориентированные к целям полезного освоения мира, на современном языке, научно-технического прогресса. Но за эти приобретения, как тоже видим, пришлось расплачиваться утратами; и сегодня вновь человечество усиленно размышляет, является ли плата оправданной.
Чтобы откровение о новом способе знания стало превращаться в учение, Декарту необходим был прежде всего исходный плацдарм, «малейший спасенный кусочек», как скажет Гуссерль: образчик, островок нового знания, безусловно обладающий его свойствами. Эти искомые свойства с самого начала предносились ему как те, которыми мы сегодня определяем строгое научное знание; и он резюмировал их в знаменитой формуле, унаследованной современной феноменологией: знание достоверное, ясное и отчетливое, clara et distincta perceptio (intellectio, visio, contemplatio). Формула несла у него очень емкое содержание; в частности, как он разъяснял, условия ясности и отчетливости вовсе не повторяли друг друга: «Я называю ясным такое знание, которое налично и явно для внимательного духа… отчетливым же такое, которое настолько четко (prеcise) и отлично от всех других [познанных содержаний], что объемлет в себе лишь то, что обнаруживается надлежаще рассматривающему его»[33 - R. Descartes. Principes de la philosophie. Loc. cit. P. 591.]. Поэтому философию Декарта открывает образцово-показательный познавательный акт, в котором добывается первый пример, эталон ясного и отчетливого, несомненного знания. Как сегодня известно каждому, первенцем и краеугольным камнем нового способа познания явилось положение: Cogito ergo sum; Я мыслю, следовательно, я существую. Описание акта, впервые данное в «Методе», затем повторяется с малыми вариациями во всех основных текстах. Ядро познавательного метода, главное орудие продвижения к истинному знанию, составляет, как говорит Декарт, установка радикального сомнения. Как правило, ее чрезвычайно акцентируют, следуя за самим философом, который в часто цитируемых пассажах из Части 4 «Метода» описывает ее в весьма сильных выражениях: «Если единственным моим устремлением служит поиск истины,… необходимо, чтобы я отбросил как абсолютно ложное все то, в чем я могу вообразить хотя бы малейшее сомнение… Поскольку наши чувства иногда нас обманывают, я предположил, что нет вообще ничего, что было бы в самом деле таким, как они показывают… Я отбросил все доводы, которые прежде принимал как доказательства [в математике]. И наконец, я решил считать, что все вещи, приходящие мне на ум, не более истинны, чем видения моих снов»[34 - Id. Discours de la Mеthode. Loc. cit. P. 147.]. Стоит, однако, сказать подробней о сомнении у Декарта: на поверку, оно не так радикально, как можно решить из этого описания, и гораздо более функционально, служебно. Декартово сомнение ограничено, так сказать, и в начале, и в конце. В Части 3 «Метода» он сам пишет, что развивал установку сомнения лишь с целью отыскать несомненные основания для намечаемого строительства: «Я вовсе не подражал скептикам, что сомневаются ради того, чтобы сомневаться, и настаивают (affectent), будто они никогда не выносят никаких решений, ибо все мои цели, напротив, были лишь в том, чтобы увериться и отбросить зыбкую почву и песок, найдя глину или камень»[35 - Ib. P. 145.]. (Это методологическое сомнение Гуссерль затем признает вполне совпадающим с одной из главных исходных установок феноменологии, «трансцендентальной ?????»). Когда же камень найден, и на нем начато строительство, Декарт резко ограничивает свои сомнения: мавр сделал свое дело. Об этом философ уже не заявляет во всеуслышание, но мы видим, что в отношении своей метафизики он почти полностью отвергает сомнения оппонентов (кои не все безосновательны!) и не выдвигает никаких собственных, которые могли бы вести к развитию, углублению основ учения; а в естествознании он даже обнаруживает явную нехватку критического сомнения, следуя за своими непроверенными фантазиями. В целом можно сказать, что доминирующий пафос мысли Декарта – никак не скептический релятивизм, которым всегда заканчивали адепты тотального сомнения, но прямо обратное: пафос безграничной постижимости всего, доступности всех вещей самому надежному, истинному познанию. Бесспорно, что этот заразительный, завораживающий пафос распахивающегося неограниченного простора – не для фантазий, но для постижения новых и новых подлинных истин! – крайне содействовал историческому успеху философии Картезия.
Ниже мы вернемся еще не раз к акту вывода Cogito, в нем есть целый ряд важных для нас моментов. Но сейчас последуем дальше за философом. Убедившись в несомненном существовании мыслящего Я, он желает точней увидеть и описать этот форпост истинной реальности – и очень быстро, на протяжении одного абзаца, заключает, что в нем не содержится абсолютно ничего, помимо самой определяющей его мыслительной активности. Вывод достигается путем эвристического приема, который Декарт будет применять постоянно и который можно назвать приемом мысленного отъятия: если возможно «ясно и отчетливо», не воображением, а аналитическим разумом, представить себе нечто одно существующим без другого, то это другое не принадлежит к сущности или природе первого. В данном случае, таким путем от мыслящего Я отсекаются все телесные свойства и предикаты, всякая связь с телом, а также и с любым местом и пространством: со всем порядком пространственной и материально-телесной реальности, который Декарт характеризует одним предикатом протяженности (extensio, etendue), находя его главным и достаточным. (Как сформулирует он поздней, «природу тел составляет лишь протяженность, а не вес, твердость, цвет и т. д.»[36 - Id. Principes le la philosophie. Loc. cit. P. 612.]. В итоге, «Я есть субстанция, вся сущность или природа которой только в том, чтобы мыслить, и которая для своего бытия не нуждается ни в каком месте и не зависит ни от каких материальных предметов… Я, т. е. душа, посредством которой я есть то, что я есть, целиком отлична от тела… и если бы его вовсе не было, она не перестала бы быть тем, что она есть»[37 - Id. Discours de la Mеthode. Loc. cit. P. 148.]. Я или Дух, или Душа, или Мысль (Мышление) – все это у Декарта синонимы – есть лишь исключительно «мыслящая вещь», «вещь, которая мыслит»; и «дух человека не причастен ни к чему, принадлежащему телу»[38 - Id. Mеditations. Loc. cit. P. 301.]. Так прямое развитие философского рассуждения, где добывается первая истина Декарта, незамедлительно приводит философа ко второй истине, не менее кардинальной: к фундаментальной дихотомии Мыслящее – Протяженное, Res Cogitans – Res Extensa. Как все свои основоположения, Картезий в дальнейшем не устанет повторять эту истину, заново воспроизводя ее вывод, глубже обосновывая, шире развертывая. Он подчеркнет, что и тело, в свою очередь, всецело отлично от «души», т. е. мышления и сознания, и не нуждается в ней для своего существования, всей своей нормальной активности (и это – новаторский, неаристотелев тезис, из которого вырастает идея человека-машины, механистическая концепция телесной деятельности). Будет установлен набор свойств обеих природ: душа проста, неделима, а потому и неразрушима, бессмертна; тело сложносоставно, подвержено повреждению и разложению, смертно. Два набора не совпадают ни в чем, и формулировка дихотомии заостряется: «Две природы не только различны, но неким образом противоположны»[39 - Ib. P. 263.]. При этом, термин «Я» удержан сугубо за «вещью мыслящей» (ср.: «Я абсолютно отрицаю, что являюсь телом»[40 - Ib. P. 479.]); термин же «человек» нередко – как, скажем, в названии «Трактат о человеке» – обозначает человека телесного, и тогда то целое, которое человечество привыкло считать человеком, остается вовсе без имени; но все же чаще философ, по нуждам изложения, сохраняет имя человека для совокупности, двоицы Дух и Тело. Однако в любом случае, в дискурсе Декарта «Я» не есть «человек», а есть отделенная от всего телесного и пространственного чистая мыслительная активность, которую он, как мы видели, полагает субстанцией; это – метафизическое Эго, или же «познающий субъект», оказавшийся столь ценным для последующей философии.
Таким образом, вторая истина Декарта вполне уже вводит нас in medias res, в средоточные идеи и темы его мысли. Но, прежде чем перейти к их антропологическому содержанию, целесообразно еще отметить некоторые глобальные черты декартова учения и, в первую очередь, увидеть его общие онтологические позиции. Задавшись этой последней целью, мы замечаем, что отношение декартова дискурса к онтологии своеобразно: он как бы уклоняется, уходит от нее по касательной. Хотя все главные сочинения философа построены как систематические, фронтальные изложения его учения ab ovo – и в их числе, в ответах на Третье возражение к «Медитациям», есть даже изложение ordine geometrico с дефинициями и аксиомами – мы тем не менее нигде не найдем отдельного свода его онтологии, хотя онтология всегда и твердо считалась основной частью метафизики, метафизикою par excellence. Это, однако, не должно удивлять нас: с самого начала мы подчеркивали, что уже «весть» Картезия, исходная движущая интуиция его мысли, носит не онтологический, а гносеологический характер, как весть о новом способе знания; и эта гносеологическая, когнитивная ориентация не утрачивается никогда, настойчиво проводясь философом во всех текстах. Достаточно всего одного примера: в «Началах», последнем суммарном изложении всего учения, Декарт, описывая строение «истинной философии», говорит, что первая часть ее – метафизика, «содержащая принципы познания», – а не положения о Боге, бытии и мире, как формулировала бы школьная традиция; и далее он включает в эту философию все естественные науки, приходя к знаменитой формуле: «Философия подобна дереву, корни которого – метафизика, ствол – физика, а ветви – все другие науки, сводящиеся к трем главным, медицине, механике и морали»[41 - Id. Principes de la philosophie. Loc. cit. P. 565.]. Отсюда явствует, что «истинная философия» понимается и строится у Картезия отнюдь не по образу привычной системы основоположений, открываемой положениями онтологическими, но как полная система познавательных принципов и установок во всех сферах реальности: на современном языке, эпистема. В подобной структуре онтология оказывается скорей имплицитной, возникающей при развертывании эпистемы как приложение и следствие констатируемых «принципов познания». (Ниже мы вернемся к значению этого революционного эпистемологического поворота метафизического дискурса). – Помимо того, к уклонению от онтологии, к минимизации онтологического дискурса вела и другая, внешняя уже причина. Онтология – в самом ближайшем соседстве с теологией, а в отношениях с сей последней, как широко известно, философ был до крайности опаслив и осторожен. Тут даже нет нужды в знании фактов биографии: регулярные заверения в его текстах о полном признании всех прерогатив теологии, об уважении ее границ, отказе вступать на ее суверенную территорию говорят сами за себя[42 - Должно быть, конечно, и исключение, подтверждающее правило: в хорошую минуту, в разговоре с располагающим собеседником (молодым Бурманом), Картезий говорит о теологии совсем иначе.]. Для опасений и осторожности были все основания: независимо от того, насколько открыто выражались теологические аспекты учения Декарта, это учение и по существу, и по духу радикально расходилось с христианской (даже не обязательно католической) теологией своей эпохи. Эпистема Декарта – эпистема Нового времени, устав секуляризованного разума, который до конца отделил себя от теологии и поверяет себя, свою деятельность только собственными нормами. Чтобы убедиться в этом, достаточно беглого взгляда на концепцию Бога у Декарта и ее функцию в его учении.
«Под именем Бога я понимаю субстанцию бесконечную, вечную, недвижимую, независимую, всеведущую, всемогущую и которою сотворены и произведены я сам и все другие вещи»[43 - R. Descartes. Mеditations. Loc. cit. P. 299.]. Такова, по Декарту, «идея Бога», имманентно присутствующая в нашем разуме. Слишком известно, и мы не будем на этом останавливаться, что, полагая идею Бога одной из врожденных данностей мышления (ср.: «Мы не могли бы вспомнить, когда наша идея Бога была нам сообщена Богом, ибо она всегда была в нас»[44 - Id. Principes de la philosophie. Loc. cit. P. 580.]), Декарт прямо и быстро заключает от этой данности к существованию Бога, развивая некую версию онтологического доказательства, нисколько не новую в основной логике, однако, сравнительно с прежними версиями, смещенную более в гносеологический план, по общей природе картезианского дискурса. Философ придавал большую важность этому доказательству, и вовсе не только оттого, что, как дело богоугодное, оно могло быть свидетельством его христианской благонадежности. Существование Бога критически важно для самого декартова учения, причем в его ключевой части, концепции познающего разума. Разум имеет связь с Богом, и именно эта связь, только она, может обеспечить то, что деятельность разума, познание, доподлинно ведет к знанию истины. В самом деле, «Бог есть источник всякой истины»[45 - Ib. P. 563.], и способность к познанию, которую Декарт именует «природный свет», дана нам, вложена в нас Им; и отсюда следует, что «все, что мы ясно познаем как истинное, является истинным… ибо иначе у нас были бы основания считать Бога обманщиком»[46 - Ib. P. 584.]. Это также значит, что «истина и достоверность всякой науки зависят от знания об истинном Боге: покуда я не имею этого знания, я не могу совершенно знать что бы то ни было»[47 - Id. Mеditations. Loc. cit. P. 317.]. Понятийный комплекс Бог – Истина – Разум – Познание наделяется у Декарта богатой системой логических импликаций и концептуальных взаимосвязей, в совокупности охватывающих почти весь фундамент его эпистемологии; в частности, сюда входит и знаменитая его тема о «невозможности Бога-обманщика». Нам, однако, не требуется рассматривать эту систему во всей полноте; для общей характеристики (квазиимплицитных) теологии и онтологии Декарта достаточно выделить некоторые отдельные звенья.
Заметим, прежде всего, траекторию декартовой мысли: эта мысль приходит к Богу, отправляясь, как в любом его рассуждении, от своего постоянного и единственного первопринципа – мыслящего Я. (ср.: «Бытие или существование нашей души или нашего мышления я принял за Первопринцип»[48 - Id. Principes de la philosophie. P. 563.]). Затем, убедившись в существовании Бога и эксплицировав набор основных атрибутов идеи Бога, мысль весьма скоро вновь возвращается к сознанию; но она возвращается, так сказать, не с пустыми руками. Вследствие доказательно установленного существования Бога – и с некоторыми допущениями о характере своей связи с Богом (неповрежденность этой связи никаким искажением, «обманом Бога»[49 - Заметим, что Декарт нигде не принимает в рассмотрение самый стандартный аргумент: связь Бога и человека, познающего разума, может принять – более того, актуально приняла! – поврежденный характер отнюдь не вследствие «обмана Бога», но вследствие падения, падшего состояния человеческой природы. Формально, такое умолчание может оправдываться его установкой «воздержания от теологии». Однако, по существу, поскольку данное теологическое положение имеет прямые эпистемологические импликации, его неучет при построении эпистемологии заведомо не оправдан. В свете онтологических позиций Декарта (о них см. ниже), можно сказать, что de facto он признает предикат падшести за телесной природой, но не признает его за познающим разумом.]) – сознание обретает гарантии своей состоятельности, достаточности своих средств и критериев для актуального достижения истины обо всех вещах. После этого мысль Декарта уже больше не обращается к учению о Боге – и мы имеем полное право заключить, что лишь гарантии-то и были целью экскурсии в горний мир. Проделанный мыслью путь Сознание – Бог – Сознание предстает своеобразным аналогом марксовой операции Товар – Деньги – Товар, а Бог выступает источником произведенной «прибавочной стоимости» – кардинального атрибута истинности всех ясных и отчетливых содержаний сознания (разума). С приобретением этого атрибута разум становится способен к полностью самостоятельному осуществлению высшей цели своего существования, которую «весть» Декарта с самого начала утверждала в построении «совершенной науки обо всем множестве вещей». Что же касается Бога, то при всей важности Его роли как единственного источника и гаранта полноты возможностей разума, нельзя не увидеть, что по существу эта роль есть роль гаранта собственной ненужности: возникающая картина реальности включает существование Бога лишь в качестве некой «закадровой предпосылки», формального разрешения на существование всего происходящего. Само же происходящее, весь мир – арена деятельности разума, всецело полномочного и действующего по собственным законам, сколь бы философ ни добавлял, что эти полномочия и законы – от Бога. Бог Декарта – внешний и бесконечно удаленный гарант истины, вытесненный за пределы всего процесса существования мира и самоосуществления мыслящего разума. Естественно, что, продолжая развиваться в декартовой установке истинности и достаточности своих законов – и достигая блестящего прогресса на этом пути – научный разум все менее ощущал нужду во внешнем гаранте. Наследником Картезия не мог не стать Лаплас, который уже полностью «не нуждался в этой гипотезе».
Итак, теологические позиции Декарта раскрываются как позиции деизма и секуляризации мысли. Что касается онтологических позиций, то они менее революционны. Декарт не имел здесь новых идей, и мы видим, как его дискурс примыкает к тем руслам и концепциям, что могли представляться близкими, созвучными его эпистеме. Очевидно, что онтологической базой для утверждения Богоданных, укорененных в Боге – в этом смысле, Божественных – способностей и прав разума могла хорошо служить онтология мира-в-Боге, восходящая к христианскому платонизму классической патристики и не столь задолго до Декарта мощно и впечатляюще развитая Николаем Кузанским. Декарт знал сочинения Кузанца, упоминал их, и в истории мысли их имена рядом, как имена ключевых фигур в становлении новоевропейского мировоззрения. Но если в развитии установок секуляризации Декарт уверенно уходит вперед, то в области онтологии его мысль – скорей вариации на темы Кузанского, темы онтологии мира-в-Боге (что, конечно, объясняется вторичностью и имплицитностью онтологии в его дискурсе). Как известно, онтология мира-в-Боге, или панентеизм, принимает, что вещи и явления тварного мира наделены идеальной сущностью, которою они причастны Божественному бытию, суть в Боге; и соответственно, мир в целом также присутствует в Божественном бытии своей сущностью, которая и есть мир в Боге. Суждения и положения в текстах Декарта, несущие онтологическое содержание, как правило, согласуются с этой онтологической парадигмой, а некоторые даже воспроизводят ее типичные формулировки: так, он упоминает «семена истины, сущие в наших душах» (вариация патриотического понятия «семян-логосов»), говорит, что «Бог, творя меня, вложил в меня эту идею [идею Бога] как печать мастера на своем изделии»[50 - R. Descartes. Mеditations. Loc. cit. P. 300.] (метафора с явно панентеистским смыслом) и т. п. С другой стороны, однако, панентеизм был слишком близок к платоновскому учению об идеях, ко всему руслу платонизма, с которым заметно расходилась декартова эпистема (ниже мы еще будем обсуждать их соотношение). Поэтому онтология Декарта не есть полностью ортодоксальный панентеизм, каким он дан, в первую очередь, у Кузанца; но все же, как мы увидим сейчас, эта онтология еще остается в пределах панентеистской парадигмы.
В заключительной, Шестой Медитации мы читаем: «Все, чему учит меня природа, содержит некую истину. Ибо под природой, в общем смысле, я разумею не что иное как самого Бога, или же тот порядок и устройство, какие Бог устроил в сотворенных вещах. В частности, под моей природой я понимаю совокупность всего, данного мне Богом»[51 - Ib. P. 326.]. Эти слова – несомненная декларация панентеизма: ибо, как заявляется здесь, «порядок и устройство, какие Бог устроил в сотворенных вещах», Декарт не отличает от «самого Бога» – т. е. признает их непосредственно сущими в Боге, Божественными. Но мы должны при этом учесть, что эти слова, как и весь текст Декарта, надо читать в гносеологическом дискурсе. «Порядок и устройство» тварных вещей суть, как выразится позднейшая философия, не эмпирические, а умопостигаемые их свойства; в своем чистом, истинном виде они открываются и существуют в познании, в разуме: принадлежат собственно к его сущности. Акцент цитаты смещается, и ее смысл оказывается совпадающим со смыслом обширного ряда высказываний Декарта, которые все говорят одно: именно законы разума, очищенные от искажающих влияний чувственных восприятий и воображения, – т. е. сущность разума – философ полагает непосредственно Божественными. Сущность познающего разума, его законы и нормы, порядок и устройство: по Картезию, это и есть «мир в Боге»! И мир в Боге этим исчерпывается: можно убедиться, что никаких иных содержаний Декарт в нем не предполагает. Уже здесь видно различие с концепциями панентеизма и платонизма, мыслящими мир в Боге, умопостигаемый мир, куда более расширительно, в частности, с присутствием в нем «семян» и чувственных, телесных вещей. Но более существенно другое отличие. Мы видим, что связь Бога и мира остается у Декарта сущностной, эссенциальною связью, однако эта связь теперь утверждается в специфическом гносеологическом повороте. Разум есть когнитивная инстанция, не сущее как таковое, а сущее познающее, «вещь мыслящая»; и это значит, что сущностная связь Бога и мира актуализуется в познании и есть существенно когнитивная связь. – В итоге, онтологическая позиция Декарта выступает как панентеизм, подвергнутый модуляции в гносеологию, перенесенный в гносеологическое измерение: кратко, гносеологический или эпистемологический панентеизм.
* * *
Из сказанного уже совершенно прозрачно, что антропология Декарта есть по своему существу анти-антропология: ибо ее исходный и главный тезис о человеке есть тезис о его отсутствии в качестве целостного единства. Мы, разумеется, имеем в виду то, что назвали выше «Второй истиной» Декарта: положение о дихотомии Res Cogitans – Res Extensa. Очевидным образом, это положение несет антропологический смысл, устанавливая фундаментальное рассечение человека. Как мы говорили, духу декартова дискурса вполне отвечало бы даже отсутствие всякого термина для совокупности двух полностью и во всем противоположных субстанций, «Мыслящей вещи» и «Телесной машины». Явившийся философу идеал абсолютно ясного и достоверного знания на всю жизнь наполнил его очистительным пафосом, стремлением до конца расчистить пути к такому знанию, убрать все помехи для совершенного познавательного акта. И он неуклонно убирает. Главная начальная задача – усмотреть, выделить саму инстанцию чистого познания, адекватного агента-исполнителя совершенного акта. Человек как целое, во всей сложности и пестроте своего состава, помыслов, восприятий, желаний… – заведомо не есть безупречный исполнитель – и философ без колебаний вычеркивает его из своей философии. В центр ставится то, что, как он находит, единственно способно нести миссию познания: мысль, с хирургической решительностью отсекаемая от всего, что не мысль – всего, связанного с чувственно-телесным, «протяженным». В дальнейшем, «покорствуя природе», то бишь, реальному положению вещей, Декарт вынуждается умерить свой пафос радикального разделения двух природ; на некоторой (достаточно поздней) стадии творчества, он обращается к описанию промежуточных явлений, что порождаются с участием и той и другой инстанции, и «Души» и «Тела». Так возникают «Страсти души», явно не самый блестящий текст философа. Ниже мы обсудим этот трактат, но сразу можно сказать, что в его цели не входит восстановление единства человеческого существа. Существующие явления никогда не рассматриваются как акты целостные, полагаемые из единого деятельного центра, но трактуются исключительно как акты встречи, контакта двух противоположных субстанций. Всегда и всюду установка философа – только установка рассечения, и антиантропология остается последним словом антропологического дискурса Декарта.
Нам же, соответственно, остается лишь обозреть части этого разъединенного дискурса как они есть: «Субъекта», «Тело», или же «Человека-машину», «Страсти», или смешанные явления. Следом за тем, мы попытаемся свести части воедино, чтобы, увидев очертания целого, достичь все же некоторой суммарной характеристики человека Картезия.
А. Субъект, или субстанциализированное сознание. Итак, исполнить миссию совершенного познания способна мысль человека, мыслящее Я. Это исходная интуиция и установка Декарта; но с самого начала в эту установку входило и важное дополнение: полноценный исполнитель миссии – только чистая мысль, та, что движется лишь по собственным законам (кои, как мы помним, Божественны и ведут к истине). В обычном же своем бытовании, мысль включает и другие активности, такие как воображение, воля, которые отличны от чистого постижения или понимания (entendement), однако тоже принадлежат к Res Cogitans и противоположны Res Extensa. Таким образом, Я, как Мысль, (Мышление) структурируется в своем содержании. Первая дефиниция в геометрическом изложении Метода гласит: «Под мыслью я понимаю все, что присутствует в нас таким образом, что мы это немедленно и непосредственно сознаем (sommes connaissants). Тем самым, все действия воли, понимания, воображения и чувств суть мысли»[52 - Ib. Р. 390.]. Как видно из этой дефиниции (затем повторяемой в «Началах»), «мыслящий» полюс декартовой дихотомии как широкое понятие, не сводящееся к чистому познающему разуму и объединяющее все мыслительные активности, ближе всего соответствует современному понятию сознания – с важною оговоркой, что «мыслящая вещь» Декарта, в отличие от наших представлений о сознании, трактуется как субстанция. Термин же «субъект», равно как и выражение дихотомии в форме «расщепления субъект – объект», еще не употребляются у Декарта, представляя собой позднейшее немецкое привнесение; мы будем пользоваться ими, памятуя о различии между «субъектом познания» и «субъектом сознания».
Не исчерпывая собой сознания, познающий разум есть тем не менее исполнитель высшей миссии сознания, и потому представляет собой его главную и важнейшую составляющую, его raison d'etre. Философская дескрипция его активности, или же конституция познавательного акта, есть средоточие и ядро всей эпистемы Декарта, так что наш долг – описать основные элементы этой конституции. Все когнитивные установки Декарта направлены к идеалу строгого научного познания; однако систематический органон научного познания еще отнюдь не создан в его трудах: пред нами лишь общие черты и отдельные элементы. Выдвинув и усиленно подчеркнув идею необходимости цельного познавательного метода, философ в то же время оставил собственный метод во многом недоочерченным. Прежде всего, это касается выбора общей ориентации, общего типа когнитивного аппарата: должен ли когнитивный процесс ставить во главу угла опытные или же умозрительные критерии и средства? Как мы знаем сегодня, первый путь ведет к познавательной парадигме эмпирической и экспериментальной науки, второй же – к феноменологической парадигме познания как интенционального акта интеллектуального всматривания; и обе парадигмы обладают весьма различными свойствами и сферами применения. Дискурс же Декарта – на распутье. С одной стороны, мыслитель тяготел к изучению явлений природы, («великой книги Мира», как он выражался), к естественнонаучной проблематике, – что неизбежно склоняло к экспериментальной парадигме, но, с другой стороны, в числе его самых стойких убеждений – глубокое недоверие к чувственному опыту, его данным, и столь же глубокое доверие к внутренним нормам и законам чистого разума.
Опытная ориентация была традиционным отличием английской мысли, и поучительно видеть, как во всех контактах Декарта с ее представителями (в дискуссии с Гоббсом по поводу его Возражений на «Медитации», в переписке с маркизом Ньюкаслом) с наглядностью выступает различие мыслительных школ. Декарт-метафизик мешал Декарту-естественнику: прежде всего мешал его мысли развить необходимую и назревшую концепцию научного эксперимента, без которой уже не могло продвигаться опытное познание. Мотивы совершенно ясны: в ставимом и проводимом эксперименте чистый разум добровольно соединяется с чувствами, образуя нераздельный умно-чувственный комплекс; тогда как по картезиевой дихотомии разум всегда обязан избегать смешения с чувствами. – Напротив, с феноменологическим руслом у философа нет столь же коренных расхождений, и хотя все новоевропейские парадигмы научного познания имеют основания себя возводить к Декарту, однако у парадигмы феноменологической эти основания наиболее весомы. В когнитивных установках Картезия можно и должно видеть дальний прообраз феноменологической теории познания. Даже не всегда дальний: когда во Второй Медитации Декарт вводит понятие «умственного обозревания-обследования» (inspection de l'esprit), которое в ходе познания следует превратить из «несовершенного и смутного» в «ясное и отчетливое», когда он отличает «обозревание умом» и от «видения глазами», и от силлогистического вывода, – он уже определенно протофеноменолог. В целом же, можно согласиться, что пресловутая установка ясного и отчетливого познания оставалась у самого Декарта скорее девизом и призывом, по частоте повторений порой походя на заклинание; и феноменологический органон интенционального опыта, наследуя эту установку, вполне адекватно воплощает ее в конкретную, детальную когнитивную процедуру Разумеется, этот органон наследует не только картезианской, но и платонической философии, и в духе последней, он вовсе не разделяет резкого декартова противопоставления мысли и «протяженности», пространства, не отвергая возможности некой ноэтической пространственности и заведомо отвергая дихотомию Res Cogitans – Res Extensa. В целом, здесь перед нами – одна из самых существенных и самых насыщенных линий в дальнейшей истории декартовой эпистемы; но за ее раскрытием, которое далеко увело бы от нашей темы, мы должны отослать к «Картезианским медитациям» Гуссерля.
Не представляя собой последовательной дискурсивной реконструкции когнитивного акта, декартова эпистемология тем не менее содержит каркас, базисные элементы такой реконструкции. Большая часть из них уже присутствует в выводе «Первой истины» Картезия, положения Cogito ergo sum. Из элементов, привходящих в дальнейшем, важен, пожалуй, всего один, который следует назвать сразу: вслед за конституцией субъекта (в главном, достигаемой с выводом Первой и Второй истин), Декарт намечает и отвечающую субъекту эпистемологическую перспективу: перспективу, в которой может осуществляться уже не только самопознание, но познание любых вещей. Закономерным образом, это – субъективистская перспектива, в которой дескрипция реальности, после установления собственного существования, начинается с вопроса о существовании внешних вещей. Таким путем следует мысль Декарта в заключительных Пятой и Шестой Медитациях, которые открываются характерным исходным тезисом субъективистской перспективы: «Прежде рассмотрения, существуют ли вещи вне меня, я должен рассмотреть их идеи, какими они присутствуют в моей мысли»[53 - Ib. Р. 310.]. Данная логика опять-таки не чужда феноменологической установке, и в развертываемом далее рассуждении Декарта можно даже увидеть некоторую аналогию перехода от чисто субъективистской перспективы к трансцендентальной субъективности.
Переходя от перспективы к самому когнитивному акту, мы видим, прежде всего, что его совершающее орудие, познающий разум, Декарт трактует самым традиционным образом, в зрительно-световой метафоре, укоренившейся еще до Аристотеля: это – «природный свет», la lumiere naturelle, который «естественно присутствует в наших душах». Он не находит нужным анализировать его, сближая, тем самым, с непосредственно понятными данностями, «внутренними свидетельствами» сознания (о которых скажем чуть ниже); но все же в одном из писем мы найдем не столь односложную характеристику: «Я различаю два вида природных наклонностей (instincts): одна наклонность присуща мне как человеку и является чисто разумной; это природный свет, или intuitus mentis, и им одним лишь стоит гордиться. Другая же принадлежит нам, равно как животным, и является неким стремлением (impulsion) природы к сохранению нашего тела, получению телесных удовольствий и т. п.; и ей отнюдь не всегда должно следовать»[54 - Id. Lettre a Mersenne de 16.Х.1639. Loc. cit. P. 1060.]. Что касается самого осуществления акта, то наиболее детально Декарт характеризует его начальные стадии, соответствующие установке радикального сомнения. О ней мы уже говорили выше; но надо сейчас добавить, что к этим же начальным стадиям относится и еще один фактор, который Декарт явно включил в конституцию акта, лишь отвечая на возражения по поводу своего вывода Cogito. Этот фактор – еще одно немаловажное ограничение установки сомнения, помимо уже отмеченных: Декарт принимает, что в сознании присутствуют некоторые изначальные и несомненные истины, которые весьма существенны для всякого акта познания, но сами не нуждаются ни в выводе, либо доказательстве, ни даже в дефиниции, поскольку «понятны» сами по себе и из себя, без обращения к другим вещам. В первую очередь, к таким истинам принадлежат те, что необходимы для вывода Cogito: что такое сама мысль, существование, сомнение. Декарт впервые утверждает их специфический статус в Ответах на Шестые Возражения, заявляя, что они познаются «внутренним знанием, которое всегда предшествует знанию обретенному и которое присуще каждому»[55 - Id. Mеditations. Loc. cit. P. 527.]. Позднее в письме к Арно он добавит в их ряд также связь тела и души, при этом слегка иначе характеризуя их природу: «Что не телесная душа может двигать тело, показывается не каким-либо рассуждением или сравнением, а повседневным опытом, самым очевидным и достоверным; это одна из вещей, которые известны сами по себе и только затемняются, когда мы хотим объяснить их другими вещами»[56 - Id. Lettre ? Arnauld de 29.VII.1648. Loc. cit. P. 1308.]. Наконец, наиболее подробная характеристика – в диалоге «Разыскание истины». Здесь философ прямо утверждает подобные данности сознания как особый род вещей: надо «отличать вещи, что нуждаются в дефиниции, от тех, которые могут быть поняты сами по себе». И здесь же – относительно «ясное и отчетливое» описание их природы: «Что такое сомнение, мысль, существование… невозможно узнать… иначе как самому по себе и убедиться в этом знании иначе как по собственному опыту, с помощью того сознания или внутреннего свидетельства, которые каждый находит в себе, когда рассматривает что-либо… Чтобы знать, что такое сомнение и мысль, достаточно сомневаться и мыслить. Это научит нас всему, что на сей счет можно знать, и даже скажет нам больше, чем самые точные дефиниции»[57 - Id. Recherche de la veritе par la lumi?re naturelle. Loc. cit. P. 898–899.]. Это неплохо сказано, но, конечно, позиция философа здесь зыбка и оспорима: он не оградил введенный им род вещей никакими критериями и границами – и, допустив, что существует некий фонд вещей, которые «понятны сами по себе», по сути, открыл возможность кому угодно включать туда что угодно.
Также уже с начальных стадий когнитивного процесса проявляется хорошо известная установка декартовой эпистемологии: полное отрицание «аргументации от авторитета», недопущение любой опоры на предшествующую традицию мысли. Картезию свойственно скептическое, если не прямо пренебрежительное отношение ко всем прошлым и настоящим мыслителям и их достижениям. В «Письме к переводчику», помещаемом перед текстом «Начал», он резюмирует всю историю философии весьма в стиле характеристики граждан города N Собакевичем: «первые и главные» философы – Платон и Аристотель, и они равно не достигли ничего определенного (certain), с тою лишь разницей, что Платон это честно признавал, тогда как Аристотель пытался выдавать шаткое за прочное; в последующие же века «те, что хотели быть философами, по большей части слепо следовали за Аристотелем»[58 - Id. Principes de la philosophie. Loc. cit. P. 561.]. Но смысл указанной установки слабо связан с этим историческим скептицизмом или нигилизмом, он лежит глубже. Уже на первых страницах «Метода» Декарт заявляет: «Ни на один момент я не должен удовлетворяться мнениями других»[59 - Id. Discours de la Mеthode. Loc. cit. P. 144.]: и суть – в этом. В конечном счете, дело не в том, насколько бесспорны выводы Аристотеля или Платона, но в том, что выводы – мнения других, они получены ими, а не самим Картезием, – и потому не принадлежат к выстраиваемой им перспективе субъекта. Принадлежит же к ней только то, что его собственный познающий разум усмотрел ясно и отчетливо – и это означает, что любое положение, чтобы быть принятым этим разумом, должно быть воспроизведено им самим, вместе со всем своим выводом. – Так негативная установка по отношению к философской традиции оказывается существенно позитивным и конструктивным элементом конституции когнитивного акта в субъективистской перспективе.
Вместе с тем, за этою установкой проступает и некоторая серьезная проблема. Декарт подверг деконструкции когнитивную валидность философской традиции, увидев традицию, как «мнения других», и мы признаём, что это законная позиция субъективистской перспективы. Однако, как сразу ясно, такая позиция может идти гораздо шире: точно на том же основании, в субъективистскую перспективу не должен включаться любой опыт «других», если только он не воспроизведен заново и самостоятельно в собственном опыте субъекта. (Сам Картезий отверг бы такую экстраполяцию, поскольку считал, что его Метод не следует распространять за пределы сферы научного познания, где должен сохранять права лишь обыденный здравый смысл; но с философской точки зрения, он здесь проявлял непоследовательность, и экстраполяция законна). В итоге, мы обнаруживаем, что строгое, последовательное проведение выдвинутых Декартом когнитивных принципов ведет, вообще говоря, к обособленности и отъединенности познающего субъекта от всех «других», к исчезновению у него базы общих, разделяемых с «другими» понятий и позиций, т. е. базы для межчеловеческой общности и общения. Иными словами, здесь в острой форме появляется сакраментальная «проблема Другого», оказавшаяся в центре поисков европейской философии последних лет. При этом, появление проблемы следует ставить в связь отнюдь не с гносеологией Декарта как таковой, но со всей магистральной линией развития западной мысли о человеке: уже и «человека Боэция» мы характеризовали как шаг в направлении декартовой концепции субъекта; а постдекартова метафизика (при решающем участии Канта, но не забудем и Беркли) полностью реализовала заложенные в этой концепции возможности законченной и совершенной субъективистской перспективы. Как известно, философского субъекта, созданного этою линией, сегодня уже постигла смерть; и в числе основных причин, он пал также и жертвой собственного совершенства: его субъективность была настолько чистой и полной, что в рамках его конституции никакого удовлетворительного решения проблемы Другого, или же проблемы интерсубъективности, достичь не удалось. Ниже нам еще предстоит обсуждать этот узел проблем.
Далее, пора указать фактор, который всегда усиленно заботит Декарта: предупреждение, выявление, исправление ошибок и искажений в процессе познания. Они возможны, разумеется, во всем ходе когнитивного акта, но особенно важно уделить им внимание вначале, пока они не принесли непоправимых последствий. Картезий говорит много об ошибках; демонстрация негодности прежнего подхода к познанию, как чреватого всяческими ошибками, входит в само назначение его Метода, в его «весть». Возможные ошибки (искажения, заблуждения, погрешности…) весьма разнообразны, но есть один их главный и безусловный источник. Это – неучет фундаментальной дихотомии: несоблюдение познающего орудия, способности понимания, постижения (entendement) в должной чистоте, в изоляции от замутняющего воздействия телесно-чувственной реальности. Опасность такого воздействия существует постоянно, поскольку, согласно Декарту, способность постижения у человека имеет тройственную структуру: наряду с высшей, и даже Божественной, способностью чисто интеллектуального постижения (intellection, conception), она включает две низшие способности, воображение и чувственное восприятие (перцепции, «чувства»); и если первой способности отвечает активность разума, остающегося в своей сфере, то в действиях воображения и чувств разум входит в связь с противоположным полюсом дихотомии, телесной природой. Но лишь пребывая в собственной сфере, разум может надежно рассчитывать на достижение ясного и отчетливого, достоверного знания! Данные же воображения и чувств несут на себе свойства телесных стихий, где все темно и смутно, спутано и неоднозначно; и некритическое включение, примешивание этих данных к деятельности разума – важнейший источник когнитивных ошибок. Вновь и вновь Декарт поднимает, муссирует тему об ошибках и искажениях, присущих данным воображения и чувств, перебирает набор примеров, когда эти данные обманывают… Тема, казалось бы, очень не нова, начиная с Аристотеля, к ней обращались многие, и едва ли найдешь философа, который стоял бы за слепое доверие к чувствам, а тем паче, к фантазиям воображения, – чего же стулья ломать? Но для Картезия тема наполнена новым смыслом, новой принципиальностью: теперь здесь – один из главных аргументов в пользу его дихотомии, в пользу невозможности достоверного познания без радикального отделения «мыслящего» от «протяженного». Шестые Возражения на «Медитации» оспаривают тезис о большей достоверности понимания, нежели чувственных восприятий; и, парируя, он углубляет анализ чувственного восприятия, выделяя в его строении три ступени (мы опишем их ниже, говоря о чувствах в завершение конституции субъекта). – Итак, ошибки, вносимые в познание чувствами и воображением и придающие продукту познания свойства материальных стихий, смутность и темноту, – вот основной и важнейший вид ошибок, который должна учитывать конституция когнитивного акта.
Декарт указывает также и ряд других видов. Большая часть из них рассматривается в конце первой части «Начал», где названия глав образуют как бы сжатый перечень: «71. Первая и главная причина наших ошибок – детские предрассудки… 72. Вторая же в том, что мы не можем забыть эти предрассудки… 73. Третья в том, что наш дух утомляется, внимательно следя за всеми предметами суждения… 74. Четвертая в том, что мы передаем мысли словами, которые выражают их неточно»[60 - Id. Principes de la philosophie. Loc. cit. P. 606–609.]. Обсуждение этих видов ошибок не несет уже для философа столь важной идеологической нагрузки, но ценно для нас тем, что здесь становится конкретней и содержательней его концепция сознания. Мы видим, что представлениям детства с их стойкостью придается чрезвычайное значение; Декарт замечает, что если ошибки от воображения и чувств носят характер «замутнения» Природного Света, то предрассудки детства несут его «ослепление». Он также затрагивает в связи с ошибками и тему внимания, концентрации разума, находя, что «трудней всего для души, когда она сосредоточивается на чисто умопостигаемых предметах, которые не воспринимаются ни чувством, ни воображением»[61 - Ib. P. 608.]; причем и здесь причина связана с детством: она в том, что изначально, в детстве, у человека имеются только две низшие способности постижения; и т. д. Разбираемый перечень отнюдь не объявляется исчерпывающим; философ понимает и признает, что ошибки и заблуждения могут вкрасться неисчислимыми путями. Так, ко многим заблуждениям ведут страсти: к примеру, «любая страсть представляет нам то благо, к которому она стремится… гораздо бо?льшим, чем в действительности»[62 - Lettre a Elisabeth, princesse de Boheme, de 1. XL 1645. Loc. cit. P. 1203.]. Обсуждает также Декарт ошибки памяти и их роль, и еще некоторые другие, – так что в итоге, анализ ошибок познания составляет у него, пожалуй, наиболее разработанный раздел в конституции когнитивного акта.
Напротив, центральная часть этой конституции, где должен быть представлен сам когнитивный механизм, который производит продукт познания, удовлетворяющий заданным критериям, не получает у Картезия систематической разработки. Тем не менее, основные принципы этого порождающего механизма все же присутствуют у него, хотя их роль и не акцентирована. Именно, в качестве таких принципов можно рассматривать выделенные нами выше «феноменологические» элементы. В основе их – понятие inspection de l'esprit (что можно передать и как интеллектуальное всматривание) и в целом, они приближают декартов когнитивный акт к интенциональному акту. Далее, существенная особенность механизма – его чисто интеллектуальный характер: если Гуссерль включит воображение в круг способностей, участвующих в интенциональном акте, то Декарт, как мы говорили, усиленно отрицает всякую положительную когнитивную роль воображения и чувственного восприятия. Детальный анализ познавательного акта во Второй Медитации приводит к выводу: «Его [познаваемого предмета, куска воска] восприятие, или точнее, действие, которым его апперципируют (on l’aper?oit), не есть ни зрение, ни осязание, ни воображение, и никогда ими не было, хотя вначале и представлялось так, – но исключительно умственное узрение, которое может быть несовершенным и смутным, каким было вначале, или же ясным и отчетливым, каким стало теперь, в зависимости от того, меньше или больше направлено мое внимание на те вещи, которые в нем присутствуют и составляют его»[63 - Id. Mеditations. Loc. cit. P. 281.]. Как видим, в качестве решающего когнитивного фактора Декарт здесь указывает внимание, которому в феноменологическом органоне будет отведена самая значительная роль. Наконец, итог когнитивного акта философ описывает более подробно, в особенности, в «Началах»: это – обретенная несомненная и достоверная истина, знание ясное и отчетливое, etc. Но, как часто бывает, большая подробность не совсем на пользу предмету: детализация видов и свойств истины отчасти заслоняет ведущую интуицию, согласно которой акт познания в своем итоге воспроизводит предмет в форме полной реконструкции ансамбля его смысловых, или эйдетических содержаний. (Эта интуиция выступает наиболее явно в трактовке объективного знания («Начала», 1, 45–46), приведенной частично выше). В целом же можно заключить, что у Картезия остается совсем немного до того, чтобы конституция когнитивного акта приняла законченную форму прогрессивно продвигающегося, все более прецизионного интеллектуального фокусирования.
* * *
Чтобы продвинуться от конституции когнитивного акта к полной конституции субъекта, напомним строение картезианского субъекта-сознания, каким оно представлено в Первой книге «Начал». По Декарту (как позднее по Канту, в целом, повторяющему Картезия), деятельность мышления двоякого рода: «Все способы мышления могут быть сведены к двум общим, один из которых заключается в апперцепции посредством понимания, а другой – в вынесении решений посредством воли. Поэтому чувствовать, воображать и даже постигать чисто интеллигибельные предметы – все это суть лишь разные способы апперцепции; тогда как желать, испытывать отвращение, убеждаться, отрицать, сомневаться суть разные виды воления»[64 - Id. Principes de la philosophie. Loc. cit. P. 585.]. Суждение же, по Декарту, – синтетический акт, в котором совместно участвуют и воля, и постижение. Нет нужды повторять здесь классическую и общеизвестную картезианско-кантовскую трактовку отношения разума и воли, но стоит все же указать наиболее существенные для Картезия моменты. Во-первых, воля по самой своей природе есть свободное начало, для Декарта (как и в русском языке) она почти синоним свободы, и эта свобода воли (libre arbitre), составляющая «главное совершенство человека», принадлежит к числу обсуждавшихся выше непосредственных данностей разума и опыта, не требующих вывода или доказательства. Затем, сфера воли (та сфера, где воля может осуществлять себя, вынося решения) совпадает со всем горизонтом сознания – и тем самым, она несравненно шире сферы разума, которая объемлет предметы, доступные пониманию. Говоря проще, мы вольны решать во множестве ситуаций и областей, где вовсе не обладаем пониманием. Здесь, по Декарту, коренится одна из главных причин ошибок и неверных действий человека; но философ сразу же предлагает и способ, как ее устранить. «Мы никогда не совершим ошибки, если будем судить лишь о том, что постигаем ясно и отчетливо»[65 - Ib. P. 590.]; а потому рецепт правильного поведения состоит в координации воли с разумом: «Природный свет учит нас, что понимание всегда должно предшествовать решению воли»[66 - Id. Mеditations. Loc. cit. P. 307.].
Этот третий момент в декартовой трактовке воли становится ключевым положением в развитии этики Декарта. Занимая довольно малое место в его учении, она умещается почти всецело в рамки проблематики воли и разума. Как мы уже можем ожидать, этический дискурс также подвергается встраиванию в гносеологизированную субъективистскую перспективу. Необходимые предпосылки для этого доставляет тезис: «Воля человека такова, что по своей природе может стремиться только к добру»[67 - Ib. P. 536.]. В «Геометрическом изложении» Метода данный тезис включен в число «аксиом» и выражен более развернуто: «Воля направляется свободно и добровольно (ибо такова ее сущность), но при этом безошибочно, к добру, которое ясно познано ею»[68 - Ib. P. 395.]. Тезис означает, что Декарт примыкает к традиции, идущей от Августина и трактующей зло чисто привативно, как недостачу в наличии добра; но, неуклонно воплощая свою эпистему, философ переводит эту классическую позицию в гносеологическое измерение, так что зло у него – недостача знания о добре. Коль скоро воля заведомо стремится к добру, зло и грех могут твориться лишь по незнанию, в порядке ошибки: «Я простираю ее [волю] на те вещи, которых не понимаю; с легкостью заблуждаясь меж них, она принимает зло за добро, или ложное за истинное. И вследствие этого я ошибаюсь и грешу»[69 - Ib. P. 306.]. Как видим, понятие греха, этического проступка, также переводится в гносеологический дискурс: грех – вид ошибки в познании, и как зло, так и грех равно проистекают из несовершенных познавательных актов. Такую позицию верно передает краткая формула, встречаемая у Декарта: «достаточно правильно судить, чтобы правильно поступать». Формула вызвала обвинения теологов, увидевших в ней пелагианство, утверждение достаточности собственной воли человека для спасения; и Декарт парировал обвинения обычным своим приемом, указав, что его рассуждения не заходят на территорию теологии: «То “правильно поступать”, о котором я говорю, относится не к области теологии, где говорят о благодати, а только к моральной и натуральной философии, где благодать не рассматривается»[70 - Id. Lettre a Mersenne de 27. IV. 1637. Loc. cit. P. 963.]. – В целом же, этический дискурс очень бегло очерчен у Декарта. Лишь незначительно детализируясь в учении о страстях, он оставляет в стороне большинство этических апорий и принципиальных проблем. Вершина дискурса, понятие добра, не подвергается анализу; любовь не рассматривается как этический принцип, оставаясь вне этики – равно как этика вне любви – и мы можем лишь заключить, что для мысли Картезия, этика – весьма побочная тема.
Оставшиеся элементы в конституции Субъекта, воображение и чувственное восприятие, включаемые Декартом в состав способности постижения, отчасти уже обсуждались нами при описании конституции когнитивного акта. Их негативная роль в этой конституции, как факторов, «замутняющих Природный Свет», – основной момент в их трактовке у Картезия; к нему достаточно добавить немногое. Что касается воображения, то нам следует осмыслить характерную черту, кратко отмеченную выше: Декарт не признает за воображением никаких положительных функций и возможностей в процессе познания – и это прямо расходится не только с обычными представлениями о «творческой роли воображения», но и с конституцией интенционального акта в феноменологии, где, по Гуссерлю, «свободная фантазия» доставляет интеллектуальному всматриванию модели, примеры, образцы, используемые для достижения ясного и отчетливого узрения смыслового облика предмета познания. Сюда присоединяется еще то, что в своем собственном дискурсе Декарт активно использует эвристический прием, который сегодня именуется «мысленным экспериментом» и заключается в анализе искусственных ситуаций, создаваемых в воображении специально для демонстрации или проверки тех или иных положений. При этом, его «мысленные эксперименты» включают ситуации как укладывающиеся, так и не укладывающиеся в рамки эмпирической реальности (пример первых – превращения куска воска во Второй Медитации, пример вторых – искусственные миры, где развертываются «Трактат о свете» и «Трактат о человеке»). – Из вопросов, встающих здесь, легче всего объясняется неприятие идеи «творческого воображения»: эта идея действительно не входит в органон научного познания (а входит лишь в более широкую картину, объемлющую процессы рождения новых идей и теорий). Вопросы же о «мысленных экспериментах» и о роли воображения в интеллектуальном всматривании глубже и интересней. Мы начинаем видеть не только близость, но и отличия в декартовой и гуссерлевой когнитологии: эти отличия лежат там, где конституция интенционального акта примыкает к руслу платонизма. «Свободная фантазия» Гуссерля должна доставлять детали к смысловой картине, эйдосу, конструируемому в умном пространстве, – и тем самым, она связана именно с платоническими элементами указанной конституции. Но Декарт мыслит интеллектуальное всматривание, работу Природного Света, более позитивистски, без примеси платонизма, – и в его конституции когнитивного акта «свободная фантазия» не нужна. В его упрощенном понимании, «воображение… есть не что иное как определенное приложение познавательной способности к телу, которое теснейше (intimement) присутствует в ней»[71 - Id. Mеditations. Loc. cit. P. 318.], и если для платоника воображение уносится в умный мир, то для Декарта эта направленность на тело, замутняющая познание, всегда остается главной и решающей чертою воображения. Геометрическое воображение не является исключением, ибо геометрические фигуры – отнюдь не идеальные образы в умопостигаемом мире: имея протяженность, они принадлежат к телесному полюсу дихотомии (давая, тем самым, яркий пример различия Платоновой и декартовой дихотомий). Поэтому Декарт, чтобы включить геометрию в орбиту своего Метода, делает ее аналитической, обращает от фигур к уравнениям. И в свете сказанного, мы можем также сделать догадку, что и его «мысленные эксперименты» в его глазах не были деятельностью воображения: вероятно, он предпочитал относить их к чисто интеллектуальной активности, считая, что оперирует в них не телами, а уже идеями тел, что, как известно, у него, в отличие от Платона, означало понятия.
Наконец, чувственные восприятия подходят уже вплотную к границе субъектной сферы: это та часть «мыслящей вещи», которая тесней и ближе всего соприкасается и взаимодействует с «вещью протяженной». Поэтому в теме о чувствах у Декарта уже присутствует в качестве существенного аспекта анализ физиологии чувств. Этот аспект входит и в дефиницию чувственного восприятия, данную в «Началах»: «Мы называем чувствами, или же восприятиями наших чувств… различные мысли нашей души, происходящие непосредственно из движений, которые возбуждаются в мозгу путем передачи по нервам»[72 - Id. Principes de la philosophie. Loc. cit. P. 654.]. Трактуя чувства как «мысли», феномены сознания, Декарт, в первую очередь, озабочен их отличением и отделением от возбуждающих их материально-пространственных факторов. Здесь его описание достигает известной убедительности и, в общем, принципиально не расходится с современными представлениями. Рецепторы, которыми снабжены органы чувств, реагируют на определенные виды явлений «протяженной» реальности тем, что формируют сигналы, импульсы возбуждения; сигналы передаются по нервам в мозг; будучи там восприняты, они вызывают те или иные реакции сознания, или «мысли». При этом, как усиленно настаивает философ, события на разных концах нервного канала коммуникации связаны меж собой только причинно-следственным отношением и никак иначе; по своей природе и свойствам, исходный эмпирический феномен и проистекающий феномен сознания не имеют ничего общего между собой. Нам понятен этот усиленный акцент: Декарт снова на страже дихотомии. Его описание, повторим, убедительно, причем, нарочито употребляя современную терминологию (рецепторы, сигналы, канал коммуникации), мы хотим подчеркнуть, что весь этот понятийный арсенал, по сути, уже имеется у Декарта, и даже не очень имплицитно. Пред нами один из примеров нового научного сознания в действии.
При всем том, в этой трактовке чувств – как и далее, в трактовке страстей – декартова фундаментальная дихотомия, конечно же, оказывается под вопросом. Оба рода явлений в самой своей природе и структуре соединяют оба полюса дихотомии, принадлежа и «мыслящему», и «протяженному», осуществляя их связь. Декарт, разумеется, анализирует эту связь (пример чего мы только что видели); но, направляя анализ на ее конкретный механизм и особенности, он полностью обходит более общий и кардинальный «кантианский» вопрос: Как возможна эта связь? Меж тем, его учение, несомненно, рождает такой вопрос. В начальных разделах этого учения все усилия прилагаются к тому, чтобы убедить в предельной дистанцированности двух природ, их абсолютном различии, в полном отсутствии у них общих свойств, вообще – чего бы то ни было общего, и в том числе, общей почвы, общей сферы действия. Тем самым – приходится заключить – для них нет и никакого места встречи, нет самой возможности встречи. В самом деле, о какой встрече может идти речь, если «протяженное» существует исключительно в пространстве, а «мыслящее» не имеет никакого отношения к пространству?
История, однако, необратима, и мысль Декарта не следует кантианской логике. В данном пункте в ней побеждает логика обыденного сознания: связь Тела и Души существует самоочевидным образом, и философу надлежит показывать и доказывать лишь то новое и непривычное, что он утверждает: а именно, полную противоположность этих двух природ. Что же касается связи, то, коль скоро сам факт ее не нуждается в доказательстве, философу остается лишь описать ее и разобрать, какова она есть. Не в сочинениях, а только в позднем письме к Арно мы нашли процитированные выше (см. прим. 29) лаконичные строки о существе одного из видов связи Души и Тела: способность Души двигать Тело Декарт относит к разряду непосредственных данностей сознания, не требующих ни доказательства, ни объяснения. О самой же связи как таковой никаких философских суждений нет, и метафизический вопрос о ее возможности не возникает у философа. Тема о связи взаимно противоположных природ, «мыслящего» и «протяженного», не получает метафизической постановки, а переводится или соскальзывает в эмпирический дискурс, начинаясь сразу с чисто эмпирического постулата: «Хотя душа соединяет нас со всем телом, она совершает свои главные функции в мозгу»[73 - Ib.]. Этот неоднократно повторяемый постулат в «Страстях души» получает подробную детализацию, характер которой ясен из названия главы: «31. О том, что в мозгу существует малая железа, в которой душа совершает свои функции более непосредственно (plus particuli?rement), чем в других частях [мозга]»[74 - Id. Passions de l'ame. Loc. cit. P. 710.]. Названная «малая железа» есть пресловутый conarium, шишковидная железа (эпифиз), с которою связана долгая и бесславная история псевдонаучных спекуляций. Обсуждая учение о страстях, мы еще столкнемся с ней, а сейчас лишь заметим, что, постулируя такую локализацию или «седалище» (siege) для «мыслящей вещи», Декарт вновь оставляет в стороне рождаемые постулатом метафизические вопросы: становится ли мозг (или conarium) седалищем души в силу воления последней или в силу неких своих особых свойств? И какими особенными свойствами должна обладать некая точка пространства, чтобы «в ней совершались главные функции» радикально непространственной души? И насколько оправданно само утверждение этой радикальной непространственности, если душа имеет «седалище» в очень определенном месте пространства и все ее главные функции пространственны? – и т. д.
Как видим, проблематика чувственных восприятий у Декарта не менее связана с Res Extensa, нежели с Res Cogitans. Но прежде чем прямо обратиться к противоположному полюсу дихотомии, отметим еще несколько моментов этой довольно обширной у него проблематики. В небольшом подразделе в конце «Начал», Декарт дает ей сводное изложение, начиная с классификации чувств: пять перцептивных модальностей именуются здесь «внешними чувствами» и подразделяются по «тонкости» (самая тонкая – зрение, самые грубые – осязание и вкус); к ним он добавляет два «внутренних чувства», первое из которых – совокупность всех естественных потребностей, второе же – совокупность «страстей» (радость, печаль, любовь, гнев…). Здесь же дан и анализ каждого из семи чувств, сводящийся целиком к описанию их физиологических механизмов и включающий в себя известную долю примысливания и фантазий (элемент, который получит наибольший простор в учении о страстях). Этот анализ интересен для нас лишь тем, что дополнительно иллюстрирует, как представлял философ смешанные явления, «междумирье» своей дихотомии; но есть и такие моменты в теме чувств, что заслуживают упоминания по существу В Ответах на Шестые Возражения Декарт дает содержательную характеристику структуры чувственного восприятия, охватывающую уже не только физиологию. Он выделяет три ступени этой структуры, из которых две первые отвечают вышеописанному передаточному механизму восприятия (внешнее воздействие на телесный орган и непосредственная реакция сознания на дошедший импульс), тогда как третья осуществляет оценку, интерпретацию данных разумом на базе всего предшествующего опыта: она «объемлет все суждения, которые мы, начиная с детства, привыкли делать об окружающих вещах на основе производимых ими впечатлений или движений в органах чувств»[75 - Id. Mеditations. Loc. cit. P. 539.]. Понятно, что добавление этой ступени – ценное углубление трактовки чувств. И наконец, весьма стоит отметить сжато развитую Картезием мысль о существовании порога, «предела разрешения» чувственных восприятий и о том, что этот порог не должен стать пределом познания. Исходя из своей идеи бесконечной делимости всего протяженного, он замечает, что за некоторым пределом части тел неизбежно делаются слишком малы, неуловимы для чувств; однако разум может и должен «судить о том, что происходит в этих малых телах… по примеру того, что происходит в телах, нами воспринимаемых,… и таким путем осмыслить все, что существует в природе»[76 - Id. Principes de la philosophie. Loc. cit. P. 664.]. Познание чувственно воспринимаемых тел должно происходить с помощью законов геометрии и механики, справедливость которых отнюдь не ограничена порогом чувственных восприятий. Перед нами – явно поставленная задача изучения микромира; и когда философ открывает разуму этот новый горизонт, в его тоне звучит подлинный ренессансный пафос познания: «Я полагаю, что не желать выйти за пределы зримого значит наносить человеческому разумению большой вред»[77 - Ib. P. 663.].
Со всем сказанным, в конституцию Субъекта осталось добавить всего единственный пункт, но этот единственный – из важнейших. Изредка употребляя этот термин, мы пока откладывали его обсуждение: декартов субъект, «мыслящая вещь» – субстанция. В историческом контексте, это положение видится естественным и неизбежным, само собой разумеющимся: ничего иного не содержала и не подсказывала философская традиция. Но ведь мысль Декарта сразу поставила себя в особое положение! Она отвергла всякую подсказку, всякую базу традиции и объявила, что принимает в свой состав не «мнения других», а исключительно плоды собственного ясного и отчетливого усмотрения. В рамках такой позиции, положение о субстанциальности «мыслящего» априори могло и не приниматься, и его принятие – философское решение Декарта, показывающее пределы его обновления дискурса и его независимости от традиции. Значение этого решения для путей европейской мысли – и собственно в философии, и в антропологии – весьма велико и будет еще обсуждаться нами. Сейчас же мы лишь рассмотрим декартов концепт субстанции в его приложении к субъекту.
Нельзя сказать, что Декарт попросту воспринял существовавшее до него понятие субстанции, уже оттого, что это понятие заметно варьировалось (как мы, в частности, видели при обсуждении субстанции у Боэция). В его трактовке, понятие несет уловимую печать его учения, печать гносеологического поворота философского дискурса. В самом деле, вот дефиниция, данная им в Геометрическом изложении: «Всякий предмет, в котором, как в своем подлежащем (sujet) непосредственно пребывает или чрез посредство которого существует некоторый постигаемый нами предмет, т. е. некоторое свойство, качество или атрибут, реальную идею коего мы имеем в нас, именуется субстанцией»[78 - Id. Mеditations. Loc. cit. P. 391.]. С одной стороны, мы здесь вполне в русле классической этимологизирующей трактовки (субстанция = sujet = подлежащее); однако эта трактовка теперь встроена в объемлющий контекст процесса познания, в котором главная инстанция – познающий разум, субъект. По сравнению с дискурсом Аристотеля, как равно и Боэция, роль субстанции оказывается более формальной и служебной: она требуется для инвентаризации продуктов познания, т. е. всевозможных свойств явлений – как то, что способно быть носителем, «седалищем» свойств, как подлежащее или «имя существительное» в грамматике философского дискурса, к которому могут относиться атрибуты, «прилагательные». К такому смыслу понятия толкает и пояснение, следующее сразу за дефиницией: «Ибо у нас нет никакой иной идеи субстанции, точно говоря, кроме того, что она – это вещь, в которой формально существует то, что мы постигаем или то, что объективно присутствует в какой-либо из наших идей»[79 - Ib.]. Этимологической, или «грамматической» дефиниции, как известно, равносильна другая столь же традиционная дефиниция субстанции как самодовлеющего сущего; и ее мы также находим у Декарта: «Когда мы постигаем субстанцию, мы постигаем лишь вещь, существующую таким образом, что для своего существования она нуждается лишь в себе самой»[80 - Id. Principes de la philosophie. Loc. cit. P. 594.]. В такой форме – напомнили философу – дефиниция имеет теологическую некорректность; и он охотно сделал в сторону теологии реверанс, ничуть не вредящий его деистической установке: субстанция нуждается для своего существования лишь в себе самой – и, конечно же, в изволении (concours) Бога. Сам Всевышний – единственная субстанция, для которой дефиниция справедлива без оговорки; и все устроение реальности по Картезию объемлется тремя основоположными субстанциями: Бог – Дух («субстанция, главный атрибут и природу которой составляет мышление») – Тело.
Понятие субстанции дает большие удобства в проведении философских рассуждений, открывая широкие возможности для формализации философского дискурса, превращения его в алгебру понятий. Ко времени Декарта, философия знала это уже давно; но она еще недостаточно знала и сознавала, что платой за удобство оказывается бесплодие философии, утрата дискурсом творческой, порождающей способности. К чести Картезия, роль схоластической алгебры субстанций в его дискурсе невелика[81 - Мы указали бы, пожалуй, всего один важный пункт в учении Декарта, где существенно используются манипуляции субстанциями: это как раз доказательство дихотомии, совершенного различия мыслящей и протяженной субстанций. Не раз повторяемое, оно всегда имеет своим ядром положение, сформулированное в Геометрическом изложении как Дефиниция X: «Две субстанции реально различны, если каждая из них способна существовать без другой».]. В частности, это сказывается в том, что деления Я на более частные субстанции он не вводит: ни воля, ни понимание (апперцепция), ни виды апперцепции (интеллектуальное познание, воображение, чувства) не квалифицируются им как отдельные субстанции, но выступают как активности, или же предикаты Духа как единой субстанции.
В. Тело-Машина. При изучении субъекта, фундаментальная дихотомия Декарта привлекается им постоянно, анализируясь, по преимуществу, в своем духовном полюсе. Тема о теле, телесности человека также открывается обращением к дихотомии, однако теперь пристальнее рассматривается ее «протяженный» полюс. Прежде всего, вновь и вновь категорически подчеркивается непричастность тела к мышлению: «Тело не может мыслить… Мнение, что части мозга участвуют вместе с духом в образовании мыслей, не основано ни на каких положительных доводах»[82 - R. Descartes. Mеditations. Loc. cit. P. 368–369.]. Однако декартова дихотомия несет в себе не только отрицательные, но и важные положительные утверждения о теле. Как равноправный полюс дихотомии, тело – самостоятельная субстанция, т. е. существование тела не зависит ни от каких внешних для него инстанций в тварном мире, и в первую очередь – сюда и направлено острие тезиса! – не зависит от противоположного полюса дихотомии, Духа, Я. Но что такое «существование тела»? Как полюс дихотомии, «тело» означает все в человеке, что не есть мышление, – и оно понимается, тем самым, отнюдь не как одна лишь материя телесности, или совокупность телесного состава человека, но как телесность деятельная, функционирующая, как тело с работой всех его внутренних систем (коль скоро эта работа не есть мышление). Соответственно, «существование тела» есть нормальное, обычно наблюдаемое существование живого тела, попросту говоря, жизнь тела: но только с исключением всех проявлений мышления. В силу дихотомии, подобное существование не только возможно, но именно оно и есть – род, способ существования телесной субстанции. «Если бы в нем [теле] не было никакого духа, оно не прекратило бы никаких видов движений, какие совершает сейчас, когда оно движимо не приказаниями воли (тем самым, и не посредством духа), а только посредством системы своих органов»[83 - Ib. Р. 329.]. Очевидно существенное отличие от Аристотеля и всей восходящей к нему традиции: дух (душа) не требуется, чтобы сделать тело «одушевленным», живым; душа – источник не самой подвижности тела, а только некоторых его избранных активностей. По современным представлениям, это близко к тому, чтобы относить центральную нервную систему к одному полюсу дихотомии, а систему вегетативную – к другому. Можно тут вспомнить одну цитату, принадлежащую еще позапрошлому столетию: «Вопрос о взаимодействии духа и материи есть, как всякому известно, больное место картезианского дуализма»[84 - Вл. С. Соловьев. О грехах и болезнях // Он же. Соч. в 2-х тт. т. 1. М., 1989. С. 527.].
Итак, анализ телесного полюса дихотомии приводит к любопытным выводам. По ближайшем рассмотрении, этот полюс предстает как оригинальный философский конструкт: тело человека, полностью действующее, живущее, однако взятое вне мышления, лишенное мышления. Этот конструкт и есть знаменитое тело-машина, декартова идея тела. «Я рассматриваю тело человека как машину, построенную и состоящую из костей, нервов, мышц, вен, крови и кожи»[85 - R. Descartes. Mеditations. Loc. cit. P. 329.]. Нам понятна теперь философская основа этого тезиса. Практическим же воплощением его служит «Трактат о человеке», представляющий собой детальную дескрипцию картезиева конструкта, тела-машины в его работе. Как физиологическая модель середины 17 в., конструкт имеет сегодня лишь узкий историко-научный интерес, и для нас нет никаких причин входить в его содержание. Отметим только, что для Декарта, для его научных позиций, имела немалое значение сама машинность, т. е. механичность модели: построение полного механического описания человеческого организма, со всеми его функциями, было несомненным триумфом механики как Универсальной Науки о Мире. Но и механицизм Картезия нам незачем обсуждать подробней; нас занимают лишь философско-антропологические аспекты декартова подхода к телу.
Прежде всего, выяснив декартовскую идею тела, мы можем до конца уяснить и общее отношение философа к телесной стихии. Уже подчеркнутая «антиантропологическая» установка рассечения человека со всей определенностью ставит его мысль в русло дуалистической антропологии. В этом древнем русле, едва ли не древнейшем из всех, идущем от орфиков и пифагорейцев, все учения и концепции противопоставляли дух или душу телу, плоти, возвышая первое над вторым и соревнуясь между собой в резкости их противопоставления; причем основанием для возвышения духа всегда служил постулат о его Божественности, той или иной форме его причастности Божественной природе. Все эти родовые черты мы видим и у Декарта, так что его позиция, на первый взгляд, вполне традиционна, типична для данного русла – и может там помещаться где-то среди учений, достаточно крайних по резкости рассечения человека и вместе с тем, наиболее философски зрелых, отрефлектированных. Наилучший образец таких учений в додекартовой философии – неоплатонизм. Нас тянет к выводу, что ближайшим соседством для антропологии Декарта должна быть антропология Плотина, и к этому выводу еще подталкивает тот факт, что плотинов дуализм мы в свое время характеризовали почти теми же выражениями, как сейчас – «антиантропологизм» Декарта: «дуалистическое рассечение в неоплатонизме столь глубоко, что в неоплатоническом дискурсе собственно нет человека!»[86 - С. С. Хоружий. О старом и новом. СПб., 2000. С. 391.] – Однако пока наши типологические аргументы были слишком общего сорта, au vol d’oiseau. Если же обратить внимание на конкретные особенности и мотивации декартовой дихотомии человека, то родство с Плотином, как и со всей исторической традицией антропологического дуализма, драстически уменьшается. Едва ли не самой яркой, выпуклой чертой традиции всегда было негативное отношение к телу и плоти. Оттенки отношения варьировались, в них могли быть враждебность, гнушение, презрение, простое пренебрежение, суеверная боязнь… Но в спектре негативных характеристик были непременны религиозно-онтологические и аксиологические оценки. Антропологическая дихотомия всегда означала установление иерархии: два полюса человека, его духовная и телесная природы противопоставлялись как высокое и низкое, лучшее и худшее, достойное и недостойное, ценное и менее ценное… Имманентной чертой традиции была религиозно-онтологическая, аксиологическая и, как правило, этическая девальвация тела. В философии это порождало и питало тенденцию к спиритуализму, пониманию философии как философии духа, итинерария духа, устремляющегося прочь от плоти. И именно у Плотина, в его обращенном к духу призыве «бегства в дорогое отечество», спиритуалистический пафос и порыв достигают наибольшей силы. Возвращаясь же к Картезию, мы видим, что сходства, действительно, закончились. Почти ничего из описанного у него нет, но зато есть совсем иные черты. Главным и первоочередным образом, дихотомия Декарта несет эпистемологическое содержание. Философ не отвергает и онтологического аспекта: как выше мы говорили, его «гносеологический панентеизм» находит законы чистого разума непосредственно Божественными, тогда как за другим полюсом дихотомии, конечно, не утверждается подобных свойств. Тем самым, дихотомия имеет и иерархический характер. Но и то, и другое, и онтологичность, и иерархичность, для Декарта – достаточно побочные черты. У него нет никакой тенденции усиливать, акцентировать иерархичность, нет девальвации и принижения тела, тем паче, гнушения, презрения. Суть дихотомии – Картезий прав – вполне ясна и проста: из двух ее полюсов, познающим орудием служит исключительно один, дух, и всякое его смешение с другим полюсом, телом, – помеха великой миссии познания, независимо от того, хорош или плох сам по себе этот другой полюс. В Ответах на Вторые Возражения философ говорит, что те, кто утверждает причастность тела к мышлению «достаточно часто испытывали от него [тела] помехи в своих действиях, и это [их позиция] подобно тому, как если бы некто, с детства имевший оковы на ногах, решил, что эти оковы – часть его тела, и они ему необходимы, чтобы ходить»[87 - R. Descartes. Mеditations. Loc. cit. P. 369.]. Пожалуй, это – самый «анти-телесный» пассаж у Декарта, и его стиль с классическим образом оков вполне отвечает дискурсу старого спиритуалистического дуализма. Но смысл его, тем не менее, отнюдь не тот, что в традиции, он – чисто гносеологичен. Дурно не тело, а лишь чинимые им помехи познанию: ничего иного мы не прочтем нигде у Декарта.
Но надо пойти и еще дальше. Великая миссия познания, требуя отсечения всего телесного от орудий познания, одновременно ставит это же телесное, протяженное в центр как предмет познания. Разум должен быть строго отделен, очищен от всех влияний тела и мира – чтобы посвятить себя совершенному познанию тела и мира. В ряде мест Декарт эксплицирует тот порядок осуществления миссии познания, которому следует его Метод: Установление существования Я, как Первофакта – Установление существования Бога – Познание мира. Очевидно, что в данном порядке две первые задачи для него выступают как вполне обозримые, и их выполнение целиком достигается в его главных текстах; последняя же задача мыслится безграничной. Но еще более существенно другое: в рамках миссии, взятой в целом, две первые задачи неизбежно видятся как подготовительные по отношению к третьей, служащие созданию для нее базы и предпосылок. И это впечатление не обманывает. Сколь бы ни была значительна Philosophia prima, созданная Декартом, но в его эпистеме она имеет лишь ограниченные задачи, предназначаясь быть прологом, преддверием к главному и безграничному делу разума – всестороннему познанию мира, ведущему к пользе человека и общества. (Принцип пользы, полезности также занимает видное место в эпистеме). Сильней всего этот мотив звучит в разговоре с Бурманом: «Не надо особо погружаться в метафизические предметы… достаточно получить о них общее представление и запомнить выводы, иначе дух слишком удаляется от чувственных и физических предметов, а именно их рассмотрение всего желательней для людей, ибо в нем они бы в изобилии нашли то, что полезно для их жизни»[88 - Id. Entretien avec Burman. Loc. cit. P. 1381.].
Без натяжки можно сказать, что Декарту предносилась картина познания как технического прогресса, служащего источником улучшения нравов, общества и человека: картина, составляющая идеал новоевропейской цивилизации. И едва ли мы ошибемся, сказав, что эта ориентация, а точней, переориентация разума и познания – самое революционное в его учении. Мы постоянно говорили, что новизну его мысли составляет гносеологический или эпистемологический поворот, перевод метафизической проблематики в эпистемологический ракурс, или дискурс. Сейчас, однако, можно заметить, что для истории мысли было не новым, а достаточно традиционным выражать назначение разума и человека на языке познания; и исполнение этого назначения весьма часто – к примеру, во всей платонической традиции – описывалось как идеальное познание-созерцание. Кардинальное отличие Декарта – именно в направленности, в целях познания! На поверку, у него происходит полный переворот, инверсия освященной веками иерархии познания: всегда и незыблемо считалось, что разум восходит от «низких истин» эмпирии – к «вечным истинам», от наблюдения обычных окружающих явлений – к созерцанию «вещей Божественных», что бы под ними ни понималось. Но разум Картезия следует обратным путем: занявшись ненадолго «вопросом о Боге» (дабы получить от Бога водительские права), он переходит, как к самому главному и серьезному, к изучению явлений. Плотин стыдился тела, в своей философии не желал входить в связанные с ним темы, даже в ущерб полноте анализа[89 - См. примеры в нашей книге: С. С. Хоружий. Цит. соч. С. 393–394.], и страстно звал дух к «бегству в дорогое отечество», к Единому. Декарт же пишет подробный трактат о теле и не призывает разум ни к какому бегству, ни к какому созерцанию «вещей Божественных». Так ближайшее соседство – тоже реальное, не измышленное нами! – сочетается с полной противоположностью, причем почти в том же самом: в трактовке исповедуемого обоими гениями глубокого антропологического дуализма. История мысли – поучительное занятие… Конечно, Декарт не отрицает существования «вещей Божественных», но он устраняет их из горизонта познания – а по существу, и сознания, передав в ведение теологии, а от последней тщательно отгородившись, устроив для нее своего рода splendid isolation или почетное гетто. В результате, признание их существования оказывается простой словесной условностью, не влияющей на программу деятельности разума – и поворот разума в установку, всецело обращенную к миру, достигает успешного довершения. Этот поворот есть подлинная, коренная секуляризация мысли – поистине, коперниканский переворот! – и я убежден, что, по всей справедливости, сакраментальная формула должна быть переадресована от Канта Картезию.
Сказанное не может не иметь и прямо относящегося к нам, антропологического значения. Войдя глубже в картезианское отношение к «протяженному», к телу и миру, представив идейный контекст этого отношения, мы видим, что все это не заставляет изменять начальные общие оценки: конституируя телесность человека, с одной стороны, и его мышление, с другой стороны, как полюсы резкой бинарной оппозиции, декартова речь о человеке неоспоримо принадлежит руслу дуалистической антропологии. Но в этом русле она представляет собой радикально новое, революционное явление: она основывает гносеологизированный и секуляризованный антропологический дуализм Нового Времени. В терминах антропологии, его кардинальное отличие заключается в отказе от стратегии или парадигмы мета-антропологического восхождения-трансцендирования. Об этой парадигме мы еще будем много говорить ниже, даже дадим ей, на декартов манер, «геометрическую дефиницию», однако сейчас удовлетворимся предварительной характеристикой, связывающей ее со старинным языком «восхождения». Парадигма не ограничена рамками дуализма, она описывает некоторую стратегию человека, независимо от того, мыслится ли его природа цельной или рассеченной. Сама же стратегия заключается в осуществлении устремления («восхождения») Человека к Инобытию, онтологически Иному, с финалом, мыслимым как претворение в Иное, или что то же, трансцендирование, актуальная онтологическая трансформация. Реализация стратегии – онтологический и мета-антропологический процесс, который проходит человек, либо, в дуалистических концепциях, некая выделенная, избранная часть его природы, «душа». Явно или неявно, данная парадигма всегда была «подлежащим» не только христианского, но и значительно шире, религиозного мироотношения как такового. Коперниканский переворот Декарта выводит разум из этой парадигмы. В декартовой эпистеме разум не совершает онтологического трансцендирования; он изначально божествен в достаточной для себя мере и таковым остается. При этом, он может и должен усовершаться, очищая себя; и установка «очищения» есть совпадающий элемент с парадигмой восхождения. Но смысл установки уже другой: очищение декартова разума – не онтологическая, а сугубо эпистемологическая процедура, которая в дальнейшем будет осмыслена Кантом как формирование «трансцендентального» разума, или же некое сугубо когнитивное трансцендирование. (Как мы уже не раз видели, сдвиг или модуляция дискурса из онтологии в эпистемологию – типичная черта в соотношении учения Декарта с предшествующей мыслью). – Т. о., принятие, усвоение новой эпистемы несло с собою отход европейской мысли от базовой парадигмы онтологического трансцендирования. На языке антропологической модели, которую мы будем развивать в этой книге, это означает, что начали изменяться отношения Человека с его Границей. Подобные изменения – самые крупные из всех, какие возможны в ситуации Человека. Mein Liebchen, was willst du mehr?
С. Зона связи. Выше мы уже неоднократно затрагивали смешанные явления, в конституции которых принимают участие оба полюса дихотомии, и сознание, и тело. Сейчас нам предстоит дать сводное обозрение их сферы, и начать следует с того, какова же природа связи этих полюсов, их соединенности в человеке. Этот вопрос мы тоже затрагивали, заметив, что у Декарта нет его рассмотрения, хотя в его учении он встает как серьезная проблема: Что такое соединение и соединенность пространственного и непространственного, отсутствующего в пространстве? Такая лакуна симптоматична, поскольку в системе понятий Декарта имелась лишь одна возможность «ясного и отчетливого» ответа на вопрос: допущение, что элемент непространственный есть действие, а пространственный – действующий агент; а это отвечало бы отвергнутому Декартом положению «тело мыслит». Но, избегая острия проблемы, философ все же пытается дать некие формулы или образы для характеристики природы связи. В Ответах на Шестые Возражения он вводит различие между «единством природы» и «единством состава (composition)», понимая под вторым единство двух разных элементов сложного целого; и утверждает, что мыслящее и протяженное «обладают лишь единством состава, в том смысле, что они сочетаются в одном человеке, как кости и плоть в одном животном»[90 - R. Descartes. Mеditations. Loc. cit. P. 528.]. В Ответах на Возражения Арно найдем также тезис, что «дух субстанциально соединен с телом, [однако] это субстанциальное соединение не мешает тому, чтобы можно было иметь ясное и отчетливое понятие духа как полного в себе предмета»[91 - Ib. P. 447.]. Вводимое здесь понятие субстанциального соединения (union) двух всецело различных субстанций не слишком ясно, но по контексту можно предположить, что имеется в виду включенность обеих субстанций в «сущность человека», и в этом случае «субстанциальное соединение» имеет тот же смысл, что и «единство состава». Не однажды Декарт указывает, что связь духа и тела в его учении рисуется иначе, чем в платонизме (современники сразу же начали сближать новую дуалистическую концепцию с древней). По Картезию, эта связь тесней, она не соответствует платоническим образам души, использующей тело лишь как пристанище: «Я не просто помещаюсь в теле, как кормчий на судне, но я связан с ним теснейше, слит так, что составляю с ним одно целое. Иначе, когда мое тело поранено, я бы не ощущал боли… но замечал бы рану лишь пониманием, как кормчий замечает поломку в судне»[92 - Ib. P. 326.]. На этой цитате стоит немного остановиться. Платон не счел бы ее состоятельным возражением против его представлений о связи духа и тела: ощущения, о которых говорит Картезий, не принадлежат духу в платоновском понимании, для платоника и рана, и боль от раны – дела тела, и никакой тесной связи двух полюсов эта боль не доказывает. Не увидим и мы сегодня в этом доводе оснований считать, что какая-либо из двух позиций истиннее другой: несостоятелен любой дуализм, какую бы бинарную оппозицию он ни устраивал из человека. Но мы заметим, что из приведенных слов ясно выступает действительное открытие Декарта: в отличие от Платона, он включил в дух данные чувств, включил все, что мы знаем сегодня как содержания сознания; и то, что получилось, назвал «Я». Это означает, что Декарт, в самом точном смысле, открыл сознание; тогда как Платон еще сознания не открыл.
В целом, однако, смешанные явления – та сфера, где философу менее всего удается воплотить свою эпистему. Их описание далеко от строгого следования Методу, когда прежде всего полагаются немногие Первые Принципы, и затем все утверждения «ясно и отчетливо» выводятся из них, и только из них, по сформулированным правилам. Применяемая здесь эпистемология, равно как и метафизика, почти не выходит за рамки старого аристотелизма; а, в основном, Картезий здесь вынуждается быть попросту эмпириком. Хуже того: эмпирического материала постоянно недостает, и тогда описание дополняется примысливанием, которое у Декарта, увы, гораздо чаще представляет собой неумеренную фантазию, чем обоснованную научную интуицию. Аристотелев подход выдвигается с самого начала: классификация смешанных явлений, структурирование всей области их производится на основе классической оппозиции Стагирита, действие – претерпевание. Новая наука не будет так подходить к описанию явлений, но мы видим, что к старому школьному подходу тут толкает сама декартова дихотомия: требуется описать явления, которые определены как явления встречи, соединения двух природ; и наиболее общим принципом кажется разделять такие явления по тому, какая из участвующих природ служит действующей, и какая – претерпевающей.
Действие души – воления (volontеs), и к смешанным явлениям принадлежит один их определенный вид: «Есть два вида волений. Один суть действия души, в ней же и завершающиеся, как то, воление любить Бога или вообще приложить мысль к некоторому нематериальному предмету; другие же суть действия, завершающиеся в теле, как то, воление прогуляться, при котором ноги двигаются и начинают ходьбу»[93 - Id. Les passions de l'ame. Loc. cit. P. 705.]. К волениям, входящим в круг смешанных явлений, Декарт относит и воображение, хотя с оговоркой, указывающей на долю произвола в таком решении, поскольку в структуру воображения входит восприятие, элемент пассивный: «Когда душа воображает… ее восприятия зависят, главным образом, от воления, создающего апперципируемые вещи, и потому [эти явления] рассматриваются скорее как действия, нежели как страсти»[94 - Ib.]. Что касается претерпеваний души, то они имеют такие же два вида: душа может претерпевать воздействия со стороны себя самой, либо со стороны тела. Оба вида объемлются термином «восприятия» (perceptions). Кроме того, в согласии с изначальным аристотелевским смыслом понятия, все претерпевания как таковые могут обозначаться и термином «страсти» (passions): «Можно называть страстями вообще все виды наших восприятий и познания, поскольку часто не душа делает их такими, каковы они суть, и она всегда получает их от вещей, ими представляемых»[95 - Ib. Р. 704.]. Декарт, однако, предпочитает дать термину более узкое значение, выделяющее такие претерпевания души, в которых роль тела в некоем смысле минимизирована или опосредована; для них он всегда использует сочетание двух слов, «страсти души», а не просто «страсти». «Восприятия, относимые нами только к душе, суть те, действие которых ощущается непосредственно в самой душе и для которых не известно никакой ближайшей [имеется в виду, телесной] причины: таковы чувства (sentiments) радости, гнева и подобные им, которые возбуждаются в нас иногда предметами, затрагивающими наши нервы, а иногда также иными причинами… Только этот род восприятий я называю страстями души»[96 - Ib.Р. 707–708.]. Из всей сферы смешанных явлений, именно на «страстях души» Декарт сосредотачивает главное внимание, посвящая им особый трактат. Нам в ретроспективе ясна тенденция, сквозящая в этом выделении: мысль философа пробивается к тому, чтобы нащупать и выделить, очертить некую область, которая в позднейшей психологии будет областью «душевных явлений».
Понятно, однако, что «страсти души» не исчерпывают всех претерпеваний души, связанных с телом. Общим термином для всей области этих претерпеваний служат «чувства» (sens): Декарт принимает широкое значение термина, следуя за языком, который в большинстве европейских наречий, включая русское, именует «чувствами» и внешние перцепции, и душевные эмоции, и потребности (как мы помним, две последние категории у Декарта носят название «внутренних чувств»). Перечисление всего содержимого этой области найдем в «Началах»: «Есть определенные вещи, которые мы ощущаем в нас и которые нельзя отнести ни только к душе, ни только к телу, а можно отнести лишь к их тесному соединению: таковы чувства жажды, голода, эмоции и страсти души, которые зависят не только от мысли, как то, эмоция гнева, радости, печали, любви и т. д.; таковы же все чувства – света, цвета, звука, запаха, вкуса, тепла, твердости и все прочие качества, относящиеся к осязанию»[97 - Id. Principes de la philosophie. Loc. cit. P. 592.]. В совокупности с «волениями, завершающимися в теле», данное перечисление составляет полное описание области смешанных явлений. Представленная классификация этих явлений, как замечает и сам Декарт, далеко не обладает четкостью и однозначностью: в первую очередь, оттого что в сфере феноменов сознания сама оппозиция действие – претерпевание зыбка, неоднозначна и часто попросту условна. В очень многих явлениях роль души может описываться двояко, как в терминах действия, так и в терминах претерпевания: «Хотя для души хотеть (волить, vouloir) чего-то является действием, можно также сказать, что здесь у нее страсть воспринять то, чего она хочет. Здесь восприятие и воление суть одно и то же, и выбирается имя, отвечающее более благородному, так что обычно тут говорят не о страсти, а о действии»[98 - Id. Les passions de l’ ?me. Loc. cit. P. 705.]. От полной условности классификацию ограждают, однако, некоторые актуальные отличия волений души от ее страстей: «Воления… целиком во власти души, и тело может лишь косвенно изменять их, страсти же [в широком смысле любых претерпеваний], напротив, всецело зависят от порождающих их действий, и душа может лишь косвенно их изменять, за вычетом тех, причина которых она сама»[99 - Ib. P. 715.].
Рассмотрение феномена «страстей души» в общем контексте учения о душе (духе, Я, сознании) – центральная задача психологии Декарта и ее главное содержание. В решении выделить эти явления, положив их в основу особого антропологического раздела, промежуточного между учением о духе и учением о теле, философ достаточно традиционен; начиная с античности, общие представления о человеке, антропологические концепции и учения практически всегда выделяли меж сферами Разума и Тела, Плоти некую промежуточную область. Она долго не могла получить четких границ и даже определенного названия, пока наконец в рамках христианской трихотомии человека за ней не был закреплен аристотелев термин «душа», понимаемый, однако, в значительно измененном и суженном смысле. Учение Декарта – важный, но еще далеко не завершающий этап в этой эволюции души и конституции психологии: «душа» еще сохраняет у него старое значение, однако в понятии «страстей души» и в развитии учения о страстях его мысль, как мы отмечали, уже продвигается к оформлению особой предметной области «душевных явлений». Чтобы оценить это продвижение, следует рассматривать психологию Декарта в сопоставлении с двумя референтными дискурсами, между которыми она располагается в истории предмета: разумеется, с воззрениями современной научной психологии, но также и с позициями древней практической психологии христианской аскезы, в рамках которой было впервые развито учение о страстях.
Трактат о страстях открывается и строится как строгий научный текст, желающий дать систематическое описание-исследование определенной области явлений. Эта область прежде рассматривалась с сугубо ошибочных позиций, и свой подход Декарт представляет всецело новым: «Я должен буду писать так, как если бы рассматриваемые предметы до меня никто не затрагивал»[100 - Ib. Р. 695.]. По правилам своего Метода, он начинает с построения эпистемологической базы: определяется круг объектов и процессов, устанавливаются главнейшие отношения между объектами, указываются главнейшие механизмы, управляющие процессами. Вводятся основные понятия, подлежащие изучению: воления, восприятия, страсти в широком значении, страсти души; устанавливаются взаимосвязи и наиболее общие свойства этих понятий. Далее, вслед за созданием базы ставится и решается первая крупная проблема: построение полной системы страстей души. Решение осуществляется с помощью единого принципа: поскольку «главные и стандартные (ordinaires) причины страстей… предметы, действующие на чувства… следует лишь рассмотреть по порядку, какими различными способами наши чувства способны возбуждаться действующими на них предметами»[101 - Ib. Р. 722–723.]. В итоге, выстраивается обширная номенклатура страстей, которая дополняется их классификацией и наделяется богатой структурой. Главный принцип структуры – выделение шести «первичных» (primitifs) страстей: восхищение, любовь, ненависть, желание, радость, печаль; «все прочие суть комбинации каких-либо из этих шести, либо их разновидности»[102 - Ib. Р. 728.]. Каждая из первичных страстей подвергается отдельному анализу; для первичных страстей, а также и для большинства остальных описывается их внутренний механизм, посредством которого они порождаются и действуют. Отдельно описываются и систематизируются внешние проявления страстей. Легко согласиться, что названные результаты образуют солидный фундамент учения о страстях. Успешно завершив возведение этого фундамента, в заключительной части трактата Декарт переходит к рассмотрению более частных проблем: особенности отдельных страстей, способы и стратегии обращения души со своими страстями, возможности воздействия на них, и др.
Это резюме трактата не стилизовано нами специально под описание современной научной работы: текст Декарта действительно написан так, он подчинен правилам организации научного дискурса, почти в современном понимании этих правил. Тем не менее, резюме еще далеко не дает полного представления о трактате. Мы описали задачи, которые ставит и решает текст: так сказать, уровень замысла. Не описали же мы пока, как текст решает эти задачи – т. е. уровень исполнения. И едва мы переходим на этот уровень – за наукообразным фасадом открывается самая причудливая картина. Дело в том, что, желая построить научное учение о страстях, философ начинает применять свой принцип дихотомии души и тела в такой сфере, где он теряет почву реальности и становится измышлением, влекущим на путь грубых фантазий. Дихотомия Декарта была философским (эпистемологическим) открытием, проложившим путь к конституции нужнейших для философии и психологии концептов – Эго, Сознание, Субъект. Но в сфере учения о страстях философ принял ее в качестве естественнонаучного принципа – и на базе этого принципа принялся строить прямолинейные описания того, как именно «душа» эмпирического человеческого существа претерпевает действия «тела», рождая определенные страсти. То была ошибка, которую хорошо выразил некогда Антоша Чехонте: если можно сказать «я друг этого дома», это еще не значит, что можно сказать «я друг этого кирпичного дома»; наука же называет такую ошибку употреблением понятия или приема вне сферы его корректного применения. Далее, чрезмерная вера Декарта в свою дихотомию совокупилась с чрезмерной же верой его в механику – и, увы, весь «научный аппарат» его учения о страстях есть плод сего нездорового совокупления. Незадолго до текста о страстях, в начале 40-х годов, был написан «Трактат о человеке», где Декарт развил механико-физиологическую модель тела-машины: модель затейливого переплетения системы разнообразных трубок, по которым под действием чисто механических сил циркулируют разнообразные жидкости, пары, тонкие и грубые частицы. В учении о страстях философ распространяет эту модель с описания телесных функций на функции сознания. Результат мог быть только плачевным: если в первом случае возникает любопытный и даже, пожалуй, героический пример законченного механистического редукционизма, то во втором редукционизм соединяется с полным вымыслом. В трубочную механику требовалось включить прямые переходники от тела к душе, аналоги перцептивных механизмов в модели тела. Но для эмоций и страстей подобных аналогов не существует, и в модель вводятся чисто фантастические элементы: переходный пункт из одной природы в другую (уже упомянутый conarium, эпифиз, где якобы сосредоточены все функции души), а также особая передаточная среда, «некий весьма тонкий воздух или ветер, именуемый животными духами (esprits animaux)». Эти-то два агента и выполняют всю работу: для каждой из страстей философ измышляет свой механизм или пожалуй сценарий их совместной деятельности. В итоге же, на месте предполагавшейся научной теории страстей оказывается мыльная опера «Похождения Шишковидной Железы и Животных Духов».
Если механическая модель служит для описания внутреннего механизма страстей, то для построения их системы и установления их взаимосвязей используется по преимуществу другой дискурс, базирующийся не на данном механизме, а на непосредственном наблюдении и обычной логике. Так, восхищение Декарт ставит на первое место, в вершину всей системы страстей, на том основании, что это самая непосредственная из страстей, способная вспыхнуть до всякого познания вещи; надежда, опасение, ревность, уверенность и отчаяние объединяются вместе, в одну группу, оттого что все они выражают разные степени обладания или не-обладания некоторым желаемым благом; и т. д. Как ясно уже из этих примеров, это отнюдь не дискурс, строимый на философских концепциях или научных доказательствах, и ни из каких немногих общих Первоначал, как следовало бы по Методу, декартова система страстей не выводится. Гораздо ближе мы здесь к дискурсу простого морализма, «житейской мудрости», который имел расцвет во Франции и во всей Европе в 17 в. В этом жанре большой простор субъективности, и важное значение приобретает личность философа; лучшие образцы жанра – те, в которых за текстом ощутимы высота духа, пронзительность видения человеческой натуры, особое богатство опыта… Но этих свойств не демонстрирует текст Декарта; пред нами скорее морализм средней руки – и средней души: во всем сквозят умеренность, добропорядочность, осторожность, так что в аспектах личных Декарт тоже кажется близок к Канту (хотя тот несравненно прямодушнее).
Наконец, как мы замечали, следует сопоставить декартов опыт психологии, в качестве ближайших референтных дискурсов, с научной психологией и с аскетикой. Сопоставление с первой уже, по сути, проделано; стоит разве что добавить один момент. При создании новой научной области, одна из главных задач – отыскание, формирование, конституция системы или хотя бы отдельных базовых понятий данной области, выражающих специфическую, несводимую природу ее явлений. Но подход Декарта, принципиально редукционистский, не ставит такой задачи, и это с самого начала ограничивает его возможности на пути к научной психологии. Что же касается аскетики, то сам Декарт не раз отмечает, что в трактовке различных страстей и их отношений его учение отличается от принятого церковного учения о страстях; последнее же, в целом, следует подходу аскетики. При этом, однако, все указываемые им расхождения восходят скорее к терминологии, к исходному пониманию страсти: аскетическое понимание имело практические генезис и основу, оно рождалось из опыта раннехристианского монашества и вовсе не ориентировалось на Аристотеля; более узкое декартово понятие «страстей души» подходило ближе к нему, но также отнюдь не совпадало полностью. Но главные отличия трактовки Декарта от аскетической традиции совсем не в этом, они много глубже. Независимо от терминологии, от дефиниций, сам феномен страстей, вся область их обладали для Декарта совершенно иным смыслом, ибо интегрировались в иную общую антропологическую парадигму. Для аскетики страсти были препятствием на пути восхождения к Богу: восхождения, в котором виделись смысл и назначение человека (и которое в наших терминах значило не что иное как вышеупомянутое «мета-антропологическое восхождение-трансцендирование»). Такой взгляд имплицировал предельно активное отношение к ним, и главным предметом аскетического учения о страстях было их преодоление, а затем искусство избегать самого зарождения их. Но, как мы говорили, мысль Декарта покидает парадигму мета-антропологического восхождения-трансцендирования, – и именно это коренное обстоятельство влечет главные различия двух подходов к страстям. Исчезает стратегия претворения человеческой природы – ergo, исчезает и задача общего преодоления, искоренения страстей в целом, как таковых. Обращение души со страстями, по Декарту, – не борьба, а балансирование, соизмерение, расчетливая коммерция; и финальный вывод его трактата гласит: «Мы видим, что все они [страсти] по природе благи»[103 - Ib. Р. 794.]. – Различие, на поверку, оказывается кардинальным. В аскезе страсти – религиозный, онтологический и психологический феномен; в деистической секуляризованной парадигме Декарта остается лишь чисто психологический аспект, и при этом этическая оценка явления меняется диаметральным образом.
* * *
Итак, нам представились, по очереди и по отдельности, разделы учения Декарта, относящиеся к человеку. Далее, как предполагалось, мы должны дать характеристику целого, сложив из частей некоторый общий облик человека Картезия. Желая увидеть такой облик, мы должны, прежде всего, поставить вопрос: чем объединяются у Декарта описанные части, Субъект-Сознание, Тело-Машина, Сфера Смешанного? Каковы у него идеи, понятия, установки – вообще, любые «параметры» – которые относятся разом ко всем этим частям и тем самым характеризуют человека-в-целом, человека как определенное единство? Ответ оказывается затруднительным. Вновь обозревая учение, только что подробно описанное, мы как будто нигде не обнаруживаем нужных предметов. Это озадачивает нас и заставляет задать следующий вопрос: а какие собственно предметы должны были обнаружиться? Что должно входить в эти объединяющие, интегральные понятия и параметры, коих мы искали и не нашли? Установить их исчерпывающую систему было бы, пожалуй, еще затруднительней, но в этом и нет нужды; мы можем удовлетвориться главными видами, которые достаточно очевидны. В первую очередь, к характеристикам человека-в-целом принадлежат те антропологические понятия, которые являются и онтологическими, характеризующими сам способ бытия человека: таковы понятия, выражающие фундаментальные предикаты данного онтологического способа (как то, конечность, смертность) или прямо связанные с ними. Они усиленно изучались в экзистенциализме, причем исходной задачей изучения всегда ставилось именно обоснование и удостоверение их онтологической природы, сущностного отличия их от простых психологических категорий. Общеизвестными примерами их служат бытие-к-смерти, забота, тревога и проч. Заметим, что признание их онтологическими, а тем самым, и интегральными характеристиками человека отнюдь не требует принятия той или иной экзистенциалистской доктрины: оно вытекает из их принадлежности основоустройству смертности или иного предиката бытия человека. Мы будем называть этот род понятий экзистенциальными предикатами. Далее, в круг интегральных характеристик входят понятия и установки религиозной жизни: всегда и во всех обществах, вплоть до появления глубоко секуляризованных, религиозная сфера была главным и самым явным источником и примером, ареной проявления человека-в-целом. В своем доктринальном выражении религия и религиозность могли быть дуалистичны, спиритуалистичны, могли исключать «плотского человека» из отношения к Инобытию, но в антропологическом аспекте это не меняло дела: самореализация человека в орфическом культе, как и в холистической духовной практике, была его целостной, интегральной активностью; разве что деистическая религиозность, как редуцированная форма, прямо предшествующая секуляризации, может быть исключением из этого правила. И наконец, в число основных видов интегральных проявлений следует включить проявления интерсубъективные, феномены человеческого общения. Как не раз демонстрировала, обосновывала современная философия – убедительнее всего, вероятно, Левинас, хотя в христианской мысли разных эпох также можно указать яркие утверждения этой идеи, – отношение к Другому (другому человеческому лицу, «ближнему» и т. п.) тоже должно рассматриваться как онтологический предикат, оно выступает в антропологической структуре не одним из частичных и частных отношений, но как отношение целостное и личностное, конституирующее для человека-в-целом.
Итак, дискурс религиозной жизни, мир интерсубъективности, межчеловеческого общения, экзистенциальные предикаты – все это суть аспекты и измерения человека-в-целом, элементы его основоустройства. (Повторим, список может быть и продолжен, мы не стремимся к полноте). Все эти аспекты и измерения, действительно, практически отсутствуют в дискурсе Декарта, разве что при тщательном разыскании мы найдем какие либо их бледные и умаленные подобия, тени. Так, в «Страстях души» есть и некая трактовка любви. Здесь, в виде исключения, томистская теология созвучна Декарту и помогает ему, ибо она утверждает первичность познания по отношению к любви. (Как мы показывали[104 - С. С. Хоружий. К феноменологии аскезы. М., 1998. С. 214–216.], позиции православной мысли в этом противоположны). Декарт усиленно акцентирует этот примат познания, замечая, в частности, что, когда он соблюден, то никакая любовь не может быть чрезмерной, в том числе и любовь к себе самому. Но и не только познание первичней любви. «Более первична и необходима… ненависть, чем любовь, поскольку важнее отбрасывать вещи, что могут вредить и разрушать, чем приобретать такие, что добавляют какие-либо совершенства, без которых можно просуществовать»[105 - R. Descartes. Les passions de l’ ?me. Loc. cit. P. 759.]. Описываемая здесь человеческая способность, «без которой можно просуществовать», абсолютно не совпадает с той, что признается верховным началом и религиозной, и интерсубъективной сфер. Поэтому имя, сохраняемое за этим ублюдочным конструктом, может лишь ввести в заблуждение: в действительности, в учении Декарта нет любви, как нет в нем и смерти (есть только списание отслужившей машины), нет Бога Авраама, Исаака и Иакова и нет еще многих вещей, отмеченных нами и не отмеченных. Для верной оценки нельзя не взглянуть на откровение Декарта в свете откровения Паскаля. Мы видели, что приобрел Декарт, а следом за ним и все человечество, воплощая откровение новой эпистемологии: приобрели цельную эпистему, перспективу видения и способ познания, максимально ориентированные к целям полезного освоения мира, на современном языке, научно-технического прогресса. Но за эти приобретения, как тоже видим, пришлось расплачиваться утратами; и сегодня вновь человечество усиленно размышляет, является ли плата оправданной.