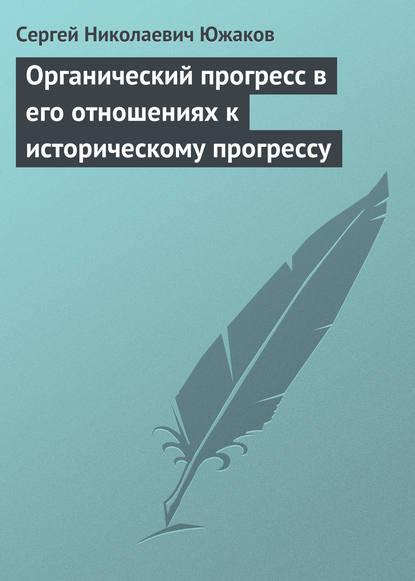По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Органический прогресс в его отношениях к историческому прогрессу
Автор
Год написания книги
1890
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
У Риттера встречаем интересные указания на ту роль, которую имел даже характер речной системы. Например, Тигр и Евфрат в своих верховьях и средних течениях достаточно изолированы для зарождения совершенно самобытных цивилизаций, но ниже обе реки сближаются и сливаются, сообразно чему и в истории видим мы сближение и слияние цивилизаций, ассирийской (на Тигре) и вавилонской (на Евфрате). Такое возникновение цивилизаций не в одном центре с будущим объединением дарует историческому развитию более широкое основание и более многостороннюю жизнь. Пример еще более яркий представляет Китай, где южнокитайская цивилизация (возникшая на Янцекианге) постепенно объединялась и сливалась с северокитайской (развившейся на Гоанго). Великие китайские реки, разъединенные и удаленные в верхнем и среднем течении, сближаются в нижнем, хотя и не сливаются, подобно Тигру и Евфрату. Все эти столь важные различия в распределении и направлении речных систем зависят, однако, от вертикального развития, и указанное громадное историческое значение этих различий, как и прямое непосредственное значение горных кряжей, их величины и направления, заключается в том, что одни сближают, а другие разобщают центры исторической жизни, зарождающейся на различных точках материка. Мы уже видели, как развитие культуры уничтожает естественные преграды и сближает цивилизации и культуры. Таким образом, и вертикальное развитие территории (вместе с зависимою от него гидрографией) теряет былое решающее значение в истории, сохраняя, конечно, все свое факультативное значение и роль.
Если строение территории (горизонтальное и вертикальное развитие со всеми последствиями) главным образом влияет на историю чрез облегчение или затруднение общения между историческими народами и культурами, уже возникшими на разных пунктах материка, то облегчение или затруднение самого возникновения этих культур зависит от другой группы физических деятелей, объединенных выше под именем "почвы и климата". Плодородие почвы, удобство и обилие орошения, обилие тепла и света – таковы условия, облегчающие возникновение культуры. Этими условиями отличаются Египет, Индия, Месопотамия, Китай, Мексика, Перу. Здесь и возникли самобытные древнейшие цивилизации. Легкость культуры является тому основною причиною. Эта легкость культуры дальше служит, по мнению Бокля, фактором, содействующим деградации и упадку. Его аргументация, однако, легко поддается критике, потому что она в своем рассуждении исходит из политико-экономических формул, неприменимых к странам некапиталистическим.
Бокль рассуждает так: обилие пищи и легкость ее добывания ведет к быстрому размножению рабочих классов; это быстрое размножение производит переполнение рынка рабочими, отсюда – понижение рабочей платы, нищенство и кабала большинства; экономическое порабощение порождает и политическое со всеми его последствиями: упадком и вырождением. В этом рассуждении две крупные логические ошибки: 1) переполнение рабочего рынка может произойти лишь тогда, когда существует этот рынок, явление, возникающее лишь при капиталистическом строе и свободной конкуренции. В первобытные времена, когда не возникло еще крупного производства и не выделился капитал в особое общественное явление, действуют иные экономические законы, определяющие заработок трудящихся классов; 2) быстрота размножения, с другой стороны, может служить причиною нищеты и скудости лишь в случае, если эта быстрота обгоняет производство пищи, но именно обилие и даже изобилие пищи и является исходною точкою всего рассуждения. Аргументация Бокля, таким образом, не выдерживает критики, но в самой идее Бокля есть своя доля истины. Легкость культуры дозволяет развитию культуры, так сказать, опередить рост активности, в которой одной, однако, заключается гарантия против разных уродливостей культуры, неизбежно возникающих из международной и междукультурной борьбы. Активность срезывает эти уродливости и исправляет течение культурного прогресса. Недостаток активности, отставшей в своем развитии от культуры, представляется, таким образом, явлением опасным, не однажды уже приведшим к падению и вырождению. "Очень благоприятные условия почвы и климата" могут, таким образом, служить и на благо, и на зло. Недостаточно развитая активность первобытных времен ведет к тому, что она служит сначала на благо, затем на зло и вызывает тот исторический циклизм, который уже давно замечен философами и историками. Высоко развитая активность, обеспеченная и развитая уже не физическими, а общественными ее возбудителями, обращает ныне эти "очень благоприятные условия почвы и климата" только на благо. Условия почвы и климата сохраняют, таким образом, лишь факультативное значение и лишаются былой власти над ходом и исходом исторического движения.
Третью группу физических деятелей составляет общий вид природы. Прекрасные страницы, посвященные этому вопросу Боклем, вполне удовлетворительно исчерпывают вопрос, но там же сам Бокль указывает, что его рассуждение относится преимущественно к первобытным временам. В самом деле, если несомненно очень высоко значение деятеля, под влиянием которого слагаются мифические воззрения народов, то столь же несомненно, что с падением мифического миросозерцания падает и значение деятеля, его обусловливавшего. Всемирные космополитические религии, сменяющие собою национальные мифологии, а затем и единая, для всех одинаковая наука сводят значение общего вида природы к роли, хотя и довольно заметной (чрез национальную поэзию, искусство, творческое воображение, поэтическую настроенность и пр.), но также факультативной, не господствующей более над всею духовною культурою народа.
Таким образом, физическая среда, которая сначала, с вытеснением подбора, приобрела такое громадное определенное прямое влияние на историческое развитие, затем постепенно уступает это значение культуре, и процесс истории все более и более сводится к взаимодействию культуры и активности, которая заключается в деятельности личностей и выражается в развитии личности. История человечества, взятая от возникновения первых семейных и племенных союзов и до самых совершенных цивилизованных форм, сама собою распадается на три явственно различные периода: 1) период, когда направляющими факторами развития являлись подбор естественный и подбор половой, а прямое определенное влияние среды имело значение второстепенное и служебное; 2) период, когда с разложением и вытеснением сложных деятелей органического прогресса и с ослаблением органической наследственности первенствующее значение приобрело определенное влияние среды, но, благодаря недостаточному развитию культуры, главная роль в этом влияний выпала на долю среды физической, климата, почвы, строения территории, общего вида природы; и наконец, 3) эпоха, в которую развитие культуры достигает такого могущества, что частью совершенно вытесняет, частью ограничивает значение физической среды, и человечество более, чем когда-либо, становится господином своей судьбы и своей истории. Дикость, варварство и цивилизация могут служить удобными терминами для обозначения этих эпох.
Приложение
Субъективный метод в социологии
Глава I
Неповторяемость исторических явлений и относительность знания
Джон Стюарт Милль заключил капитальнейший из своих трудов предсказанием, что наука об обществе будет создана работою ближайших будущих поколений. Не знаю, исполнится ли завещание, оставленное нашему времени одним из величайших умов XIX в., сложится ли, наконец, социология как единая, обособленная наука, но я уверен в том, что именно нашему времени, нашему и ближайшим будущим поколениям предстоит либо создать эту науку, либо навсегда отказаться от мысли уловить общие законы социальной жизни в ее целом и ограничиться установлением частных законов, определением отношений отдельных областей, элементов общественной среды. Давно уже мыслящие люди стали обращать внимание на природу общественных явлений, но до конца прошлого столетия приступали к этому крайне ненаучно: обыкновенно предпосылали своим философским построениям несколько общих положений, почитавшихся либо откровенными, либо прирожденными нравственными постулатами человеческой натуры, и на этих тезисах строили они свои теории. Необходимость положить в основу общественных теорий научное исследование стала сознаваться в половине XVIII ст., когда появились труды Ло, Монтескье, Петти, Руссо, Кондорсе и др.; это сознание еще яснее выразилось в исследованиях физиократов и, наконец, нашло своих истолкователей в конце XVIII века и начале XIX в. в лице Ад. Смита, Иеремии Бентама, Шарля Фурье и Сен-Симона. Эти мыслители восстали против ненаучности приемов тогдашних общественных наук и сделали попытки применить научные приемы, как каждый их понимал. Все четверо прибегли к различным приемам и создали в обществознании различные методологические предания.
Настоятельность и неотложность практических общественных вопросов, их громадное значение как для настоящего, так и для всего будущего народов заставляли мыслителей слишком поспешно переходить от чисто теоретических исследований к приложению тезисов, наскоро добытых при помощи наскоро продуманных приемов. Натурально, эти тезисы и приложения скоро отвергались, заменялись новыми, терпевшими ту же участь, и часто терялась наукою вместе с заблуждениями и та доля истины, которая заключалась во многих из этих теорий и которая, по всей вероятности, всего чаще и была первоначальною причиною присочинения самих теорий. Чем настоятельнее была практическая потребность, тем большее число умов обращалось к исследованию общества; со всех сторон подходили мыслители к этому не уступающему перед критикою науки феномену, к этому сфинксу, предлагающему каждому свою неразрешимую загадку и низвергающему в бездну забвения неудачных разгадчиков. Разнообразные и многочисленные разгадки приносили мыслители; из них одна не походила на другую, и мыслители не могли согласиться даже, как и откуда следует подходить к этому полному видимых противоречий и грозному своею тайною явлению, тайною, которая, однако, должна быть разгадана под опасением гибели цивилизации и человечества! И теперь мы стоим с вами, читатель, перед такою разгадкою, перед указанием нового пути, который может привести к раскрытию тайны и устранению сфинкса незнания, лежащего на дороге к счастью и прогрессу. Разгадка вполне достойна нашего внимания как по добросовестности и талантливости мысли, лежащей в ее основе, так и по той доле истины, которая несомненно в ней заключена; тем с большею тщательностью каждый замечающий в ней заблуждение обязан постараться отделить пшеницу от плевел.
Субъективная школа в социологии может по справедливости быть названа русскою социологическою школою. Правда, Конт еще в 1851 году высказался за субъективный метод в политике, но субъективный метод его "позитивной политики" и субъективный метод наших авторов не совсем одно и то же. Стоит прочесть следующий небольшой отрывок из названного труда Конта, чтобы ознакомиться с его аргументациею и убедиться, что его субъективный метод, долженствующий вознаградить сердце за революцию ума и черпающий в этом обстоятельстве свое raison d'etre, не похож на субъективный метод русского мыслителя, служащий в руках его автора для построения рациональной этики, для объяснения нравственных явлений рациональным путем; вот этот характеристический отрывок[96 - Auguste Comte. Systeme de Politique positive, 1851. I, 3–5. "Несмотря на тесную связь, существующую между обоими трактатами, они по необходимости имеют существенные различия. В первом преобладает ум, потому что там должно быть показать умственное превосходство позитивизма над какою бы то ни было теологией. Здесь господствует сердце, провозглашается нравственное главенство истинной религии. Новый патриарх Запада не мог бы достойно заключить предопределенное возмущение ума против чувства, не дав предварительно достаточно полного удовлетворения разуму. После этого необходимого вступления нравственные требования должны опять получить свое справедливое преобладание, и всякая действительно полная система необходимо должна положить в основу своего построения любовь как единственный универсальный принцип… Все эти различия по форме вытекают из основной противуположности логического построения обоих сочинений, которая, в свою очередь, происходит из их противоположности по сущности (nature) и назначению. Задача первого сочинения – распространить научную мысль до ее нормальных пределов; сообразно с этим я должен был педантически держаться объективного метода, единственно удовлетворяющего требованиям исследования там, где мы восходим от природы к человеку. Однако успех этой предварительной работы, приведшей меня к правильной точке зрения, требует, чтобы теперь было отдано предпочтение методу субъективному, единственному источнику всякой сколько-нибудь полной системы, нисходящей от человека к природе. Таким образом, та высшая логика, которая руководила нашими первыми умственными построениями, ныне возрожденная под влиянием позитивизма, служит и при нашем конечном синтезе. Нормальность ее преобладания составляет естественное последствие необходимого главенства сердца над умом".]: "Malgre leur intime connexite, ces deux grands traites (курс положит. филос. и позит. полит.) doivent done differer essentiellement. L'esprit prevalut dans Fun, pour mieux caracteriser la superiorite intellectuelle du positivisme sur un theologisme quelconque. Ici la cocur domine, afin de manifester assez, la preeminence morale de la vraie religion. Le nouveau sacerdoce occidental ne pouvait dignement terminer la fatale insurrection de l'intelligence contre le sentiment qu'en procurant d'abord a la raison moderne une plaine satisfaction normale. Mais, d'apres ce preambule necesaire, les besoins moraux devaient ensuite reprendre directement leur juste preponderance pour construire une systeme vraiment complete, ou l'amour constitue naturellement le seul principe universel… Toutes ces differences des formes (аналитическое изложение курса филос. и догматическое политики) se rattachent a la profonde diversite logique qui constitue le principal contraste intellectuel entre mes deux traites, conformementd leur nature eta leur destination respectives. Dans le premier, oil il fallait prolonger l'initiation scientifique jusqu'a son dernier terme normal, j'ai du scrupuleusement persister a preferer la methode objective, qui convient seul a cette immense preambule, s'elevant toujours du monde a l'homme. Mais le succes meme de cette marche preliminaire, qui m'a finalement conduit au vrai point de vue universel, doit faire ici prevaloir la methode subjective, source exclusive de toute systematisation complete, ou Ton descend constamment de l'homme au monde. Ainsi, regeneree par le positivisme, la logique superieure qui guida nos constructions initiales convient encore d'avantage a nos syntheses finales. Sa preponderance normale correspond naturellement a l'ascendant necessaire du coeur sur l'esprit".
Каюсь, когда я писал строки, предшествовавшие этой цитате, и затем разыскивал ее в книге Конта, я думал несколько посмеяться над нею, но теперь, когда я окончил выписку и пробежал все место, из которого взял эти два отрывка, у меня прошла охота насмехаться над мыслителем, который даже в парадоксах расстроенной мысли сохраняет все обаяние великого ума. Отбросьте нелепое положение, из которого выходит О. Конт, признайте на время, что он прав, требуя удовлетворить чувство за инсуррекцию ума, и что в основание политической науки должна быть положена любовь, и вы невольно преклонитесь перед стройностью философского построения. Право, О. Конт даже в своих заблуждениях более верен строгим философским приемам мышления, чем ныне устанавливаемый на его место Герберт Спенсер, везде, по крайней мере, где последний покидает свой действительно замечательный по широте и смелости синтез для анализа, как, напр., в первой части "Основных начал". Эти замечания невольно вырываются, когда видишь, как в среде мыслящей публики Спенсер мало-помалу занимает место, которое по праву еще долго будет принадлежать Конту. Но возвратимся к субъективному методу, рекомендуемому Ог. Контом в приведенной цитате. Из этой цитаты читатель усмотрит, что Конт отделяет социологию как науку о законах общества от политики, науки о лучшем общественном устройстве и способе его осуществлениях Первую он признает как "terme normal" объективного метода, для второй требует метода субъективного. Очевидно, это не то же, что вообще видеть особенность каждого социологического исследования в субъективном методе, необходимо ему присущем. Поэтому, я думаю, поступлю совершенно правильно, если оставлю в стороне воззрения Конта.
Впервые систематически, сколько мне известно, в нашей литературе было заявлено и развито мнение о необходимости субъективного метода в обществознании в письмах об истории, печатавшихся в 1867 г. в "Неделе". Приблизительно около того же времени тем же автором этот взгляд был высказан в "Современном обозрении" в статье "Задачи позитивизма". В 1869 г. Михайловский напечатал в "Отеч. зап." статью "Что такое прогресс?"[97 - Отеч. зап. 1869, №№ 2, 9 и 11.], где высказался за подобное же воззрение и подкрепил его новыми доводами; оно вскоре сделалось любимою темою его рассуждений, и в последующих статьях своих он часто возвращался к нему, чтобы представить новые аргументы или осветить им какое-либо темное явление общественной жизни. Но систематически он вновь трактует его только во второй статье "Теория Дарвина и общественная наука" в "Отеч. зап.", 1870 г. Наконец, сколько мне помнится, г. Лесевич также высказался за субъективный метод, кажется, в статье "Философия истории на научной почве" чуть ли не по поводу некоторых воззрений Ренана; но это заявление было скорее заявлением лишь своего согласия с доктриною субъективной школы, чем ее поддержкой, потому что г. Лесевич ограничивается указанием вредных последствий, отразившихся на Ренане, вследствие, как он думает, употребления объективного метода. Мне кажется, этим перечислением я указал всю русскую литературу предмета для тех, которые пожелали бы проверить мою критику.
Постараюсь теперь изложить сжато занимающее нас воззрение и разобрать главные аргументы. Начну с автора писем в "Неделе" как первого по времени субъективиста и как доводящего свои выводы до крайности, до которой г. Михайловский не доходит.
По воззрению нашего автора, объективный метод, употребляемый во всех науках, решительно неприложим к исследованиям социологическим; общенаучный критерий – повторяемость явлений в неизменной связи – должен в обществознании необходимо и неизбежно уступить место субъективному критерию, нравственному идеалу исследователя. Доказательства этих положений, приводимые почтенным автором, двух родов: свойства исследуемых явлений и свойства исследующего субъекта.
"Прежде всего, – пишет он[98 - Исторические письма, стр. 21 и след.], – чтобы найти руководящую нить в пестром калейдоскопе событий, желательно отделить важнейшее от менее важного. Естествоиспытателю это сделать легко; что повторяется в неизменной связи, то важнее, потому что в нем-то и есть закон; что же относится к случайным видоизменениям, то маловажно и берется лишь к сведению для будущих возможных соображений… В истории этот критерий невозможен, потому что явления не повторяются. Но это единственная мера важности явлений, которую наблюдатель может черпать из самих явлений, единственный объективный способ судить о важности явлений. Так как он в истории неприменим, то важность исторических явлений оценивается необъективно. Они ценятся по той мере, которую личность прилагает вообще к человеку. Они подлежат оценке по нравственному их влиянию… Все судят об истории субъективно, по своему взгляду на нравственные идеалы, да иначе и судить не могут". Из этой выписки легко себе составить понятие о том, что разумеет автор под выражением "субъективный метод", именно: оценку важности явлений, установление их связи на основании критериума, почерпнутого не из самих явлений, но из нашего нравственного миросозерцания. Основною посылкою, фоном всего рассуждения служит положение, что исторические явления не повторяются, что исследователю приходится "определить последовательную связь явлений, один лишь разпредставляющихся ему в данной совокупности в каждый момент" (ib., 21). Это меньшая посылка силлогизма, большая же заключается в том, что только при повторяемости явлений в неизменной связи, в правильном порядке возможен объективный метод исследования. Если это верно, то и вывод, что общественные явления не могут быть изучаемы при помощи общенаучных приемов исследования, будет правилен и неоспорим.
Во-первых, действительно ли история есть ряд неповторяющихся изменений? Едва ли! Правда, падение Римской империи произошло однажды, больше не повторялось и, конечно, не повторится, но падение государств вообще повторялось не раз, как до этого падения, так и после него. Падение Римской империи есть событие, которое раз совершилось и больше повториться не может, в такой же мере, как Лиссабонское землетрясение есть факт, недоступный повторению "в данной совокупности", как всякая гроза, всякий ураган, всякое падение метеора или аэролита суть явления, которые раз совершились и больше повториться не могут. Вчера была гроза и прошла; завтра, быть может, будет опять гроза, но то будет не та вчерашняя, а новая – завтрашняя, это не падение Рима, а падение Византии или Венеции, Карфагена или Польши. Явление как факт данного рода повторяется, но явление как данный факт повториться не может. В этом и только в этом, последнем смысле можно сказать, что история есть ряд неповторяющихся изменений; но с другой стороны, в этом смысле процесс истории как предмет исследования ничем существенно не отличается от всех других процессов природы. Но можно, пожалуй, возразить: да, действительно, все явления в природе не повторяются, раз они совершились, но зато происходят другие, существенно с ними сходные, тогда как в истории каждое явление сильно разнится от каждого другого. В этом есть доля истины, но, во-первых, это вовсе не устанавливает, как то делается в приведенной выше цитате, качественного различия между физическим и историческим процессами как предметами изучения, а различие только количественное, градуальное и, во-вторых, допускает возражение, что, как бы разнообразны ни были события общественной жизни, все же возможна их классификация, возможно их распределение по родам и видам, условия наступления которых можно исследовать так же, как условия наступления явлений физических. Возьмем, напр., уже раз цитированное историческое явление, падение государств; это явление, понимая это выражение как родовое, общее название, повторялось не раз. Мы имеем целый длинный ряд падений древних переднеазиатских монархий – Египет, Вавилон, Ассирия, Лидия, Мидия, Персия, Иудея и т. д.; мы имеем другой ряд падений древних республик – Афины, Тир, Карфаген, Сиракузы и пр.; мы имеем третий ряд падений классических монархий – Рим, Македония, диадохи, Понт, Византия; мы имеем падение магометанских государств Азии, многих средневековых государств Европы (бургундов, англо-саксов, Италии, Моравии, монархии гуннов и т. д.), падение средневековых республик – Венеции, Генуи, Новгорода, ганзейских городов и т. д., падение Польши и т. д., и т. д., не считая многих более или менее обследованных падений различных неисторических государств вроде монархии ацтеков, инков, Сонрая и др., не считая времен упадка в государствах, после вновь возродившихся к жизни. Все это дает достаточный материал для исследования причин, обусловливающих падение государств, и нет решительно никакого основания думать, что невозможно открыть закон, устанавливающий связь между известным или известными общественными явлениями и падением государств. Точно так же мы видим в истории постоянное стирание одних национальностей и нарождение других; явления национальной ассимиляции и национального дифференцования происходили в историческом процессе не раз и происходят до сих пор, на наших глазах. Чем обусловливается то и другое явление? Отчего в одних случаях значительно разнящиеся народности ассимилируются в одну нацию, в других, напротив, однородные группы индивидуализуются, дифференцуются в разные национальности? Неужели все это такие вопросы, которых разрешение недоступно человечеству? Да и мало ли таких вопросов? И все они так же разрешимы, как вопросы о причинах землетрясений, гроз, ураганов. В каждом отдельном случае бывает часто невозможно определить причину того или другого из названных явлений, но общая причина всех явлений подобного рода определена. То же и в истории; имея в виду то или другое событие и рассматривая его изолированно, будто однородных ему событий больше никогда не было, мы, конечно, не можем надеяться найти объективную мерку для установления его связи с событиями предшествующими и сопутствующими. Из такого приема, общеупотребительного в философии истории, вытекает и мнение о неповторяемости исторических явлений, а это мнение неизбежно приводит к утверждению необходимости подобного изолированного исследования, следовательно, и к неприложимости общенаучных приемов изучения в области обществознания. Мы, однако, уже видели, что исторические явления не повторяются в том же смысле, как не повторяются все вообще явления природы, а равно допускают повторение в том же смысле, в каком повторяются и остальные процессы. Ясно, что разобранная нами аргументация не верна, потому что меньшей посылке придано слишком широкое, безусловное, слишком, если можно так выразиться, категорическое значение, какого она иметь не может. С другой стороны, не упустим из виду и того, что и большая посылка силлогизма выражена таким двусмысленным образом, что может повести к ложным заключениям. Повторяемость в неизменной связи есть необходимый критерий исследования индуктивного, но не дедуктивного. Таким образом, если бы даже меньшая посылка была вполне справедлива, то и тогда должное ограничение большей посылки привело бы лишь к выводу, что индуктивное исследование общественных явлений невозможно; вероятно, однако, автор не желал назвать всякое дедуктивное исследование субъективным, иначе математика была бы образцом субъективного метода. Благодаря слишком безусловному пониманию меньшей посылки, явился вывод, что общенаучные объективные приемы не приложимы при исследовании явлений общественных, между тем как, если придать этой посылке ее действительный смысл, то будет следовать только, что приложение общенаучных приемов в истории гораздо труднее, много сложнее, чем в других науках. Это большая сложность и трудность исследования общественных явлений была многими и прежде замечаема, причем были указаны и разнообразные, многочисленные причины этой трудности: субъективной школе принадлежит честь дополнения списка этих причин еще одной и притом одной из важнейших, основных. Мы увидим дальше, что и вообще субъективная школа, делая в общем построении своей доктрины значительные логические промахи вроде только что приведенного, вместе с тем везде подмечает много истинного, указывает многое чрезвычайно важное[99 - Спешу воспользоваться авторитетом Герб. Спенсера, чтобы подтвердить мои доводы. Английский писатель Фроуд недавно доказывал невозможность общественной науки, ссылаясь, между прочим, на ту же неповторяемость исторических событий; на это Герберт Спенсер возражает: "Дело в том, что ни в одной конкретной науке не бывает безусловных повторений, а в некоторых конкретных науках повторения почти такие же, как и в социологии. Даже в самой точной из наук конкретных, астрономии, никогда не бывает двух совершенно одинаковых комбинаций; повторения в ней бывают, только приблизительные" и т. д. (Знание, 1873, IV, 211).].
Теперь мы должны перейти к другому аргументу, которым разбираемый автор доказывает неприложимость к истории объективного метода и необходимость субъективного. Разобранная аргументация выходит из положения о неповторяемости исторических явлений, т. е. из положения об особом свойстве самых исследуемых явлений, которое и выставлялось причиною неприложимости объективных приемов. Аргументация, которую мы должны разобрать теперь, основывает свои доводы на свойстве наших психических отправлений, старается вывести необходимость субъективного метода из самой природы нашего мыслящего аппарата.
"Я знаю, – пишет наш мыслитель, – мое понимание слова прогресс многим и многим не понравится. Все, желающие придать истории то объективное беспристрастие, которое присуще процессам природы, возмутятся тем, что для меня прогресс зависит от личного взгляда исследователя. Все, верующие в безусловную непогрешимость своего нравственного миросозерцания, хотели бы себя уверить, что не только для них, но и само по себе важнее лишь то в историческом процессе, что имеет ближайшее отношение к основам этого миросозерцания. Но, право, пора бы людям мыслящим усвоить себе очень простую мысль, что различие важного и неважного, благодетельного и вредного, хорошего и дурного суть различия, существующие лишь для человека, а вовсе чужды природе и вещам самим в себе; что одинаково неизбежны для человека необходимость прилагать ко всему свой человеческий (антропологический) способ воззрения и для вещей в их совокупности необходимость следовать процессам, не имеющим ничего общего с человеческим воззрением (не слишком ли сильно сказано: "Ничего общего"?). Для человека важны общие законы, а не индивидуальные факты (опять-таки слишком безусловно), потому что он понимает предметы, лишь обобщая их; но наука с ее общими законами присуща лишь одному человеку, а вне человека существуют только одновременные и последовательные сцепления фактов, столь мелких и дробных, что человек едва ли может и уловить их во всей мелкости и дробности. Для человека из непрерывной нити пошлостей жизни выделяются в биографиях и истории некоторые мысли, чувства и дела человека (или группы людей) как важнейшие, имеющие идеальное значение, историческую важность, но это выделение совершается только им, человеком; бессознательные процессы природы вырабатывают мысль о всеобщем тяготении, о солидарности людей совершенно так же, как ворсинку на ноге жука или стремление лавочника сорвать лишнюю копейку с покупщика; Гарибальди и ему подобные для природы совершенно такие же экземпляры породы человека XIX в., как любой сенатор Наполеона III, любой бюргер маленького города Германии, любой из тех пошляков, которые гранят тротуары Невского проспекта. Наука не представляет никаких данных, по которым беспристрастный исследователь имел бы право перенести свой нравственный суд о значительности общего закона, гениальной или героической личности из области человеческого понимания и желания в область бесстрастной и бессознательной природы".
Против этой аргументации, которой автор очевидно придает большое значение, потому что возвращается к ней несколько раз и связывает ее с основным принципом своего философского мировоззрения, можно возразить так много, что, право, не знаешь, с чего начать. Прежде всего укажу на несколько так называемых словесных заблуждений, основанных просто на понимании одного и того же выражения в различных местах различно. Заявив, что, по его мнению, "прогресс" зависит от личного взгляда исследователя и что тут не может быть никакой общей, обязательной для всех исследователей мерки (а как иначе понимать зависимость от личного взгляда исследователя?), он приписывает объективистам желание "себя уверить, что не только для них, но и само по себе" истиннее, важнее их определение прогресса. Здесь, очевидно, недоразумение в понимании выражения "для них"; для кого "для них?" Для исследователей вообще или для каждого исследователя в отдельности? Наш автор понимает в последнем смысле, но в таком случае по законам логики противуположение "важности только для них" будет не "важность сама по себе", "an sich", но "важность для всех таких же, как они, существ, для всех исследователей, для всего человечества". Объективисты убеждены не в том, что их социологические воззрения важны "сами по себе", но в том, что они, будучи научно истинны, логически обязательны для всякого мыслящего о социологических предметах человека. Это допущенное в начале рассуждения словесное недоразумение ведет к целому ряду подобных же ошибок. Цитированное рассуждение начинает опровергать воззрение, придающее философскую реальность нашим знаниям, доказывает, что мы познаем только наши обобщения, а не действительные, реальные предметы. Все это так и вполне справедливо, но возражения эти совершенно не нужны, раз объективистам неправильно приписана неизбежность признавать философскую реальность своих воззрений. Дилеммы между "личным взглядом", ни для кого логически не обязательным, и признанием за мнениями "важности an sich", такой дилеммы для мыслителя вовсе не существует, потому что есть еще и третий взгляд, равно отвергающий оба воззрения, не признающий философской реальности своих воззрений, но считающий их логически обязательными для всех людей. Справедливо и несомненно, что человек всегда остается человеком, что он не может понимать иначе, как по-человечески, что он всегда, всюду и все оценивает со своей, человеческой точки зрения. Но какой смысл скрывается под этими положениями? Конечно, не иной, как тот, что понимание наше совершается по психологическим и логическим законам нашей природы, что наука сложилась и развивалась сообразно этим же логическим законам и что потому нет ни малейшего основания переносить эти законы из области сцепления человеческих мыслей и соотносительных этим мыслям человеческих впечатлений (феноменов) в область каких бы то ни было объективных реальностей, в область сцепления вещей самих в себе. Если мы говорим, что наука с ее общимизаконами есть продукт логического развития нашего мышления, расширения нашего опыта, то слову "нашего" придается значение, связанное с выражением "человеческого вообще", а равно, когда мы говорим, что наука или оценка важности, или вообще что бы то ни было существует только для человека, то этим мы хотим выразить не то, что это существует в таком виде лишь для того или другого человека, но для каждого человека, для человека вообще. Действительно, логические приемы мышления и психологические явления восприятия однородны у всего человечества, так что верное для одних будет верно и для других или, по крайней мере, допускает поверку другими. Этою-то логическою обязательностью и отличаются научные законы, и наш автор, конечно, признает ее за обобщениями и дедукциями естествознания. Почему же он отказывает в ней обществознанию? Если выше указанная дилемма существует, то она одинаково распространяется на все знание, а не на одну его отрасль. Однако пагубной для науки дилеммы нет, ибо возможно третье воззрение, и сам автор писем в "Неделе", по-видимому, принимает это третье воззрение для одной половины знания, но совершенно игнорирует его существование, когда трактует обществознание, и предлагает на выбор только два воззрения: или объективная реальность, погоня за безусловным и абсолютным, или произвольность научного построения, зависимость от личного взгляда, не связанного никакими общеобязательными логическими формами! Не знаю, быть может, разбираемый мыслитель не имел в виду высказывать воззрения в той категорической форме, в которой они явились в последних строках, не хотел делать из своей пропаганды субъективного метода проповедь полного логического произвола в области социологии, произвола, возведенного в принцип и оправдываемого его неизбежностью; не знаю, быть может, я ему приписал то, чего он и не думал, и не хотел доказывать, но для меня ясно, что это логически необходимый вывод его аргументации: она не имеет никакого значения или имеет только это, она ничего не доказывает или доказывает только это. Сама аргументация, мы видели, неправильна, основана на недоразумении, на понимании выражения "для нас", "для человека", различном в различных местах рассуждения: то эти выражения противополагаются объективной реальности, абсолютному и означают "для человека вообще", то противополагаются этому самому значению "для человека вообще" и означают "для каждого человека в отдельности", то, наконец, в одно и то же время употребляются в обоих смыслах, противуполагаются как "общечеловеческое понимание" – всему абсолютному и как "личное, частное" – всему "общечеловеческому". Такая сбивчивость еще усиливается тем, что аргументация (истинна она или ложна), относящаяся ко всей области знания и ведомая сначала именно в этом направлении (от слов "Пора бы людям мыслящим…" и т. д.), прилагается затем только к одной части знания, которая именно этим выводом противополагается всему остальному знанию. Когда распутаешь это сплетение заблуждений и недоразумений, двусмысленных знаний и ложных соозначений, то, право, не знаешь, чему больше удивляться, количеству ли разнообразных типов заблуждений, сосредоточенных на двух страничках, или ослеплению даровитого мыслителя, поместившего эти странички в прекрасной книге, полной дельных мыслей и светлых воззрений! Я разобрал только начало рассуждения; дальше точно так же в каждой фразе можно указать следы основного недоразумения, смешения объективно реального с объективно феноменальным. Вследствие этого выходит, что будто бы, с объективной точки зрения, мысль о всемирном тяготении вырабатывается так же, как ворсинка на ноге жука, Гарибальди такой же продукт истории XIX в., как пошляк, гранящий тротуары Невского проспекта; конечно, то и другое вырабатывается так же естественно, тот и другой такие же естественные продукты истории, но процессы, создавшие эти явления, не одинаковы, кроме того, что они одинаково естественны; задача наша подметить эти различия в процессах, не выходя только из пределов естественности, законосообразности. Очевидно, тут тоже двусмысленность, и на ней построен вывод. Далее таким же образом (см. выше выписку) подставляется вместо выражения "логический суд" выражение "нравственный суд", и довод получает значение очевидности, вид аксиомы.
Таким образом, мы разобрали доводы автора писем против объективного метода в социологическом исследовании и нашли их неудовлетворительными, выводы – ошибочными; имея перед собою подобные аргументы, мы не имеем права на основании их отвергнуть приложимость общенаучных приемов к исследованию общества. Отрицательная сторона доктрины субъективной школы, как она развивается разобранным рассуждением, не выдерживает критики; обратимся теперь к положительной, постараемся точнее определить так называемый субъективный метод и посмотрим, что нового или вообще истинного вносит учение о нем в социальную методологию? Вдумываясь в филиацию мыслей приверженцев субъективной школы, можно дать следующее определение защищаемому ими методу: оценка относительной важности явлений на основании нравственного миросозерцания (идеала) исследователя и построение научной теории при помощи того же критерия – вот отличительная черта, существенный признак субъективного метода. Нам предстоит решить, необходимо ли это условие? Если да, то представляемое требование действительно противоречит ли и исключает общенаучные объективные приемы исследования или, быть может, является только дополнением к ним, необходимым усложнением приемов исследования при усложнении самого материала, подлежащего исследованию?
Глава II
Целесообразность и предвзятое мнение. Резюме
Сознательное введение в социологическое исследование нравственного элемента – вот что требуется субъективною школою от социолога. Но что такое этот нравственный элемент? Что нового вносится с ним в исследование? В главе XI этой книги (стр. 154–164), трактуя естественный подбор в общественной жизни, мне пришлось остановиться на выяснении понятия нравственности; выводы, к которым я пришел тогда, теперь нам пригодятся. Вот краткие извлечения: "Мы нашли ту неизменную формулу нравственности, которую искали: нравственно то, что соответствует реальным или идеальным началам общественности; безнравственно все, что им противоречит… Вообще мы можем сказать, что нравственное миросозерцание личности есть та часть ее общего миросозерцания, которая объемлет вопросы об основаниях общественности, о началах, которыми должна руководствоваться личность в ее отношениях к обществу, что нравственный идеал есть идеал общественности и что нравственное чувство заключается в наклонности личности поступать сообразно началам общественности… Прогресс нравственности состоит в прогрессе соответствия между личными наклонностями и чувствами членов общества и требованиями общественности, а с другой стороны, в прогрессе самих требований, в уяснении наилучших для прочности общества и его процветания отношений сочленов друг к другу и к целому… Обобщая эти положения, мы можем сказать, что развитие нравственности есть процесс приспособления жизни к условиям общественного существования". Если это воззрение правильно, то, прилагая его к вопросу о субъективном методе, т. е. о введении нравственного элемента в исследование, мы сразу упрощаем задачу. В самом деле, подставив в вышеприведенное определение субъективного метода вместо выражения "нравственное миросозерцание" ему эквивалентное "начало общественности", мы получим: особенность субъективного метода заключается в оценке относительной важности общественных явлений на основании взглядов исследователя на нормальные отношения членов общества друг к другу и к целому ив построении научной теории при помощи того же критерия. Таково будет исправленное определение субъективного метода. Но в таком виде требование, им заявляемое (с некоторыми оговорками), весьма легко может быть принято самым ярым и нетерпимым приверженцем единства научного метода во всех сферах человеческого мышления; дело в том, что тут никакого особенного метода даже и нет вовсе, а есть просто провозглашение одной весьма важной теоремы социологии, именно: что общество основано на личностях и что развитие общества совершается не иначе, как личностями, чрез личности и в личностях. Если социолог признает эту теорему, то он, исследуя известное общественное явление, всегда будет останавливать свое внимание не только на последствиях его для общественной среды, культуры, но и на влиянии его на созидателей этой среды, на те общественные атомы, чрез которые единственно и могли возникнуть наблюдаемые им изменения общественной среды; он будет хорошо знать, что для общественной жизни не столько важно возникновение и процветание того или другого элемента общественной среды, сколько способ созидания его личностями, так как от этого способа зависит его прочность, степень и даже характер его влияния на другие элементы общественной среды. Становясь на эту точку зрения, социолог будет несомненно ближе к истине, чем игнорируя значение личностей в обществе, но я не вижу причины приписывать ему какой-либо особенный метод. Неужели каждое разногласие между исследователями есть непременно разногласие методологическое? Неужели признание одним исследователем данной теоремы и игнорирование ее другим есть признак принадлежности их к различным методологическим школам? Игнорирование теоремы, на которой настаивает субъективная школа, есть грубая и непростительная ошибка со стороны социологов; приступать к построению какой-либо части социологии, не уяснив себе предварительно значения личностей для общественной среды и среды для личностей или даже прямо отвергая это значение, все равно, что делать какие-либо изыскания по небесной механике, отвергая теорему об обратной пропорциональности силы тяготения к квадратам расстояния. Признание этих теорем необходимо для обеих наук, и нельзя достаточно благодарить наших авторов за резкое и постоянное настаиванье на первостепенной важности личности в обществе, но все-таки, где же тут особый метод? Или, быть может, самое воззрение исследователя на отношения личностей между собою и к обществу должно естественно возникать каким-либо особым, не общенаучным путем? Быть может, самое доказательство теоремы, на которой настаивает субъективная школа, должно вестись не обыкновенным, общенаучным путем? Но где доказательства? Если их надо иметь в разобранных выше доводах, в неповторяемости общественных явлений и недоступности абсолютного знания, то мы видели уже, что они вовсе не доказывают того, для чего приведены автором; обратимся же теперь к аргументам Н.К. Михайловского, посмотрим, не убедит ли он нас в том, что нравственная доктрина создается при помощи каких-либо особых методологических приемов.
Прежде всего надо заметить, что г. Михайловский, не идет так далеко в своих выводах. Так, напр., он заявляет, что из его рассуждений должно следовать "не то, что объективный метод должен быть совершенно удален из этой области исследований (социологической), а то, что высший контроль должен принадлежать тут субъективному методу"[100 - Отеч. зап. 1869 г. № 11, отд. II, 37 (в статье "Что такое прогресс?").]. Правда, не совсем понятно, как это один метод контролирует другой; не значит ли это, что, продумав известное положение одним способом, вслед за тем нужно сызнова передумывать его другим? Если же не это означает высший контроль одного метода над другим, то я недоумеваю решить, что же другое может иметь в виду г. Михайловский! Такая неопределенность выражения, во всяком случае, доказывает, что г. Михайловский чувствует необходимость сделать кое-какие уступки объективному мышлению, но так как отрицание и признание одновременно невозможно, то и приходится прибегнуть к тому ничего не значащему выражению, которое я только что привел.
Свою аргументацию в пользу субъективного метода и против приложимости в социологии метода объективного г. Михайловский тоже основывает на особых свойствах исследуемого явления (общественных событий) и на свойствах исследующего духа. "Коренная и ничем не изгладимая разница, – пишет г. Михайловский[101 - Ib., 19.], – между отношениями человека к человеку и к остальной природе состоит прежде всего в том, что в первом случае мы имеем дело не просто с явлениями, а с явлениями, тяготеющими к известной цели, тогда как во втором цель эта для человека не существует. Различие это до того важно и существенно, что само по себе намекает на необходимость применения различных методов к двум великим областям человеческого ведения". Но что такое цель? Это – желаемое, приятное, должное. Поэтому и в оценке общественных явлений категории желательного и нежелательного, полезного и вредного, должного и безнравственного так же необходимы и разумны, как и категории истинного и ложного. "Природа, как она нам освещается теорией Дарвина[102 - Отеч. зап. 1870 г. № 3, 35–36 ("Теория Дарвина и общественная наука", II).], не знает избранников. Здесь она раздавит великого Патрокла и сохранит презрительного Терсита; там выдавит из строя жизни целый вид, здесь разбивает вид на два, на три; там низведет Патрокла до состояния Терсита, здесь выставит Патрокла во всем его величии; там разовьет жизнь, сюда пошлет смерть; там посеет слезы и страдания, здесь разольет море наслаждений… Не спрашивайте для чего? зачем? С таким вопросом нельзя обращаться к природе. Она не даст ответа. Она вам скажет, почему произошло то-то и то-то, но вы не вырвете у нее ответа на вопрос зачем? Если вы пожелаете ответить за нее, т. е. навязать ей ответ, то вы можете навязать ей любой. Цели и действия одухотворенной природы окажутся разумными и глупыми, великими и малыми, добродетельными и бессовестными, высоконравственными и до последней степени преступными, смотря по тому, как вы сами посмотрите на дело. Всякую цель, всякий план можно отыскать в природе именно потому, что в природе нет никакой цели, никакого плана. Но это значит, что природою управляет слепой случай? В этом упрекали и Дарвина, между тем как тут собственно упрекать не за что и не в чем… Цели и планы сказались в природе в достаточно широкой степени только тогда, когда рядом с естественным подбором стал искусственный, а рядом с борьбою за существование – первые проблески ее отрицания в сфере человеческих отношений, когда человек вступил в борьбу с природою и пожелал изменить ее сообразно своим нуждам и потребностям". Не правда ли, прекрасная страница? Но доказывает ли она то, что хотел ею доказать уважаемый автор? В самом деле, если под "целью" не разуметь ничего мистического и беспричинного, если не приурочивать ее к учению о свободной воле (libre arbitre) как об особом элементе, привходящем в человеческой природе, сравнительно с природою других живых форм, если, одним словом, понимать цель позитивно, как г. Михайловский несомненно и понимает ее, то, прежде всего, бросается в глаза то обстоятельство, что обладание ею вовсе не составляет привилегии человека. Цель в смысле предварительного приспособления ввиду предусматриваемых и часто имеющих быть вызванными этим приспособлением событий, словом, цель как активное приспособление сказалась в природе одновременно с дифференцованием животной ткани на нервную и мышечную. Время выделения, начало определенного обособленного существования нервной ткани было временем появления в природе целей как нового элемента развития, нового фактора в постоянном процессе перераспределения вещества и силы. Всего этого, не будет отрицать и г. Михайловский. Очевидно, что понятие цели, на котором он строит свою аргументацию, у него недостаточно выяснено. Мне кажется, что когда он говорит о целях как отличительном признаке общественного процесса, он разумеет не множество отдельных, друг другу противуречащих и не объединенных единым стремлением или единым смыслом целей, какие мы замечаем в долгий период докультурного прогресса жизни, целей, которые своим взаимодействием если и приводят к определенному ходу прогресса, то вовсе не потому, что достигаются, а чаще всего именно потому, что значительная часть из них не достигается и что все они, достигаются или нет, известным образом отражаются на организации существ, их преследующих; мне кажется, что г. Михайловский имел в виду цели другого рода, тот случай, когда всеми вообще преследуется, хотя бы и бесконечно разнообразными путями, одна и та же цель, когда стремление это передается из поколения в поколение и каждое новое поколение продолжает только дело предшествующего, а не начинает сызнова, когда поэтому передача результатов работы одного поколения другому выражается не только в унаследовании несколько измененной организации, но и в традиционном усвоении форм работы, в юридически наследственной передаче материальных продуктов ее. Но такие проникнутые общим смыслом цели могли сказаться только с возникновением искусственной общественной среды, хранительницы традиций, преданий, сведений и накопленных богатств; цель, выражающаяся в созидании культуры для приспособления физической среды к потребностям жизни, эта проникающая всякое общественное развитие цель, сознательно или бессознательно преследуемая всем человечеством и представляющая основную нить его истории, – вот какая цель действительно отличает всякий процесс, подлежащий исследованию социолога и встречаемый другими исследователями жизни разве в зачаточных формах. По-видимому, г. Михайловский был очень близок к только что развитой постановке вопроса, когда излагал свое учение о целях. Истолковав, таким образом, положение г. Михайловского, в основе вполне истинное, только несколько неопределенно выраженное, мы можем обратиться к выводу нашего автора. Задав себе вопрос: что такое цель, он отвечает, что это желательное, приятное, должное. Исключив категорию должного, действительно характеризующую общественные цели, мы можем, прежде всего, возразить автору, что данный им ответ одинаково относится как к целям, преследуемым животными на всех ступенях жизни, так и к целям человеческим. Не желательность или приятность отличает некоторые человеческие цели (цели общественные), а общежелательность и общеприятность, если будет позволено так выразиться, т. е. желательность и приятность достижения не только для преследующего субъекта, но и для массы, непосредственно не принимающей в ней участия. "Но это поправка в мою пользу", – быть может, скажет г. Михайловский. Конечно, но тем лучше для меня. Мы видели выше, что из присутствия в анализируемых социологом явлениях элемента, для исследователя желательного или нежелательного, приятного или неприятного, полезного или вредного, разбираемый автор заключает к необходимости оценки им исследуемых явлений как принадлежащих к той или другой из этих категорий, объявляет и недостаточною квалификацию данного вывода как истинного или ложного и требует вдобавок квалификации как желательного или нежелательного. Из этого, прежде всего, следует, что нравственно, желательно, обязательно, приятно может быть то, что неистинно, ложно и, наоборот, что истина может быть нежелательна и безнравственна[103 - Спешу, однако, оговориться, чтобы не подать повода к бесплодным возражениям. Не все то действительно, что истинно, и одна действительность может противоречить другой: я вовсе не смешиваю категорий действительного и истинного. Говоря истина, я разумею научную доктрину, правильно установленную, а не существующую действительность.]. Но так ли думает г. Михайловский? Что нравственно, то истинно; наоборот, что истинно, то должно быть желательно. Плохи шансы той партии, которая отделяет истинное от желательного и заявляет, что оценка на основании ее доктрины может и не совпасть с оценкою на основании категорий истинного и ложного. В апрельской книжке "Отечественных записок" за текущий год г. Михайловский рассматривает, насколько демократичны естественные науки, и при этом приходит к заключению, что в настоящее время они неблагоприятны демократическим идеям и что защитникам и противникам демократизма придется, вероятно, поменяться своими отношениями к естествознанию. Если бы это было так, то, конечно, это была бы весьма печальная история для демократизма и равнялась бы собственному сознанию демократов в том, что идеи, проповедуемые ими, находятся в противуречии с несомненными истинами, установленными естествознанием. Если г. Михайловский признает свои идеи не только желательными, но и истинными, то как может он находить другие истины им враждебными? Если демократизм – истина, то естественные науки должны быть демократичны или, на худой конец, безразличны для демократической доктрины. Если же г. Михайловский прав, то демократизм – ложная доктрина, но г. Михайловский демократ; вот каковы бывают последствия субъективизма!
Вообще говоря, становясь на ту точку зрения, которую я выше указал, существование в исследуемом явлении целей не должно вводить какого-либо особого элемента в процесс исследования, изменяющего существенно метод. Желательно только истинное; нравственное есть не более, как истинные начала общественности, т. е. наиболее полно приспособляющие жизнь к условиям социального существования. Это приспособление к условиям общественного существования точно так же зависит от ряда содействующих и противудействующих факторов и точно так же само благоприятно и неблагоприятно другим рядам явлений, как и всякий другой процесс природы, как, напр., хотя бы приспособление к условиям физической среды. А причинная связь, где бы мы ее ни встречали, устанавливается на основании одного и того же критерия повторяемости в неизменной связи, и я не знаю, что может помешать добросовестному мыслителю заметить эту повторяемость, даже если она ему нежелательна. Меня, быть может, захотят поймать на слове "добросовестный", но, право, добросовестность нужна не только в обществознании; вспомним Галилея, Бруно и др., вспомним, сколько мужества нужно подчас и теперь, чтобы объявить себя материалистом, напр., вспомним, как часто искажалась наука с кафедры со своекорыстными целями, наконец, не забудем и того, что нужно немало добросовестности маститому старцу-ученому, чтобы объявить ложною свою доктрину, когда убедился в этом, доктрину, составившую, быть может, его славу. Добросовестность мысли нужна везде, в естествознании так же, как и в обществознании, как и в общей философии; труднее в обществознании быть добросовестным мыслителем потому, что больше соблазна, это правда, но это еще не причина для установления нового метода. Ведь, во всяком случае, субъективный метод его защитники рекомендуют для добросовестных мыслителей.
Таким образом, само по себе существование целей (как я выше истолковал этот термин) не может служить причиною неприложимости объективного метода к построению общественной науки, к установлению законов общественного развития, квалифицированных лишь как истинные или ложные, без влияния элемента желательности и пр. Но тут мы встречаемся с новым аргументом г-на Михайловского; мы не можем, говорит он, общественные явления оценивать иначе, как субъективно. "Сочувственный опыт[104 - Отеч. зап. 1869, № 11, 24.] вместе с опытом личным, комбинируясь известным образом, входит в наше психическое содержание и, наряду с категориями истинного и ложного, устанавливает категории приятного и неприятного, желательного и нежелательного, нравственного и безнравственного, справедливого и несправедливого. Отрешиться от этой стороны эмпирического содержания нашего я столь же трудно, как произвольно вычеркнуть из своей памяти какие-нибудь знания. Поэтому комбинация ощущений и впечатлений, составляющая предвзятое мнение, с которым человек приступает к какому бы то ни было исследованию, в области общественных явлений осложняется новым элементом, элементом нравственным". Но почему "осложняется"? В других областях ведения это предвзятое мнение может состоять из суеверий и вообще эмпирически усвоенных и не-прокритикованных мнений о связи, существующей между явлениями, но, благодаря обработанности и общепризнанности теорий этих областей, чаще оно заключается в приверженности к той или другой научно развитой гипотезе. Обществознания как единой науки о законах общества покуда не существует, а потому и последнего рода предвзятое мнение у социологов встречается реже, а чаще непрокритикованное эмпирическое содержание и, конечно, именно традиционная нравственность, т. е. представление о началах общественности. Нравственный элемент не осложняет предвзятое мнение, а просто составляет его, но предвзятое мнение необходимо бывает при всяком исследовании, как прекрасно доказывает сам г. Михайловский; стало быть, и тут нет никакого плюса в общественно-научном мышлении. То обстоятельство, что обществознание распадается на несколько самостоятельных наук, сделало то, что этика, существующая совершенно обособленно, то игнорируется мыслителями при построении ими общественно-научных теорий, и выходит тот quasi-объективный метод, против которого справедливо ратует субъективная школа; то, напротив, ее принципы получают в глазах социолога значение верховного и единственного научного критерия; но теоремы науки, как бы они истинны и важны ни были, не могут служитьметодологическим критерием, не извратив самого характера научной работы. Принципы этики как теоремы относительно чрезвычайно важной стороны общественного процесса не могут быть игнорируемы социологом, но он должен помнить, что все же это только одна из сторон процесса, а главное, что это теоремы социологические, а отнюдь не логические, что поэтому они должны влиять на содержание заключений, а отнюдь не на приемы исследования, отнюдь не на метод. Г. Михайловский настаивает, чтобы предвзятое мнение было выяснено, прежде чем приступить к исследованию; конечно, это необходимо, но неужели сколько предвзятых мнений, сколько и методов или где есть предвзятое мнение, там есть и субъективный метод? Но г. Михайловский возразит, что только предвзятое мнение, состоящее в нравственном миросозерцании, предполагает субъективный метод; однако за что такая привилегия? Разве это предвзятое мнение не может быть покинуто, подобно всяким другим предвзятым мнениям, когда они оказываются ложными? Или разве самый процесс критики предвзятого нравственного воззрения происходит не на основании его истинности или ложности, а на основании его желательности? Я думаю, что нравственность как продукт приспособления жизни к условиям общественного существования подлежит в ее отношениях к различным элементам общественного целого – объективной критике; далее, я думаю, что основные процессы, отличающие исторический прогресс от органического, и соотносительные им признаки общественной организации точно так же подлежат объективной оценке; наконец, я думаю, что, имея в руках эти два ряда научных фактов и законов, социолог может вывести из них характеристику чисто социального элемента в общественном прогрессе и условия полного приспособления жизни к этому элементу, т. е. условия высшей нравственности, словом, может построить этику объективно.
Если, таким образом, разбор доводов г. Михайловского все-таки приводит к выводу, что наши представления о началах общественности (наши нравственные идеалы) не требуют необходимо какого-либо особого процесса мышления, какой-либо другой оценки, кроме оценки как истинных или ложных, то, очевидно, введение нравственного элемента в исследование нисколько не изменяет его существенного характера. Социологическое исследование может и должно держаться общенаучного метода и притом тем строже и неотступнее, чем сложнее материал, над которым приходится работать пытливости социолога. Если объективность заключается в том, чтобы игнорировать значение общественных событий для личностей и значение личностей для общественных событий, чтобы отмахиваться от социологических выводов, вытекающих из этических теорем, то это вовсе не объективность и беспристрастие, а просто опасное для науки заблуждение, непонимание того, что различные элементы общественного целого находятся в тесной зависимости между собою. Бог с ней, с такою объективностью; я готов выдать ее головою нашим субъективистам. Но если, с другой стороны, субъективность заключается в том, чтобы вместо признания желательным и должным истинного объявлять истинным желательное, в том, чтобы снимать с исследователя-социолога узду всяких общеобязательных логических форм мышления, в том, чтобы теоремы одной из областей науки, как бы эта область ни была важна сама по себе, возводить в методологический критерий всякого общественно-научного мышления, если это значит субъективный метод, то да будет всякий социолог подальше от такого орудия, и чем талантливее мыслитель, тем опаснее для науки подобное направление.
Объективисты обыкновенно игнорируют чрезвычайно важную теорему социологии, именно: о личностях как главных факторах общественного процесса; субъективисты не только требуют признания этой теоремы, но навязывают ее и все ее непосредственные последствия науке в верховный критерий истинности всех ее положений. Я старался показать, что те и другие ошибаются, но из этого отнюдь не следует, чтобы теорема не имела никакого значения для социальной методологии. Развивая ее в моем этюде "Социальное строение и социальные деятели" (Знание, 1872, декабрь. См. выше гл. III), я, между прочим, пришел к тому заключению, что общественный процесс, будучи взаимодействием деятельности личностей и общественной среды (при колеблющем влиянии среды физической) осуществляется следующим образом: "Вся совокупность общественных условий вырабатывает личность, единственный активный элемент общества; известная частная совокупность общественных условий в данный момент производит в личности, этом продукте всего предшествующего состояния среды, ряд настроенностей и потребностей; эти настроенности и потребности, переходя к действию, производят тот или другой ряд общественных явлений; действия всех личностей данного общества порождают всю совокупность общественных явлений следующего момента. Чрез посредство личностей, таким образом, одно общественное состояние в его целом производит другое, а вовсе не одно общественное явление производит другое независимо, изолированно от действия всех других. Всякое общественное явление производится всеми предшествующими, произведшими деятельность личностей, и чрез личностей же взаимно оказывает свое влияние на произведение всех последующих". Таким образом, теорема о значении личностей в обществе, разъясняя нам самый процесс общественного развития, указывает этим самым, какого рода фактов мы не вправе требовать от общественнонаучных изысканий; мы не можем искать фактов последовательности и сосуществования отдельных родов и видов социальной среды, напр., явлений экономических, ибо таких фактов вовсе не существует и существовать не может. Каждое экономическое явление есть продукт не того или другого экономического явления, ему предшествующего, и даже не всех экономических явлений предшествующего момента, но всей совокупности общественных явлений этого момента, экономических так же, как политических, этических, интеллектуальных. Конечно, каждое экономическое явление известным определенным образом отражается на каждом последующем экономическом явлении, но так как отражается на нем не только оно, но вся сложная совокупность общественного состояния предыдущего и многих предыдущих моментов, то фактов этого влияния мы искать не вправе. Ясно поэтому, что индуктивное исследование отдельных элементов социальной среды невозможно, что ни политическая экономия, ни философия умственного прогресса, ни правоведение не могут быть построены иначе, как чисто дедуктивно[105 - Эта мысль развита Миллем в его VI кн. "Системы логики". Здесь же я хотел указать только на новый свет, проливаемый на этот вопрос теоремою о значении личностей.]. Первостепенная важность этого вывода для методологии несомненна, а потому несомненно и первостепенное значение теоремы о роли личностей в общественном процессе, но значение это совершенно не то, на котором настаивает субъективная школа. Повторяю, нельзя достаточно благодарить эту школу за провозглашение и постоянное, резкое настаивание на непреложности и важности указанной теоремы, за гонение и разоблачение всякого исследования, игнорирующего ее, но вместе с тем нельзя не удивляться, как могла субъективная школа впасть в ряд выше разобранных заблуждений, исходя из воззрения, вполне истинного. Укажу еще на один замечательный пример: как можно близко подойти к истине и не заметить ее или, лучше сказать, обойти ее, все благодаря тому же субъективизму.
Во второй статье о прогрессе г. Михайловский приводит выдержку из курса философии Ог. Конта, именно: "Надо тщательно стараться, чтобы научное убеждение в подчиненности социальных явлений неизменным естественным законам не выродилось в систематическую наклонность к фатализму или оптимизму, одинаково безнравственным (degradants, не лучше ли растлевающим, потому что по общему смыслу места можно точно так же предполагать, что Конт разумеет падение, деградацию только умственную) и опасным, и потому те только с успехом могут заниматься социологией, чей нравственный уровень достаточно высок"[106 - Cours de Phil. Pos., t. IV, p. 190. Отеч. зап. 1869, № 9, 10, как и последующие цитаты.]. "Но почему, – восклицает г. Михайловский, – с точки зрения позитивизма, фатализм и оптимизм безнравственны и опасны?.. Как связать чисто объективное отношение к политическим фактам… с неодобрительными отзывами об оптимизме и фатализме?" На последний вопрос Ог. Конт, вероятно, ответил бы, что не одобрять оптимизм и фатализм он мог так же и по той же единственной причине, по какой не одобрил гипотезы светового эфира, т. е. потому, что считал подобные воззрения логическими промахами, теоретическими заблуждениями. По той же причине они и опасны; как бы объяснил Конт их безнравственность я не знаю, но, я, берусь доказать этот тезис с чисто позитивной точки зрения. Прежде приведу небольшое рассуждение г-на Михайловского, следующее за приведенными вопросами, и которым, по-видимому, г. Михайловский думал побить позитивистов их же оружием. Задав себе вопрос, почему достойны неодобрения, с позитивной точки зрения, воззрения фаталистические или оптимистические, он продолжает: "Это просто политические факты (конечно, но в то же время и научные), не подлежащие осуждению, с точки зрения позитивизма; они необходимо гармонируют с фактами сосуществующими и находятся в связи с фактами последующими и предыдущими. Если скажут, что выражениями "безнравственны и опасны" именно и определяется эта связь фатализма и оптимизма с последующими фактами, то это значит только, что программа объективного отношения к политическим фактам неисполнима; что в области явлений общественной жизни наблюдение неизбежно до такой степени связано с нравственной оценкой, что "не восхищаться политическими фактами и не осуждать их" можно, только не понимая их значения. Но нравственная оценка есть результат субъективного процесса мысли, а между тем позитивизм поставляет себе в заслугу употребление в социологии метода объективного. Далее, если объективный метод вполне соответствует социологическим исследованиям, то зачем же при этом понадобился высокий нравственный уровень? Значит, одного убеждения в законосообразности явлений мало. Прекрасно, но чем выразится участие высокого нравственного уровня в социологическом исследовании? Очевидно, с высоты этого уровня человек может разглядеть нечто, не поддающееся объективному исследованию, которое, однако, признается одно законным в позитивизме. Таким образом, оказывается, что в системе Конта чего-то недостает, и чего-то весьма важного". Г. Михайловский думает, что недостает субъективного метода, Но посмотрим, нельзя ли объяснить требование высокого нравственного уровня от социолога, не прибегая к толкованию нашего автора. Что же, в самом деле, можно разглядеть с высоты нравственного уровня, чего бы нельзя было увидеть и без нее? Спросите у себя прежде, чего нельзя разглядеть, не взбираясь на высоту философского мышления? Я думаю, философского единства наших мировоззрений. Так же и тут без нравственного развития нельзя увидеть нравственного элемента, как без усвоения впечатлений, связанных с знанием физики, нельзя понять физических процессов, как без знания математики нельзя прочесть и уразуметь алгебраической строки. Нравственный элемент как процесс приспособления жизни к условиям общественного существования слишком важен, и нравственная доктрина поэтому слишком обширная по своему значению область социологии, чтобы человек, неспособный разглядеть первого и чуждый второй, мог с успехом заниматься социологией. Но, могут возразить, собственно для построения социологии необходима только так или иначе выработанная нравственная доктрина, а не нравственное чувство, не наклонность личности действовать сообразно этой доктрине, т. е. не высокий нравственный уровень. На это можно ответить: во-первых, что важно не только обладание данной доктриной, но и введение ее в исследование; если ученый убежден в истинности гелиоцентрической теории, но благодаря своекорыстным побуждениям, проповедует геоцентризм, от такого молчаливого признания истинного воззрения его астрономические труды не будут ценнее для науки, – иначе: необходимо не только разделять или усвоить нравственную доктрину, но и исповедывать ее, действовать сообразно с нею; а во-вторых, самая выработка нравственной доктрины в значительной степени зависит от нравственного чувства мыслителя, который не заметит и в других того, чего не находит в себе, или если и заметит, то постарается подыскать иное объяснение; не находя его, объявит явление исключением, чуть ли не душевною болезнью, помешательством. Таким образом, совершенно справедливо, что известная высота нравственного уровня необходима для социолога, как зрение необходимо для микроскописта, как слух составляет неизбежное условие для музыканта, а развитое эстетическое чувство – для каждого художника, поэта и литературного критика.
Конт сказал, что без достаточно высокого нравственного уровня социолог легко может впасть в фатализм или оптимизм; после сказанного это нетрудно доказать. Только что мы видели, что без этого достаточно высокого нравственного уровня исследователь не может разглядеть нравственного элемента, т. е. основ, на которых держится общество, отношения личностей к обществу. А этого довольно, чтобы впасть в одно из указанных Контом заблуждений. Что такое фатализм как научная или философская доктрина? Конечно, учение о том, что все в обществе совершается по неизменным законам само собою, что никакая сила не в состоянии изменить этих законов, а следовательно (заключает фаталист), и порядка событий, а потому нам ничего не остается, как бездействовать уже потому, что мы ничего не в силах изменить своим действием; те, которые поступают иначе, жалкие слепцы, достойные своей участи, гибели, ожидающей их за возмущение против неизменного хода вещей. Не очевидно ли это следствие забвения или, лучше сказать, неспособности понять роли нравственного элемента в общественном процессе, забвения того, что основы каждого общества составляют те или другие отношения личностей к обществу, что, следовательно, из взаимодействия личностей слагается развитие общества и что, наконец, поэтому не невозможно направлять это развитие. Законы общественного развития неизменны, но что такое сами эти законы? Не просто ли это формулы взаимодействия личностей, равнодействующая личных сил? Если вы это будете помнить, т. е. если вы не будете чужды понимания роли нравственного элемента в обществе, вы никогда не впадете в фатализм. То же и об оптимизме. Основная ошибка оптимистов та же. Оптимист тоже убежден в неизменности общественных законов, тоже упускает из виду, что весь прошлый прогресс осуществился только как результат, равнодействующая личных усилий, он забывает или не видит всего этого, но зато видит, что общество прогрессирует. Затем он строит следующее умозаключение: общество развивается по неизменным законам, общество прогрессирует, ergo, общество прогрессирует в силу этих неизменных законов, прогресс есть закон общественной жизни, и он будет совершаться независимо от наших желаний и усилий. Так зачем же эти усилия? Будем лучше сидеть сложа руки и благоговейно преклоняться перед величественной картиной шествия человечества по пути прогресса; пусть вокруг нас кипит борьба, тянется и колеблется тяжба между сторонниками прогресса и реакции, пусть даже торжествует реакция, нам что за дело? Мы знаем, что прогресс – закон природы, и не прервем обеденного спича в честь прогресса, когда мимо окон проведут на казнь того, кто, быть может, своим самоотвержением и неустанною деятельностью, здоровьем и кровью не раз уже покупал наше право прославлять в обеденных спичах этот таинственный для нас и не требующий никаких пожертвований прогрессе Да, вполне прав был Конт, когда заметил, что необходим достаточно высокий нравственный уровень, чтобы, исходя из положения о законосообразности общественных явлений, не впасть в фатализм или оптимизм, и для того, чтобы согласиться с ним, вовсе не нужно прибегать к необходимости субъективного метода в социологии, потому что введение в исследование нравственного элемента и субъективный метод, т. е. объявление этого элемента методологическим критерием, далеко не одно и то же. Правда, г. Михайловский замечает, что "нравственная оценка есть результат субъективного процесса мысли"[107 - См. выше выписку.], но, право, сам г. Михайловский никогда не будет в состоянии объяснить, какой такой есть объективный процесс мысли. Все процессы мысли суть процессы мыслящего субъекта и, как субъективные, все они противуполагаются процессам мыслимым, объекту. Конечно, г. Михайловский своей фразой не хотел сказать подобной нелепости, но все же она не может служить возражением моим выводам как не имеющая, на лучший конец, никакого значения. Далее, там же г. Михайловский старается вывести из слов Конта, что ""не восхищаться политическими фактами и не порицать их" можно, только не понимая их значения". Не думаю, чтобы из слов Конта это следовало, тем не менее вполне соглашаюсь с самою мыслью г. Михайловского; но, скажите на милость, разве это помешает мне сделать вывод, вполне объективный, если только я способен на какой-либо вывод? Пусть представит себе г. Михайловский римлянина-социолога IV в. или V в. по Р. X.; этот гипотетический римлянин-социолог, исследуя свое отечество, не находит в нем никаких признаков жизни, все уже умерло, прежде чем сама организация государственного тела распалась, он видит неизбежность падения Рима, но он не желает, конечно, этого падения. Если принимать буквально уверения субъективной школы, то наш римлянин этого не увидит, не может увидеть, он просто определит условия возрождения даже тогда, когда никакие условия не возродят его; мне же кажется, что нежелание видеть падение своего отечества не помешало бы нашему предполагаемому исследователю предсказать этот факт, если бы он обладал достаточным для того научным материалом. Право, высказывая то или другое возражение против субъективной школы, мне иной раз кажется, что я воюю с мельницами, что наши мыслители никогда и в мыслях не имели положений, мною оспариваемых; так часто самый характер их работ говорит, что это невозможно. Но в таком случае какой смысл могут иметь все их аргументы? Ведь характер доводов должен быть в соответствии со смыслом защищаемого положения?
Что касается того положения, что, мысля общественные явления, мы необходимо мыслим пользу, вред, благо и прочие категории, окрашенные для нас в цвет желательности или нежелательности, в этом я так же мало сомневаюсь, как и в том, чтобы эта неизбежность налагала на нас обязанность строить общественную науку, исходя из положений одного из отделов ее, из нравственных теорий. Общество не только основано на личностях, но по самому нашему положению как личностей, его составляющих, мы и наблюдать-то ничего не можем, кроме отношений между личностями, личностей к обществу и общественной среде, если не считать, конечно, самих явлений этой среды, которая в наших глазах получает смысл все же только тогда, когда определим ее значение для личностей. Натурально, что вся наша терминология имеет такую же утилитарную окраску. Поэтому борьба с этою окраскою для всякого мыслителя и невозможна, и бесполезна: все слова, относящиеся к обществу, запечатлены ею; все отвлеченные и почти все общие конкретные названия в социологической терминологии непременно или прямо означают, или соозначают пользу, вред, благо или что-либо подобное, и, употребляя эти названия, вы необходимо называете и указанные признаки. Таким образом, если бы вы даже и не разумели ничего подобного, ваша фраза противоречила бы вашей мысли, и читатели прочли и поняли бы ее иначе; поэтому-то, сказал я, борьба бесполезна, но она и невозможна, потому что вы ничего другого и разуметь не можете, если вы лишите слова всего их содержания, существенных признаков, ими соозначаемых. Но как же вы тогда будете мыслить? Мышление требует различения и сходства, но вы уничтожили в ваших словах все, чем их соозначение различалось, именно игнорируете свойства означаемых явлений, насколько эти свойства отражаются на личностях, точнее и проще, игнорируете все их свойства как общественных явлений. Таким образом, пишучи и мысля при помощи наших языков, нельзя избыть утилитарного элемента. По-видимому, есть одно весьма смелое средство – именно отказаться от уже создавшейся терминологии и перенести в социологию терминологию какой-либо другой смежной науки, но – увы! – это средство чисто фиктивное! Вам необходимо определить ваши термины, т. е. в данном случае названиям, имеющим определенное значение и соозначение, придать новое значение и соозначение. Переменить значение, не выяснив нового соозначения, невозможно, потому, во-первых, что если существует два рода явлений, то уже по этой причине название, верно соединяющее в своем соозначении все существенные признаки одного из них, не будет соответствовать другому, а во-вторых, потому, что никто вас не поймет. Если же заимствованному термину постараетесь вложить новое соозначение, то этим самым вы ему вложите и утилитарный смысл. Читатель из этого рассуждения видит, что я не менее уважаемых мыслителей, мною разбираемых, убежден в неизбежности утилитарной окраски всех выводов социологии, но из этого еще не следует, чтобы их истинность была оцениваема или, лучше сказать, не могла бы иначе оцениваться, как на основании их полезности, желательности. Выше я об этом говорил достаточно и потому теперь ничего не прибавлю.
Прорезюмируем теперь сжато все изложенное. Субъективная школа объявляет, прежде всего, что объективный метод, общеупотребительный во всех науках, не может быть с успехом приложен к исследованию социологическому. Этот общенаучный метод состоит в оценке подлежащего исследованию предмета на основании категорий истинного и ложного, а единственным критерием этой истинности служит повторяемость явлений в неизменной связи. Но почему же он неприменим к социологическим работам? Во-первых, потому, что события в истории не повторяются, а где нет повторяемости явлений, там не может быть и объективного метода. В этой аргументации очевидное недоразумение, ибо исторические явления не повторяются только в том самом смысле, как и все другие процессы природы, именно как данные конкретные факты, "в данной совокупности", но как явления данного рода повторяются. Во-вторых, потому, что нельзя приписывать нашим нравственным воззрениям и оценке важности на основании их значения абсолютного, безотносительного к нашему пониманию. Это возражение против объективного метода основано на двусмысленности термина "наше понимание", "для человека" и пр. В-третьих, наблюдая общественные явления, мы, между прочим, наблюдаем цели, существование целей отличает процесс, подлежащий исследованию социолога, а это делает оценку этих исследований на основании одних категорий истинного и ложного недостаточною. Тут две ошибки: неверна основная посылка в том виде, в каком выставляется, потому что "цели в природе сказались" совершенно независимо от возникновения общественного процесса; с другой стороны, исправленная или нет, эта посылка не ведет к выводу о недостаточности категорий истинного и ложного при построении социологии уже потому, что желательно только возможное, неистинное же и невозможно. В-четвертых, никакое исследование невозможно без предвзятого мнения; такое предвзятое мнение в социологии есть нравственное миросозерцание. Совершенно справедливо, точно так же, как в физике предвзятым мнением будет последняя физическая теория, так что сам по себе этот аргумент ничего не доказывает; он бы имел цену лишь тогда, когда бы вышеприведенные доводы были верны. Таким образом, разобрав шаг за шагом всю аргументацию субъективной школы, которою она старается доказать неприменимость к социологии объективного метода, мы можем, наконец, сказать, что отрицательная сторона ее доктрины не выдерживает критики. Что касается положительной стороны, то в основании ее лежит глубоко истинная идея о значении нравственной доктрины в социологии, но нравственная доктрина есть учение об отношении личности к обществу, о приспособлении жизни к условиям общественного существования, так что ее значение в социологии понятно и без каких-либо субъективных подставок. Ошибка субъективистов заключалась в том, что они теоремы социологии приняли за теоремы логики и доктрину, долженствующую влиять на содержание науки, объявили методологическим критерием. Собственно говоря, такая постановка вопроса есть сама по себе уже отрицание социологии как особой науки и отождествление ее с политикой. Вред такого смешения абстрактного отдела обществознания с прикладным очевиден, особенно если присоединить к этому столь общераспространенное смешение конкретной и абстрактной социологии.
У нас в литературе так принято злоупотреблять полемикой и делать из нее орудия самолюбий, что я чувствую, кончая эту статью, необходимость просить разбираемых мною авторов верить, что статья эта внушена не желанием блеснуть полемическою ловкостью, но единственно глубоким убеждением в ошибочности их воззрений и уверенностью, что это заблуждение, исходя из положений, вполне истинных, и обращаясь к лучшим инстинктам человеческой природы, легко может популяризоваться и принести вред весьма многим начинающим думать о социальных явлениях. На себе самом я испытал всю тяжесть этой предварительной методологической работы; субъективизм связывает свое дело с такими принципами, которые не могут не быть дороги каждому порядочному человеку, а известность его защитников только скрепляет эту связь; распутать эту связь нелегко для неопытного мыслителя, и это-то внушило мне мысль опубликовать мое возражение. Все, что я желаю, – это чтобы и мои оппоненты не иначе истолковали эту статью.
notes
Примечания
1
В позднейших работах своих я попытался дать это истолкование. См. мой этюд "Нравственное начало в общественной борьбе" (Сев. вест. 1888 г. №№ 9 и 11). (Прим. 2-го изд.)
2
Касательно специфических отличий жизненного процесса, см. особенно у Спенсера "Основ. биологии", т. I, часть I: "Данные биологии". Спенсер приводит там много других различий по строению, но я пишу не биологическое исследование и потому опускаю их. Строением живых тел Спенсер весьма удовлетворительно объясняет все особенности жизненного процесса, но так как он сам признает отправление первичным, а строение производным, то остается вопрос, чем обусловлено то основное отправление, которое, создав строение, вызвало все остальные процессы? Тут-то является на помощь Спенсеру гипотеза физиологических единиц и их полярность. Но что такое полярность? Ведь это не новая же элементарная сила? На это теория Спенсера ответа не дает; ясно, что жизненный процесс не может считаться объясненным, пока эта полярность не разложена на элементарные силы и не указана причина такой их комбинации. Вот почему выше я сказал, что жизнь еще не сведена к простым силам. Другие теории еще менее объясняют причину жизни; ни Дарвин в своем пангенезисе, ни Геккель не дают требуемого объяснения. Гипотеза пангенезиса Дарвина ("Прирученные животные и возделанные растения" т. II, гл. XXVII) лучше Спенсеровой объясняет многие частности процесса, но основного вопроса вовсе не касается. Зачатки для Дарвина суть даже просто мелкие организмы. "Каждое живое существо, – говорит он, – следует рассматривать как микрокосм, маленький мир, образованный легионами саморазмножающихся организмов, бесконечно малых и бесчисленных, как звезды небесные" (см.: Ibidem., II, 435). Геккель прекрасно развивает идею постепенности перехода неорганического мира в органический и удачно группирует основные отличия обоих миров, но истолкования этих отличий не дает, так что гипотеза Спенсера является самою глубокою, но что и она не дает окончательного сведения явлений жизни к данной комбинации элементарных сил – это мы только что видели. (Прим. 1-го изд.)
В упомянутой уже статье моей "Нравст. начало…" я подробнее останавливаюсь на этом вопросе о сведении жизненной энергии к законам мировой энергии, куда и отсылаю интересующихся вопросом. (Прим. 2-го изд.)
3
См.: Герберт Спенсер. Основания биологии, т. II, ч. IV, гл. 2-я и 3-я ("Морфологическое сложение растений"), §§ 180–189. Истолкования явлений растительной жизни, изложенные в этих §§, представляют, быть может, лучшее свидетельство в пользу биологической теории Спенсера. 2 См.: Ibidem., II, §§ 199–211. Агрегации четвертой степени находит Спенсер только у Molluscoida (§ 203), третьей степени у Coelenterata (§ 202), Molluscoida (§ 204), Anneloida (§ 206), Articulata (§ 208). Наконец у позвоночных и моллюсков он признает только агрегацию второй степени; о моллюсках см. § 209, а о позвоночных – § 210 и особо гл. XV той же части: "О форме позвоночных скелетов".
4
Весьма близки к мыслям, изложенным на последних страницах, идеи, высказанные Н.К. Михайловским в его статье: "Что такое прогресс?" (Отеч. зап… 1869 г.). Особенно достойно внимания то, что автор этой статьи весьма резко выставляет противуположность значения дифференцования для процесса индивидуальной жизни и общественной; на этой противуположности, г. Михайловский основывает свое опровержение идей Спенсера о социальном организме и прогрессе. Как ни важна эта противуположность, но не надо забывать, что это – противуположность по эффектам, и ей должно быть присвоено истолкование в противуположности причин, деятелей.
5
Что именно в таком взаимодействии личной деятельности и созданной ею среды выражается социальный процесс, давно уже признано для отдельных явлений среды; так, труд и капитал в экономическом развитии, критика мысли и традиционная религия и наука – в умственном, нравственное убеждение и законодательство – в политическом. Труд, критика мысли, нравственное убеждение – все это различные названия личной деятельности, смотря по тому, на произведение каких явлений она направлена. Истина, на которой я настаиваю в тексте, является, следовательно, общим истолкованием частных истин, частью уже давно признанных наукою.
6