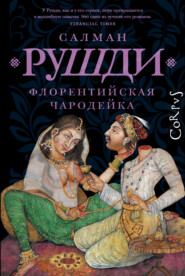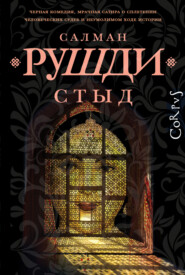По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дети полуночи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Двадцать минут проходит; а-а-а-а – кричит Амина Синай с каждой минутой все громче, все чаще; а-а-а-а – слабо, устало вторит ей Ванита из соседней палаты. Чудище на улицах уже празднует вовсю, новый миф струится по жилам, заменяя красные кровяные тельца шафраново-зелеными. А в Дели серьезный, натянутый, как струна, человек сидит в Зале собраний и готовится произнести речь[143 - Имеется в виду Джавахарлал Неру (1889–1964), в тот период – премьер-министр Временного правительства Индии.]. В имении Месволда золотые рыбки застыли в пруду, а жильцы ходят из дома в дом, угощают друг друга фисташковыми сластями, обнимаются, целуются: сегодня все едят зеленые фисташки и шафрановые колобки-ладду. Два младенца движутся по тайным ходам, а в Агре стареющий доктор сидит рядом со своей женой, у которой на лице две бородавки, будто ведьмины сиськи; меж заснувших гусей и траченных молью воспоминаний на них накатило молчание, им никак не найти что сказать друг другу. И во всех городах, и местечках, и деревнях маленькие светильники горят на подоконниках, крылечках, верандах, а в Пенджабе в это время горят поезда; зеленым вспыхивает вздувающаяся краска, шафрановым полыхает горящий бензин, и это самые большие лампы в мире.
Город Лахор пылает тоже.
Натянутый как струна серьезный человек поднимается на ноги. Окропленный священной водой Танджора, он выпрямляется во весь рост; благословенным пеплом на лбу начертаны знаки; он прочищает горло. Нет в руках заранее приготовленной речи, нету в памяти заранее придуманных слов – Джавахарлал Неру начинает: “…Многие годы назад мы назначили встречу судьбе, и вот пришло время получить обещанное – не целиком и не в полной мере, но в достаточной степени…”
Без двух минут полночь. В родильном доме Нарликара темнокожий сияющий доктор, рядом с которым стоит акушерка по имени Флори, тоненькая, любезная девушка, не имеющая значения для нас, подбадривает Амину Синай: “Тужьтесь! Сильнее! Я вижу голову!..” – а в соседней палате некий доктор Боз вместе с мисс Мари Перейрой присутствуют при завершении длившихся полные сутки родов Ваниты… “Ну еще, в последний раз; давай же, давай – сейчас все кончится!” Женщины вопят и стонут, а мужчины в соседней комнате не произносят ни звука. Уи Уилли Уинки – не до песен ему сейчас – скорчился в углу и раскачивается взад и вперед, взад и вперед… Ахмед Синай оглядывается, ищет стул. Но стульев здесь нет, по этой комнате расхаживают, меряют ее шагами, так что Ахмед Синай открывает дверь, находит стул у пустого стола регистраторши, поднимает его, тащит в комнату для хождений, где Уи Уилли Уинки раскачивается и раскачивается без конца, и глаза его пусты, будто у слепого… выживет она? умрет?.. и вот наконец полночь.
Чудище на улицах взвыло, а в Дели натянутый, как струна, человек продолжает свою речь: “…С последним ударом полуночи, когда весь мир спит, Индия пробуждается к жизни и свободе… – Сквозь завывания стоглавого чудища слышатся два новых вопля, крика, рева: плач детишек, пришедших в мир, их тщетный протест, смешавшийся с грохотом независимости, что развесила шафран и зелень по ночным небесам. – Настала минута, редкая в истории, когда совершается шаг от старого к новому; когда душа целого народа, так долго угнетаемого, находит наконец выражение…” А в комнате, где пол застлан шафранно-зеленым ковром, Ахмед Синай стоит, держа на весу стул; в этот момент входит доктор Нарликар и сообщает ему: “С последним ударом полуночи, братец Синай, твоя бегам-сахиба родила крупного, здорового малыша, сына!” Тогда мой отец начинает думать обо мне (не зная…); образ мой заполоняет все его мысли, и он забывает о стуле; охваченный любовью ко мне (даже несмотря на…), переполненный ею с головы до кончиков пальцев, он роняет стул.
Да, это моя вина (что бы ни говорили)… мое лицо, мое, и ничье другое, заставило Ахмеда Синая разжать руки и выпустить стул; стул полетел вниз с ускорением двадцать два фута в секунду, и когда Джавахарлал Неру в Зале собраний сказал: “Ныне кончается пора невзгод”, и громкоговорители разнесли повсюду весть о свободе, мой отец тоже заорал, но не из?за свободы, из?за меня – стул упал ему на ногу и раздробил большой палец.
Вот мы и подобрались к самой сути: все сбежались на крик, мой отец и его увечье на короткое время отвлекли внимание от двух страдающих матерей и от двух детишек, синхронно родившихся в полночь, ибо Ванита в конце концов разрешилась мальчиком, замечательно крупным. “Вы не поверите, – говорил доктор Боз. – Он все шел и шел, конца ему не было видно, здоровый мальчишка, настоящий богатырь!” И Нарликар, умываясь: “Мой тоже”. Но это было чуть позже, а сейчас Нарликар и Боз заняты пальцем Ахмеда Синая; акушеркам велено обмыть и спеленать новорожденную пару, и тут?то мисс Мари Перейра и внесла свой вклад.
– Ступай, ступай, – говорит она бедняжке Флори, – посмотри, может, там надо помочь. Здесь я сама справлюсь.
И когда Мари осталась одна – двое младенцев на ее руках, две жизни в ее власти, – она это сделала ради Жозефа, свой маленький частный революционный акт. “За это он, конечно, меня полюбит” – так она думала, меняя ярлычки с именами на двух гигантских младенцах, даря бедному малышу жизнь-полную чашу и осуждая ребенка, рожденного от богатых, на аккордеон и нищету… “Полюби меня, Жозеф!” – одна только эта мысль сверлила мозг Мари Перейры, и дело было сделано.
На щиколотку богатыря с глазенками голубыми, как небо Кашмира – голубыми, как у Месволда, и носом, столь же выдающимся, как у кашмирского дедушки или у французской бабки, – она прикрепила ярлычок с именем: Синай.
В шафрановые пеленки завернули меня, поскольку благодаря преступлению Мари Перейры я был признан ребенком полуночи, чьи отец и мать ему не родные, чей сын – не его сын… Мари взяла дитя, рожденное моей матерью, того младенца, которому не суждено было стать ее сыном, второго здоровенького бутуза, но с глазками уже карими и коленками узловатыми, как у Ахмеда Синая, завернула его в зеленые пеленки и отнесла Уи Уилли Уинки, а тот глядел в пустоту, будто слепой, а тот вряд ли увидел новорожденного, а тот знать ничего не знал о прямых проборах… Уи Уилли Уинки только что сказали, что Ванита не пережила родов. Через три минуты после полуночи, пока доктора возились со сломанным пальцем, она истекла кровью и умерла.
А меня отнесли к моей матери, и та ни минуты не сомневалась в том, что я – ее сын. Ахмед Синай, с большим пальцем ноги в лубке, присел к ней на постель, и она сказала: “Глянь?ка, джанум, у бедного мальчонки дедов нос”. Муж смотрел на нее в недоумении, пока она проверяла, нет ли у младенца второй головы, убедилась, что все в норме, и окончательно расслабилась, осознав, что не все предсказания сбываются.
– Джанум, – заволновалась тогда моя мать, – позвони в газеты. Позвони в “Таймс оф Индиа”. Что я тебе говорила? Приз мой.
“Сейчас не время для мелочной и деструктивной критики, – вещал Джавахарлал Неру в Зале собраний. – Не время для злопыхательства. Мы должны построить благородное здание свободной Индии, в котором будут жить все ее дети”. Поднимается стяг – шафрановый, белый, зеленый.
– Так ты – англо? – ахает в ужасе Падма. – Что ты такое говоришь? Ты – англо-индиец? Твое имя не принадлежит тебе?
– Я – Салем Синай, – отвечаю. – Сопливец, Рябой, Сопелка, Лысый, Месяц Ясный. Как это – мое имя мне не принадлежит?
– Все это время, – сердито причитает Падма, – ты мне морочил голову. Твоя мать, ты говорил, твой отец, твой дед, твои тетки. Что ж ты за человек такой, если не можешь даже правду сказать о своих родителях? Тебе все равно, что твоя мать умерла родами? Что твой отец, может быть, еще живет, нищий, без гроша в кармане? Что ж ты за чудище такое?
Нет, я не чудище. И я никому не морочил голову. Я дал ключи к разгадке… но есть вещи более важные. Вот, например: когда по чистой случайности вышло наружу преступление Мари Перейры, все мы поняли, что это все равно! Я так и остался их сыном, а они – моими родителями. Нам всем не хватило воображения, мы решили, что не можем переделать прошлое… если спросить моего отца (даже его, несмотря на все, что случилось!), если спросить, кто его сын, ничто на свете не заставило бы его указать на немытого, с узловатыми коленками мальчишку аккордеониста. Хотя он, этот Шива, стал в конце концов чем?то вроде героя.
Итак, были колени и нос, нос и колени. На самом деле по всей новой Индии, о которой мы все мечтали, родились дети, бывшие лишь частично отпрысками своих родителей – дети полуночи были детьми времени, рожденными, как вы понимаете, самой историей. Такое бывает. Особенно в стране, которая сама – не более чем мечта или сон.
– Довольно, – дуется Падма. – Не хочу больше тебя слушать.
Не такого двухголового младенца ожидала она, и теперь ей обидно. Ну что ж, будет она слушать или нет, мне есть что порассказать.
Через три дня после моего рождения Мари Перейру замучили угрызения совести. Жозеф Д’Коста, скрываясь от полиции, бросил не только Мари, но и сестру ее Алис, и маленькая, пухленькая акушерка – боясь сознаться в своем преступлении – поняла, какую совершила глупость. “Ослица, несчастная ослица!” – корила она себя, но тайны не открывала. Однако решила хоть как?то горю помочь. Оставила работу в родильном доме и явилась к Амине Синай: “Госпожа, разок увидев вашего малыша, я прямо влюбилась в него. Не нужна ли вам няня?” И Амина, с материнской гордостью, блистающей во взоре: “Да, нужна”. Мари Перейра (“Ты бы лучше ее называл своей матерью, – встревает Падма, тем самым доказывая, что ей все?таки интересно. – Это она тебя сделала, знаешь ли”) с этой самой минуты посвятила жизнь моему воспитанию, связав остаток дней своих с памятью о собственном бесчинстве.
20 августа Нусси Ибрахим последовала за моей матерью в клинику на Педдер-роуд, а малыш Сонни последовал за мной в мир, но он не хотел появляться, пришлось наложить щипцы; доктор Боз от волнения нажал слишком сильно, и Сонни родился с мелкими зубчиками на висках, небольшими вмятинками, которые делали его неотразимым, – так волосы Уильяма Месволда привлекали всех женщин. Девочки (Эви, Медная Мартышка, другие) протягивали руки и гладили эти маленькие впадинки… что привело впоследствии к некоторым осложнениям.
Но напоследок я приберег самое интересное. А именно: на следующий день после того, как я родился, нас с матерью в нашей шафранно-зеленой спаленке посетили два корреспондента “Таймс оф Индиа” (бомбейская редакция). Я лежал в зеленой колыбельке, в шафрановых пеленках, и таращил на них глаза. Репортер брал у матери интервью, а высокий с орлиным носом фотограф занимался исключительно мною. На следующий день и текст, и фотографии появились в газете…
Недавно я сходил в кактусовый садик, где много лет назад зарыл игрушечный жестяной глобус, расколотый, а потом склеенный скотчем, и вынул из него то, что вложил когда?то. Эти предметы я держу сейчас в левой руке, пока пишу правой, и могу разобрать сквозь желтизну и плесень, что одно из них – письмо, адресованное лично мне и подписанное премьер-министром, а второе – газетная вырезка.
Над ней заголовок: ДЕТИ ПОЛУНОЧИ.
И текст: “Очаровательный Малыш Салем Синай, который родился прошлой ночью в ту же минуту, что и независимость Нации, – счастливое Дитя этого славного Часа!”
И большая фотография: первоклассный широкоформатный глянцевый снимок, на котором еще можно разглядеть малыша: щеки усыпаны родинками, нос красный и течет. (Под снимком подпись: фото Калидаса Гупты.)
Несмотря на заголовок, текст и фотографию, я должен обвинить наших визитеров в том, что они все опошлили: простые журналисты, не видящие дальше завтрашнего номера, они и понятия не имели, какой важности событие довелось им освещать. На первом месте для них стоял человеческий интерес.
Откуда я это знаю? Да оттуда, что фотограф в конце интервью вручил моей матери чек на сто рупий.
Сто рупий! Можно ли представить себе более ничтожную, смехотворную сумму? Такой суммой иные могли бы и оскорбиться. Но я лишь поблагодарю газетчиков за то, что они отметили мое появление на свет, простив им отсутствие истинного исторического чутья.
– Ишь какой гордый, – ворчит Падма. – Сто рупий не так уж мало; в конце концов все люди родятся на свет, ничего в этом нету такого важного-преважного.
Книга вторая
Указующий перст рыбака
Можно ли ревновать к писаному слову? Ненавидеть ночное карябанье, словно соперницу из плоти и крови? И все же я не могу найти иной причины, объясняющей странное поведение Падмы, и толкование мое хорошо тем, что оно столь же диковинно, сколь и ярость, в какую впала она сегодня ночью, когда я по неосторожности написал (и вслух прочел) слово, которого лучше было бы не произносить вовсе… Еще с визита доктора-шарлатана я чуял в Падме некое недовольство, вынюхивал его загадочные следы, исходящие из эндокринных (или эпокринных) желез. Обескураженная, может быть, безрезультатностью полночных поползновений на то, чтобы воскресить мой “другой карандашик”, бездарно свисающий огурец, спрятанный у меня в штанах, она постоянно ворчала. (А какой шум подняла она прошлой ночью, когда я открыл ей тайну моего рождения, как разозлилась на то, что сумма в сто рупий показалась мне никудышной!) Винить в этом нужно только меня: погруженный в собственное жизнеописание, я потерял из виду ее чувства и этой ночью начал с самой что ни на есть фальшивой ноты.
“И я приговорен продырявленной простыней жить по кусочкам, – написал я и прочел вслух, – но мне повезло больше, чем деду: Адам Азиз всю жизнь был жертвой простыни, я же сделался ее властелином – Падма, например, поддалась уже ее чарам. Сидя в колдовских потемках, я каждый день позволяю взглянуть на себя одним глазком, а она, пристроившись рядом на корточках и пожирая меня взглядом, всякий раз попадает в плен, беззащитная, словно мангуст, неподвижно застывший перед движущимися туда-сюда, немигающими глазами королевской кобры; парализованная – да! – любовью”.
Вот оно, это слово: любовь. Написанное-и-произнесенное, оно довело голосок моей дамы до немыслимо визгливой ноты, а из уст ее потекли такие неистовые речи, что я бы обиделся, если бы мог еще обижаться на слова. “Любовью к тебе? – с издевкою возопила наша Падма. – Да за что любить?то тебя, Боже правый? Какой от тебя толк, барчук несчастный, – и тут она попыталась нанести мне последний, смертельный удар, – на что ты годишься как любовник?” Протянув руку, покрытую пушком, золотым в свете лампы, презрительно ткнула она указующим перстом по направлению к моим чреслам, от которых, надо признаться, и впрямь нет никакого проку; длинный, толстый палец, скованный ревностью – к несчастью, он всего лишь напоминает мне о другом, давно потерянном пальце… и она, Падма, видя, что стрела не попала в цель, заорала: “Придурок несчастный! Прав был доктор, прав!” – и в смятении выбежала вон из комнаты. Шаги ее прогрохотали по железным ступенькам лестницы, ведущей в цех, прошелестели между укрытыми темнотою чанами для маринада, потом звякнула задвижка и хлопнула входная дверь.
А я, покинутый ею, вернулся к работе: ничего другого мне не оставалось.
Указующий перст рыбака: незабвенный фокус, композиционный центр картины, что висела на небесно-голубой стене спаленки на вилле Букингем, прямо над небесно-голубой кроваткой, в которой я, Малыш Салем, дитя полуночи, провел свои первые дни. Юный Рэйли и кто?то еще сидел в тиковой рамке у ног старого, согбенного, починяющего сети рыбака (были ли у него усищи, будто у моржа?), чья правая рука, вытянутая во всю длину, указывала на водную гладь, простирающуюся до самого горизонта, а байки его, тоже полные просоленной влаги, струились сквозь зачарованный слух Рэйли и кого?то еще, потому что там, на картине, я уверен, был еще один мальчик: он сидел, скрестив ноги, в кружевной рубашке и расстегнутом кафтанчике… И вот воспоминания возвращаются ко мне: праздник, день рождения, когда гордая матушка и не менее гордая нянюшка нарядили малыша с носом огромным, будто у великана Гаргантюа, в точно такую рубашечку, точно такой кафтанчик. Портной сидел в небесно-голубой комнатке, под указующим перстом, и срисовывал одеяния английских милордов… “Гляньте, какая прелесть! – воскликнула Лила Сабармати к вящему моему стыду. – Он будто сошел с этой картины!”
На картине, что висела в спальне, я сидел подле Уолтера Рэйли и провожал взглядом указующий перст рыбака, взглядом, впивающимся в горизонт, за которым скрывалось – что? – возможно, мое будущее, мое роковое предназначение, которое я ощущал с самых первых дней как нечто серое, мерцающее в той небесно-голубой спаленке, вначале почти неразличимое, но неизбежное… ибо перст указывал дальше, за мерцающий горизонт, он указывал за пределы тиковой рамы, через небольшое пространство небесно-голубой стены он вел мой взгляд к другой раме. В ней и заключалась моя неизбежная судьба, навеки припечатанная стеклом: там висел широкоформатный детский снимок под пророческим заголовком; там же, рядышком, висело письмо на первосортной веленевой бумаге, скрепленное государственной печатью, – львы Сарнатха высились над дхарма-чакрой[144 - Гербом независимой Индии стало изображение так называемой “львиной капители” – капители, венчающей колонну, возведенную императором Ашокой в 242–232 гг. до н. э. в Сарнатхе, на месте первой проповеди Будды.]
Город Лахор пылает тоже.
Натянутый как струна серьезный человек поднимается на ноги. Окропленный священной водой Танджора, он выпрямляется во весь рост; благословенным пеплом на лбу начертаны знаки; он прочищает горло. Нет в руках заранее приготовленной речи, нету в памяти заранее придуманных слов – Джавахарлал Неру начинает: “…Многие годы назад мы назначили встречу судьбе, и вот пришло время получить обещанное – не целиком и не в полной мере, но в достаточной степени…”
Без двух минут полночь. В родильном доме Нарликара темнокожий сияющий доктор, рядом с которым стоит акушерка по имени Флори, тоненькая, любезная девушка, не имеющая значения для нас, подбадривает Амину Синай: “Тужьтесь! Сильнее! Я вижу голову!..” – а в соседней палате некий доктор Боз вместе с мисс Мари Перейрой присутствуют при завершении длившихся полные сутки родов Ваниты… “Ну еще, в последний раз; давай же, давай – сейчас все кончится!” Женщины вопят и стонут, а мужчины в соседней комнате не произносят ни звука. Уи Уилли Уинки – не до песен ему сейчас – скорчился в углу и раскачивается взад и вперед, взад и вперед… Ахмед Синай оглядывается, ищет стул. Но стульев здесь нет, по этой комнате расхаживают, меряют ее шагами, так что Ахмед Синай открывает дверь, находит стул у пустого стола регистраторши, поднимает его, тащит в комнату для хождений, где Уи Уилли Уинки раскачивается и раскачивается без конца, и глаза его пусты, будто у слепого… выживет она? умрет?.. и вот наконец полночь.
Чудище на улицах взвыло, а в Дели натянутый, как струна, человек продолжает свою речь: “…С последним ударом полуночи, когда весь мир спит, Индия пробуждается к жизни и свободе… – Сквозь завывания стоглавого чудища слышатся два новых вопля, крика, рева: плач детишек, пришедших в мир, их тщетный протест, смешавшийся с грохотом независимости, что развесила шафран и зелень по ночным небесам. – Настала минута, редкая в истории, когда совершается шаг от старого к новому; когда душа целого народа, так долго угнетаемого, находит наконец выражение…” А в комнате, где пол застлан шафранно-зеленым ковром, Ахмед Синай стоит, держа на весу стул; в этот момент входит доктор Нарликар и сообщает ему: “С последним ударом полуночи, братец Синай, твоя бегам-сахиба родила крупного, здорового малыша, сына!” Тогда мой отец начинает думать обо мне (не зная…); образ мой заполоняет все его мысли, и он забывает о стуле; охваченный любовью ко мне (даже несмотря на…), переполненный ею с головы до кончиков пальцев, он роняет стул.
Да, это моя вина (что бы ни говорили)… мое лицо, мое, и ничье другое, заставило Ахмеда Синая разжать руки и выпустить стул; стул полетел вниз с ускорением двадцать два фута в секунду, и когда Джавахарлал Неру в Зале собраний сказал: “Ныне кончается пора невзгод”, и громкоговорители разнесли повсюду весть о свободе, мой отец тоже заорал, но не из?за свободы, из?за меня – стул упал ему на ногу и раздробил большой палец.
Вот мы и подобрались к самой сути: все сбежались на крик, мой отец и его увечье на короткое время отвлекли внимание от двух страдающих матерей и от двух детишек, синхронно родившихся в полночь, ибо Ванита в конце концов разрешилась мальчиком, замечательно крупным. “Вы не поверите, – говорил доктор Боз. – Он все шел и шел, конца ему не было видно, здоровый мальчишка, настоящий богатырь!” И Нарликар, умываясь: “Мой тоже”. Но это было чуть позже, а сейчас Нарликар и Боз заняты пальцем Ахмеда Синая; акушеркам велено обмыть и спеленать новорожденную пару, и тут?то мисс Мари Перейра и внесла свой вклад.
– Ступай, ступай, – говорит она бедняжке Флори, – посмотри, может, там надо помочь. Здесь я сама справлюсь.
И когда Мари осталась одна – двое младенцев на ее руках, две жизни в ее власти, – она это сделала ради Жозефа, свой маленький частный революционный акт. “За это он, конечно, меня полюбит” – так она думала, меняя ярлычки с именами на двух гигантских младенцах, даря бедному малышу жизнь-полную чашу и осуждая ребенка, рожденного от богатых, на аккордеон и нищету… “Полюби меня, Жозеф!” – одна только эта мысль сверлила мозг Мари Перейры, и дело было сделано.
На щиколотку богатыря с глазенками голубыми, как небо Кашмира – голубыми, как у Месволда, и носом, столь же выдающимся, как у кашмирского дедушки или у французской бабки, – она прикрепила ярлычок с именем: Синай.
В шафрановые пеленки завернули меня, поскольку благодаря преступлению Мари Перейры я был признан ребенком полуночи, чьи отец и мать ему не родные, чей сын – не его сын… Мари взяла дитя, рожденное моей матерью, того младенца, которому не суждено было стать ее сыном, второго здоровенького бутуза, но с глазками уже карими и коленками узловатыми, как у Ахмеда Синая, завернула его в зеленые пеленки и отнесла Уи Уилли Уинки, а тот глядел в пустоту, будто слепой, а тот вряд ли увидел новорожденного, а тот знать ничего не знал о прямых проборах… Уи Уилли Уинки только что сказали, что Ванита не пережила родов. Через три минуты после полуночи, пока доктора возились со сломанным пальцем, она истекла кровью и умерла.
А меня отнесли к моей матери, и та ни минуты не сомневалась в том, что я – ее сын. Ахмед Синай, с большим пальцем ноги в лубке, присел к ней на постель, и она сказала: “Глянь?ка, джанум, у бедного мальчонки дедов нос”. Муж смотрел на нее в недоумении, пока она проверяла, нет ли у младенца второй головы, убедилась, что все в норме, и окончательно расслабилась, осознав, что не все предсказания сбываются.
– Джанум, – заволновалась тогда моя мать, – позвони в газеты. Позвони в “Таймс оф Индиа”. Что я тебе говорила? Приз мой.
“Сейчас не время для мелочной и деструктивной критики, – вещал Джавахарлал Неру в Зале собраний. – Не время для злопыхательства. Мы должны построить благородное здание свободной Индии, в котором будут жить все ее дети”. Поднимается стяг – шафрановый, белый, зеленый.
– Так ты – англо? – ахает в ужасе Падма. – Что ты такое говоришь? Ты – англо-индиец? Твое имя не принадлежит тебе?
– Я – Салем Синай, – отвечаю. – Сопливец, Рябой, Сопелка, Лысый, Месяц Ясный. Как это – мое имя мне не принадлежит?
– Все это время, – сердито причитает Падма, – ты мне морочил голову. Твоя мать, ты говорил, твой отец, твой дед, твои тетки. Что ж ты за человек такой, если не можешь даже правду сказать о своих родителях? Тебе все равно, что твоя мать умерла родами? Что твой отец, может быть, еще живет, нищий, без гроша в кармане? Что ж ты за чудище такое?
Нет, я не чудище. И я никому не морочил голову. Я дал ключи к разгадке… но есть вещи более важные. Вот, например: когда по чистой случайности вышло наружу преступление Мари Перейры, все мы поняли, что это все равно! Я так и остался их сыном, а они – моими родителями. Нам всем не хватило воображения, мы решили, что не можем переделать прошлое… если спросить моего отца (даже его, несмотря на все, что случилось!), если спросить, кто его сын, ничто на свете не заставило бы его указать на немытого, с узловатыми коленками мальчишку аккордеониста. Хотя он, этот Шива, стал в конце концов чем?то вроде героя.
Итак, были колени и нос, нос и колени. На самом деле по всей новой Индии, о которой мы все мечтали, родились дети, бывшие лишь частично отпрысками своих родителей – дети полуночи были детьми времени, рожденными, как вы понимаете, самой историей. Такое бывает. Особенно в стране, которая сама – не более чем мечта или сон.
– Довольно, – дуется Падма. – Не хочу больше тебя слушать.
Не такого двухголового младенца ожидала она, и теперь ей обидно. Ну что ж, будет она слушать или нет, мне есть что порассказать.
Через три дня после моего рождения Мари Перейру замучили угрызения совести. Жозеф Д’Коста, скрываясь от полиции, бросил не только Мари, но и сестру ее Алис, и маленькая, пухленькая акушерка – боясь сознаться в своем преступлении – поняла, какую совершила глупость. “Ослица, несчастная ослица!” – корила она себя, но тайны не открывала. Однако решила хоть как?то горю помочь. Оставила работу в родильном доме и явилась к Амине Синай: “Госпожа, разок увидев вашего малыша, я прямо влюбилась в него. Не нужна ли вам няня?” И Амина, с материнской гордостью, блистающей во взоре: “Да, нужна”. Мари Перейра (“Ты бы лучше ее называл своей матерью, – встревает Падма, тем самым доказывая, что ей все?таки интересно. – Это она тебя сделала, знаешь ли”) с этой самой минуты посвятила жизнь моему воспитанию, связав остаток дней своих с памятью о собственном бесчинстве.
20 августа Нусси Ибрахим последовала за моей матерью в клинику на Педдер-роуд, а малыш Сонни последовал за мной в мир, но он не хотел появляться, пришлось наложить щипцы; доктор Боз от волнения нажал слишком сильно, и Сонни родился с мелкими зубчиками на висках, небольшими вмятинками, которые делали его неотразимым, – так волосы Уильяма Месволда привлекали всех женщин. Девочки (Эви, Медная Мартышка, другие) протягивали руки и гладили эти маленькие впадинки… что привело впоследствии к некоторым осложнениям.
Но напоследок я приберег самое интересное. А именно: на следующий день после того, как я родился, нас с матерью в нашей шафранно-зеленой спаленке посетили два корреспондента “Таймс оф Индиа” (бомбейская редакция). Я лежал в зеленой колыбельке, в шафрановых пеленках, и таращил на них глаза. Репортер брал у матери интервью, а высокий с орлиным носом фотограф занимался исключительно мною. На следующий день и текст, и фотографии появились в газете…
Недавно я сходил в кактусовый садик, где много лет назад зарыл игрушечный жестяной глобус, расколотый, а потом склеенный скотчем, и вынул из него то, что вложил когда?то. Эти предметы я держу сейчас в левой руке, пока пишу правой, и могу разобрать сквозь желтизну и плесень, что одно из них – письмо, адресованное лично мне и подписанное премьер-министром, а второе – газетная вырезка.
Над ней заголовок: ДЕТИ ПОЛУНОЧИ.
И текст: “Очаровательный Малыш Салем Синай, который родился прошлой ночью в ту же минуту, что и независимость Нации, – счастливое Дитя этого славного Часа!”
И большая фотография: первоклассный широкоформатный глянцевый снимок, на котором еще можно разглядеть малыша: щеки усыпаны родинками, нос красный и течет. (Под снимком подпись: фото Калидаса Гупты.)
Несмотря на заголовок, текст и фотографию, я должен обвинить наших визитеров в том, что они все опошлили: простые журналисты, не видящие дальше завтрашнего номера, они и понятия не имели, какой важности событие довелось им освещать. На первом месте для них стоял человеческий интерес.
Откуда я это знаю? Да оттуда, что фотограф в конце интервью вручил моей матери чек на сто рупий.
Сто рупий! Можно ли представить себе более ничтожную, смехотворную сумму? Такой суммой иные могли бы и оскорбиться. Но я лишь поблагодарю газетчиков за то, что они отметили мое появление на свет, простив им отсутствие истинного исторического чутья.
– Ишь какой гордый, – ворчит Падма. – Сто рупий не так уж мало; в конце концов все люди родятся на свет, ничего в этом нету такого важного-преважного.
Книга вторая
Указующий перст рыбака
Можно ли ревновать к писаному слову? Ненавидеть ночное карябанье, словно соперницу из плоти и крови? И все же я не могу найти иной причины, объясняющей странное поведение Падмы, и толкование мое хорошо тем, что оно столь же диковинно, сколь и ярость, в какую впала она сегодня ночью, когда я по неосторожности написал (и вслух прочел) слово, которого лучше было бы не произносить вовсе… Еще с визита доктора-шарлатана я чуял в Падме некое недовольство, вынюхивал его загадочные следы, исходящие из эндокринных (или эпокринных) желез. Обескураженная, может быть, безрезультатностью полночных поползновений на то, чтобы воскресить мой “другой карандашик”, бездарно свисающий огурец, спрятанный у меня в штанах, она постоянно ворчала. (А какой шум подняла она прошлой ночью, когда я открыл ей тайну моего рождения, как разозлилась на то, что сумма в сто рупий показалась мне никудышной!) Винить в этом нужно только меня: погруженный в собственное жизнеописание, я потерял из виду ее чувства и этой ночью начал с самой что ни на есть фальшивой ноты.
“И я приговорен продырявленной простыней жить по кусочкам, – написал я и прочел вслух, – но мне повезло больше, чем деду: Адам Азиз всю жизнь был жертвой простыни, я же сделался ее властелином – Падма, например, поддалась уже ее чарам. Сидя в колдовских потемках, я каждый день позволяю взглянуть на себя одним глазком, а она, пристроившись рядом на корточках и пожирая меня взглядом, всякий раз попадает в плен, беззащитная, словно мангуст, неподвижно застывший перед движущимися туда-сюда, немигающими глазами королевской кобры; парализованная – да! – любовью”.
Вот оно, это слово: любовь. Написанное-и-произнесенное, оно довело голосок моей дамы до немыслимо визгливой ноты, а из уст ее потекли такие неистовые речи, что я бы обиделся, если бы мог еще обижаться на слова. “Любовью к тебе? – с издевкою возопила наша Падма. – Да за что любить?то тебя, Боже правый? Какой от тебя толк, барчук несчастный, – и тут она попыталась нанести мне последний, смертельный удар, – на что ты годишься как любовник?” Протянув руку, покрытую пушком, золотым в свете лампы, презрительно ткнула она указующим перстом по направлению к моим чреслам, от которых, надо признаться, и впрямь нет никакого проку; длинный, толстый палец, скованный ревностью – к несчастью, он всего лишь напоминает мне о другом, давно потерянном пальце… и она, Падма, видя, что стрела не попала в цель, заорала: “Придурок несчастный! Прав был доктор, прав!” – и в смятении выбежала вон из комнаты. Шаги ее прогрохотали по железным ступенькам лестницы, ведущей в цех, прошелестели между укрытыми темнотою чанами для маринада, потом звякнула задвижка и хлопнула входная дверь.
А я, покинутый ею, вернулся к работе: ничего другого мне не оставалось.
Указующий перст рыбака: незабвенный фокус, композиционный центр картины, что висела на небесно-голубой стене спаленки на вилле Букингем, прямо над небесно-голубой кроваткой, в которой я, Малыш Салем, дитя полуночи, провел свои первые дни. Юный Рэйли и кто?то еще сидел в тиковой рамке у ног старого, согбенного, починяющего сети рыбака (были ли у него усищи, будто у моржа?), чья правая рука, вытянутая во всю длину, указывала на водную гладь, простирающуюся до самого горизонта, а байки его, тоже полные просоленной влаги, струились сквозь зачарованный слух Рэйли и кого?то еще, потому что там, на картине, я уверен, был еще один мальчик: он сидел, скрестив ноги, в кружевной рубашке и расстегнутом кафтанчике… И вот воспоминания возвращаются ко мне: праздник, день рождения, когда гордая матушка и не менее гордая нянюшка нарядили малыша с носом огромным, будто у великана Гаргантюа, в точно такую рубашечку, точно такой кафтанчик. Портной сидел в небесно-голубой комнатке, под указующим перстом, и срисовывал одеяния английских милордов… “Гляньте, какая прелесть! – воскликнула Лила Сабармати к вящему моему стыду. – Он будто сошел с этой картины!”
На картине, что висела в спальне, я сидел подле Уолтера Рэйли и провожал взглядом указующий перст рыбака, взглядом, впивающимся в горизонт, за которым скрывалось – что? – возможно, мое будущее, мое роковое предназначение, которое я ощущал с самых первых дней как нечто серое, мерцающее в той небесно-голубой спаленке, вначале почти неразличимое, но неизбежное… ибо перст указывал дальше, за мерцающий горизонт, он указывал за пределы тиковой рамы, через небольшое пространство небесно-голубой стены он вел мой взгляд к другой раме. В ней и заключалась моя неизбежная судьба, навеки припечатанная стеклом: там висел широкоформатный детский снимок под пророческим заголовком; там же, рядышком, висело письмо на первосортной веленевой бумаге, скрепленное государственной печатью, – львы Сарнатха высились над дхарма-чакрой[144 - Гербом независимой Индии стало изображение так называемой “львиной капители” – капители, венчающей колонну, возведенную императором Ашокой в 242–232 гг. до н. э. в Сарнатхе, на месте первой проповеди Будды.]
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: