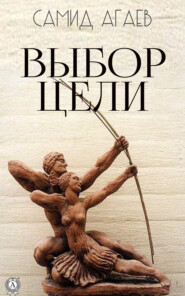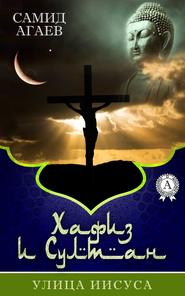По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Правила одиночества
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Со своей мамой кончать будешь, – ответил ему другой малец повыше и замахнулся доской. Алик отпрянул, молча снеся страшное оскорбление. Стоящий перед Исламом паренек достал из кармана тонкий, длинный складной нож, деловито раскрыл его и приставил к животу Ислама.
– Давай, – приказал он, – покажи карман. – Все это происходило на глазах у тысячи людей, на ярко освещенной неоновым светом площади, и поэтому казалось игрой.
– Карман, говоришь, а может, тебе задницу показать? – спросил Ислам.
– А ты что, пидорас?
– Отец твой педераст, – ответил Ислам.
Кто-то, подпрыгнув, ударил сзади, попав ладонью точно в глаз. Словно лампочка взорвалась перед лицом Ислама. Он нагнулся, стоял так, закрыв пораженный глаз рукой, а уцелевшим наблюдая, как улепетывает Алик. Оттого, что он не двигался, медлили и хулиганы, готовые в любой момент обрушить на него свои доски. Тогда он всей массой бросился на стоявшего сбоку пацана – сбив его с ног, выскочил из кольца и рванул вдоль тротуара, вслед поднимавшемуся вверх облепленному людьми троллейбусу. В котором, на счастье, оказался Тофик Ахвердиев, армянин из их группы – он высунулся из троллейбуса и подал Исламу руку, а когда на подножку вскочил один из преследователей, уже взрослый парень, пинком ноги сбросил его на землю и могучим усилием закрыл пневматические двери.
После того случая они разговаривали лишь по необходимости.
На построении выступил, как обычно, директор училища Ибад Ибадович, маленький упитанный человек, и, как обычно, долго говорил о плохой посещаемости занятий – при этом он несколько раз посмотрел в сторону Добродеева, отчего тот стал переминаться на месте. Построение закончилось, и Добродеев, выговаривая упреки старосте, повел группу в учебный корпус.
– Имей в виду, Васька, – сказал он старосте на прощание, – занятия сегодня до половины третьего, приду – проверю, хоть одного человека недосчитаюсь – ответишь по всей строгости военного времени, ты меня понял? – И оскалился: – В расход пущу.
– Я-то понял, – сказал Васька, остролицый, беловолосый, прыщавый юноша, – только районские обедать уйдут и прогуляют пару, а мне отвечать за них. У них уроки с обедом совпадают.
Добродеев укоризненно посмотрел на Ислама с Аликом, – ребятки, меньше есть надо, что же вы за сорок пять минут не управляетесь?
– Едим-то мы как раз мало, там есть нечего – ответил Ислам, – мы в очереди много стоим.
– А я вам говорил уже, что надо подойти к дежурному мастеру и сказать, что Добродеев велел пропустить без очереди.
– Мы говорили.
– Ну, так в чем дело?
– Неудобно говорить, что они просили вам передать.
– К-хм, ну ладно, – Добродеев нимало не смутился, – я разберусь, давай, марш на занятия.
Первой парой был русский язык, вела его Дора Сергеевна, красивая маленькая армянка с тонкой талией и потрясающей величины задом, из-за которого ее все время просили писать все, что она говорила, на доске. Верхом блаженства было, когда она роняла мел и нагибалась за ним, – тогда лица всех учеников принимали одинаково шкодливое выражение. После нее приходила Нелли Тиграновна – учительница литературы, высокая, статная армянка с оспинами на лице – та самая, по чьей рекомендации Ислама приняли в библиотеку.
Третьей парой был урок физики, который вел Васген Акопович, коренастый армянин, который в прошлом году ездил с ними в Барду на уборку хлопка и рассказывал им все время о том, что жизнь человека состоит из удовольствий. Кто-то положил ему в карман пиджака живого пойманного рака – физик, истерично смеясь и отчаянно труся, ходил и просил всех извлечь этого рака. Именно его занятия приходились на обеденное время, после которого учащиеся часто уже не возвращались в класс, но сегодня вернуться нужно было обязательно. Добродеев мог выполнить свою угрозу и, вопреки обыкновению, вместо того чтобы пить пиво, прийти к окончанию занятий.
К тому же последней парой была история – второй после литературы предмет, к которому благоволил Ислам, никогда не готовившийся к занятиям. В силу некоторой начитанности, он чувствовал себя на этих занятиях не совсем идиотом. Историю преподавал Яков Михайлович, маленький, щуплый еврей с пышными квадратными усами, закрывавшими верхнюю губу. Он был интересен тем, что крайне редко доводил свою историческую мысль до конца. Ничего не стоило, задав вопрос, увести его в сторону от школьной программы. Причем он увлекался настолько, что спохватывался лишь при звуках звонка, оповещавшего об окончании урока.
Говорить он мог о чем угодно: о пираньях Южной Америки, о тайнах Хазарского каганата или о растлении Лолиты – последнее живо заинтересовало аудиторию на предыдущем уроке, но рассказать он ничего не успел. Поэтому сегодня, едва преподаватель сел за стол и открыл журнал, руку поднял Никишин, плейбой местного значения, высокий, ладный парень с налетом ржавчины на зубах, красавчик, щеголь и потенциальный прелюбодей.
– Отвечать хочешь? – удивился Яков Михайлович.
– Нет, нет, что вы, – поспешно сказал Никишин.
Все засмеялись. Преподаватель выжидающе смотрел на Никишина.
– Вы в прошлый раз стали говорить про растление девочки, ЛОЛИТЫ, а урок кончился, вы не успели. А где можно достать эту книгу?
– Нигде, она запрещена к продаже, причем не только в Союзе, но и в Америке.
По аудитории прокатился гул одобрения – по лицам студентов было видно, что они готовы променять несколько лет жизни на возможность прочитать эту книгу. Больше всех был расстроен Никишин.
– Яков Михайлович, – трагическим голосом сказал он, – хоть что-нибудь расскажите.
– Хорошо, – согласился преподаватель, – буквально несколько слов, иначе мы опять не освоим тему. Этот роман принадлежит перу некоего Набокова, белогвардейского офицера, карточного шулера. Однако, товарищи, я не могу говорить о романе, которого не читал.
– Но вы уже начали говорить, – не унимался Никишин, – Яков Михайлович, ну пожалуйста.
Просьбу Никишина поддержали все, и в классе некоторое время стоял гул, в котором можно было различить слова: «Пожалуйста, расскажите».
– Ну хорошо, хорошо, – сдался Яков Михайлович, – только имейте в виду, я говорю с чужих слов. Тише, пожалуйста.
В аудитории наступила тишина, и стало слышно, как ветер бьется в окна, видимо, тоже желая послушать, как растлевают девочек. Историк оглядел присутствующих и, едва удерживаясь от улыбки, приступил к рассказу.
– Итак, дорогие мои любители клубнички, некий пятидесятилетний джентльмен по имени Гумберт, холостяк и филолог, путешествуя по Америке…
– Почти как вы, – перебил его Никишин.
– Что – как я? – удивился Яков Михайлович.
– Ну, холостяк и джентльмен, и че там дальше.
– Дальше, Никишин, у нас ничего общего с ним, потому что я историк и мне тридцать пять, и в Америке я не был.
– Ну, все равно похоже.
– Будешь перебивать – перейдем к истории.
Сидящий сзади Никишина атлет Ахвердиев перегнулся через парту и треснул его по спине. Никишин выгнулся и сказал: «Молчу».
– …Остановился в одном провинциальном городке и снял комнату в доме молодой женщины, вдовы, у которой была тринадцатилетняя дочь по имени Лолита – малолетняя бестия, во взгляде которой было нечто демоническое, не поддающееся однозначному определению: кокетство, соблазн, греховность и т. д. Глазами девочки на него смотрела женщина. Точнее, он снял комнату, увидев эту девочку во дворе. Девчонка допускала вольности, сводившие филолога с ума, – ерзала у него на коленях, к примеру. Сам Гумбольдт в сексуальном плане был не совсем нормален – его интересовали только такие ранние несовершеннолетние девочки, нимфетки, как он сам окрестил их, так как в подростковом возрасте его близости с девочкой помешали, и это сказалось на его психике.
Интересно, что Набоков, рассказывая об этом, подтверждает теорию Фрейда, хотя сам всегда высмеивал его, называя его теорию фреидовщинои. Причем между мамой и дочкой возникает тайное соперничество за благосклонность квартиранта, ревность. В самый разгар этого полуприкрытого флирта, взглядов, игр, телесных соприкосновений мать девочки вдруг признается в любви своему жильцу и предлагает ему сердце и руку. Это не входит в его планы, и он очень тактично, насколько это было в его силах, с возможными реверансами отклоняет ее предложение. Поскольку его интересует не мама, а дочка.
– Какой благородный человек, – подал с задней парты голос Кильдяков, двадцатилетний переросток из хорошей семьи, непонятно каким образом оказавшийся в ПТУ. – Вот Никишин бы, например, съел бы и маму, и дочку.
Польщенный Никишин довольно заулыбался, зарделся.
«В таком случае, – говорит Гульберту оскорбленная в лучших чувствах мамаша, – вы должны съехать с квартиры, я не смогу вас видеть, потому что мое сердце разбито».
– Вот змея, – возмутился Никишин, – пользуется своей властью.
– Видя, что дело принимает нежелательный оборот, Груберт принимает ее предложение, рассудив, что в его новом статусе есть свои преимущества: теперь он может легально проводить неограниченное время с девочкой, не вызывая подозрений. Но есть и недостатки: он обязан исполнять супружеский долг, а делать этого он не хочет…
– Вот дурак, – сказал Никишин.
Яков Михайлович оглядел аудиторию: по лицам студентов было ясно, что так думает не один Никишин.
– Давай, – приказал он, – покажи карман. – Все это происходило на глазах у тысячи людей, на ярко освещенной неоновым светом площади, и поэтому казалось игрой.
– Карман, говоришь, а может, тебе задницу показать? – спросил Ислам.
– А ты что, пидорас?
– Отец твой педераст, – ответил Ислам.
Кто-то, подпрыгнув, ударил сзади, попав ладонью точно в глаз. Словно лампочка взорвалась перед лицом Ислама. Он нагнулся, стоял так, закрыв пораженный глаз рукой, а уцелевшим наблюдая, как улепетывает Алик. Оттого, что он не двигался, медлили и хулиганы, готовые в любой момент обрушить на него свои доски. Тогда он всей массой бросился на стоявшего сбоку пацана – сбив его с ног, выскочил из кольца и рванул вдоль тротуара, вслед поднимавшемуся вверх облепленному людьми троллейбусу. В котором, на счастье, оказался Тофик Ахвердиев, армянин из их группы – он высунулся из троллейбуса и подал Исламу руку, а когда на подножку вскочил один из преследователей, уже взрослый парень, пинком ноги сбросил его на землю и могучим усилием закрыл пневматические двери.
После того случая они разговаривали лишь по необходимости.
На построении выступил, как обычно, директор училища Ибад Ибадович, маленький упитанный человек, и, как обычно, долго говорил о плохой посещаемости занятий – при этом он несколько раз посмотрел в сторону Добродеева, отчего тот стал переминаться на месте. Построение закончилось, и Добродеев, выговаривая упреки старосте, повел группу в учебный корпус.
– Имей в виду, Васька, – сказал он старосте на прощание, – занятия сегодня до половины третьего, приду – проверю, хоть одного человека недосчитаюсь – ответишь по всей строгости военного времени, ты меня понял? – И оскалился: – В расход пущу.
– Я-то понял, – сказал Васька, остролицый, беловолосый, прыщавый юноша, – только районские обедать уйдут и прогуляют пару, а мне отвечать за них. У них уроки с обедом совпадают.
Добродеев укоризненно посмотрел на Ислама с Аликом, – ребятки, меньше есть надо, что же вы за сорок пять минут не управляетесь?
– Едим-то мы как раз мало, там есть нечего – ответил Ислам, – мы в очереди много стоим.
– А я вам говорил уже, что надо подойти к дежурному мастеру и сказать, что Добродеев велел пропустить без очереди.
– Мы говорили.
– Ну, так в чем дело?
– Неудобно говорить, что они просили вам передать.
– К-хм, ну ладно, – Добродеев нимало не смутился, – я разберусь, давай, марш на занятия.
Первой парой был русский язык, вела его Дора Сергеевна, красивая маленькая армянка с тонкой талией и потрясающей величины задом, из-за которого ее все время просили писать все, что она говорила, на доске. Верхом блаженства было, когда она роняла мел и нагибалась за ним, – тогда лица всех учеников принимали одинаково шкодливое выражение. После нее приходила Нелли Тиграновна – учительница литературы, высокая, статная армянка с оспинами на лице – та самая, по чьей рекомендации Ислама приняли в библиотеку.
Третьей парой был урок физики, который вел Васген Акопович, коренастый армянин, который в прошлом году ездил с ними в Барду на уборку хлопка и рассказывал им все время о том, что жизнь человека состоит из удовольствий. Кто-то положил ему в карман пиджака живого пойманного рака – физик, истерично смеясь и отчаянно труся, ходил и просил всех извлечь этого рака. Именно его занятия приходились на обеденное время, после которого учащиеся часто уже не возвращались в класс, но сегодня вернуться нужно было обязательно. Добродеев мог выполнить свою угрозу и, вопреки обыкновению, вместо того чтобы пить пиво, прийти к окончанию занятий.
К тому же последней парой была история – второй после литературы предмет, к которому благоволил Ислам, никогда не готовившийся к занятиям. В силу некоторой начитанности, он чувствовал себя на этих занятиях не совсем идиотом. Историю преподавал Яков Михайлович, маленький, щуплый еврей с пышными квадратными усами, закрывавшими верхнюю губу. Он был интересен тем, что крайне редко доводил свою историческую мысль до конца. Ничего не стоило, задав вопрос, увести его в сторону от школьной программы. Причем он увлекался настолько, что спохватывался лишь при звуках звонка, оповещавшего об окончании урока.
Говорить он мог о чем угодно: о пираньях Южной Америки, о тайнах Хазарского каганата или о растлении Лолиты – последнее живо заинтересовало аудиторию на предыдущем уроке, но рассказать он ничего не успел. Поэтому сегодня, едва преподаватель сел за стол и открыл журнал, руку поднял Никишин, плейбой местного значения, высокий, ладный парень с налетом ржавчины на зубах, красавчик, щеголь и потенциальный прелюбодей.
– Отвечать хочешь? – удивился Яков Михайлович.
– Нет, нет, что вы, – поспешно сказал Никишин.
Все засмеялись. Преподаватель выжидающе смотрел на Никишина.
– Вы в прошлый раз стали говорить про растление девочки, ЛОЛИТЫ, а урок кончился, вы не успели. А где можно достать эту книгу?
– Нигде, она запрещена к продаже, причем не только в Союзе, но и в Америке.
По аудитории прокатился гул одобрения – по лицам студентов было видно, что они готовы променять несколько лет жизни на возможность прочитать эту книгу. Больше всех был расстроен Никишин.
– Яков Михайлович, – трагическим голосом сказал он, – хоть что-нибудь расскажите.
– Хорошо, – согласился преподаватель, – буквально несколько слов, иначе мы опять не освоим тему. Этот роман принадлежит перу некоего Набокова, белогвардейского офицера, карточного шулера. Однако, товарищи, я не могу говорить о романе, которого не читал.
– Но вы уже начали говорить, – не унимался Никишин, – Яков Михайлович, ну пожалуйста.
Просьбу Никишина поддержали все, и в классе некоторое время стоял гул, в котором можно было различить слова: «Пожалуйста, расскажите».
– Ну хорошо, хорошо, – сдался Яков Михайлович, – только имейте в виду, я говорю с чужих слов. Тише, пожалуйста.
В аудитории наступила тишина, и стало слышно, как ветер бьется в окна, видимо, тоже желая послушать, как растлевают девочек. Историк оглядел присутствующих и, едва удерживаясь от улыбки, приступил к рассказу.
– Итак, дорогие мои любители клубнички, некий пятидесятилетний джентльмен по имени Гумберт, холостяк и филолог, путешествуя по Америке…
– Почти как вы, – перебил его Никишин.
– Что – как я? – удивился Яков Михайлович.
– Ну, холостяк и джентльмен, и че там дальше.
– Дальше, Никишин, у нас ничего общего с ним, потому что я историк и мне тридцать пять, и в Америке я не был.
– Ну, все равно похоже.
– Будешь перебивать – перейдем к истории.
Сидящий сзади Никишина атлет Ахвердиев перегнулся через парту и треснул его по спине. Никишин выгнулся и сказал: «Молчу».
– …Остановился в одном провинциальном городке и снял комнату в доме молодой женщины, вдовы, у которой была тринадцатилетняя дочь по имени Лолита – малолетняя бестия, во взгляде которой было нечто демоническое, не поддающееся однозначному определению: кокетство, соблазн, греховность и т. д. Глазами девочки на него смотрела женщина. Точнее, он снял комнату, увидев эту девочку во дворе. Девчонка допускала вольности, сводившие филолога с ума, – ерзала у него на коленях, к примеру. Сам Гумбольдт в сексуальном плане был не совсем нормален – его интересовали только такие ранние несовершеннолетние девочки, нимфетки, как он сам окрестил их, так как в подростковом возрасте его близости с девочкой помешали, и это сказалось на его психике.
Интересно, что Набоков, рассказывая об этом, подтверждает теорию Фрейда, хотя сам всегда высмеивал его, называя его теорию фреидовщинои. Причем между мамой и дочкой возникает тайное соперничество за благосклонность квартиранта, ревность. В самый разгар этого полуприкрытого флирта, взглядов, игр, телесных соприкосновений мать девочки вдруг признается в любви своему жильцу и предлагает ему сердце и руку. Это не входит в его планы, и он очень тактично, насколько это было в его силах, с возможными реверансами отклоняет ее предложение. Поскольку его интересует не мама, а дочка.
– Какой благородный человек, – подал с задней парты голос Кильдяков, двадцатилетний переросток из хорошей семьи, непонятно каким образом оказавшийся в ПТУ. – Вот Никишин бы, например, съел бы и маму, и дочку.
Польщенный Никишин довольно заулыбался, зарделся.
«В таком случае, – говорит Гульберту оскорбленная в лучших чувствах мамаша, – вы должны съехать с квартиры, я не смогу вас видеть, потому что мое сердце разбито».
– Вот змея, – возмутился Никишин, – пользуется своей властью.
– Видя, что дело принимает нежелательный оборот, Груберт принимает ее предложение, рассудив, что в его новом статусе есть свои преимущества: теперь он может легально проводить неограниченное время с девочкой, не вызывая подозрений. Но есть и недостатки: он обязан исполнять супружеский долг, а делать этого он не хочет…
– Вот дурак, – сказал Никишин.
Яков Михайлович оглядел аудиторию: по лицам студентов было ясно, что так думает не один Никишин.