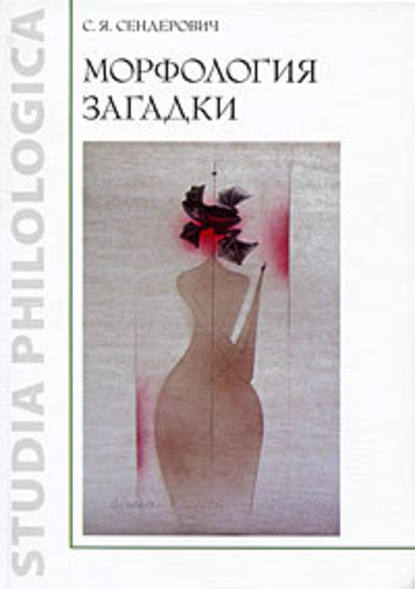По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Морфология загадки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С6. Мужик идет по лесу, / Зеркало за поясом.
В этих загадках наблюдается разная степень затрудненности сочетания двух признаков, но только С6 более или менее приближается к определению Аристотеля, а остальные ничего невозможного, постулированного философом в качестве неотъемлемого компонента загадки, не включают. Между тем все эти загадки взяты из активной традиции, записаны в одних и тех же условиях и обнаруживают между собой семейное сходство.
Как тут быть? Научный подход требует определения предмета. Но как получить определение загадки, которое бы соответствовало ее реальности во всей ее разнообразной полноте? Эта проблема давала филологической школе плодотворные исследовательские импульсы, и результаты оказались значительными.
Но с наступлением второй половины ХХ века в гуманитарном знании произошла смена научной парадигмы, и изучение загадки стало осуществляться под знаком этнологии, антропологии и лингвистики, подчинивших свое мышление дисциплине универсальных структуралистических теорий, которые родились из гипертрофии структуральной лингвистики.[5 - Подчеркиваю: ценность структуральной лингвистики на этих страницах не ставится под сомнение – речь идет о ее гипертрофии, которая, по-видимому, отражает общую тенденцию культуры, всегда готовой приостановить понимание в пользу манипулятивных процедур, подтвердивших свою практическую успешность. Читатель увидит, что автор не чужд ни лингвистической поэтике, ни семиотике, дисциплинам, возникшим на основе структуральной лингвистики, но он не дает им власти над собой.] Даже в работах собственно лингвистов филологическая традиция прервалась. Отчасти это произошло оттого, что филологическая работа, казалось, успешно завершилась приемлемым решением поставленной ею себе сложной задачи классификации загадки. Эта практическая задача замаскировала внутреннюю жизнь филологической традиции и ее аналитические достижения для взгляда извне, из нового бравого теоретического мира. Изучение загадки началось сначала, как будто до того ничего и не было.[6 - Картина поразительного отсутствия связи с предшествующей традицией открывается в таких представительных структуралистических собраниях исследований загадки, как Journal of American Folklore, v. 89, no. 352 (1976), Паремиологический сборник 1978, Паремиологические исследования 1984, Исследования 1994 и 1999.] Если уж Язык и Искусство, Культура и Общество сдались на милость Общей Теории, то куда уж было деваться маленькой загадке? Разновидности Теории стали проецироваться на загадку в стремлении доказать свою приложимость и в этой области, колонизировать и этот предмет. На этом пути понимание загадки скорее деградировало, чем продвинулось хоть на шаг. Хуже всего то, что загадка по теряла свою загадочность. К ней стали подходить с какой-либо очевидной стороны, которую можно подвергнуть теоретической обработке.
Подводя итог взрыву структуралистских подходов к загадке в 60-е – 70-е годы ХХ века и рассмотрев множество новейших ее экспликаций, Дэвид Эванс (David Evans), не ставя себе целью выход за рамки структурализма, все же должен был прийти к выводу, что они «не сообщают нам ничего нового о загадке» (Эванс 1976: 169). Еще один лингвист, исследователь персидской и арабской загадки Чарльз Т. Скотт (Charles T. Scott), высказал такое мнение: адекватное определение загадки никогда не было сформулировано, и все, что мы имеем, это та или иная «основанная на эмпирических фактах и интуитивно выведенная» характеристика, имеющая силу только в определенном ограниченном контексте (Скотт 1969: 131). Признание этого состояния и резон для примирения с ним предложила Эли Конгас-Маранда (Eli K?ng?s Maranda), которая в 1970ые годы была чемпионом в изучении загадки. Она адресовала сотоварищам упрек в настойчивом и бесплодном стремлении дать невозможное определение загадки (Маранда 1971: 191). Во вводной статье к собранному ею выпуску «Journal of American Folklore», целиком посвященному структуральным исследованиям народной загадки, она сочла достаточной для исследовательской работы молчаливую ссылку на «общее согласие в отношении того, что понимается под данным жанровым термином» (Маранда 1976: 132). По ее мнению, представление об особенной и компактной форме, даже без недостижимого точного определения этих характеристик, дает исследователю лучшие эмпирические ориентиры, чем грубое определение загадки в качестве вопросно-ответной формы (там же: 129). С этим нельзя не согласиться. Но лишь до некоторой степени. Следует иметь в виду, что намерением Конгас-Маранды было отнюдь не традиционные собирание и классификация загадок, а достижение аналитического и обобщающего описания загадки с позиций универсальных теорий языка, культуры и общества, которые известны под общим именем структурализма. Если интуитивное представление о жанре естественно для тех, кто стоял на почве собирания, классификации и морфологического описания загадки, то для представителя теоретического подхода оно парадоксально: если уж исходить из общей теории, то ты целиком зависишь от своего понимания предмета, которое ты закладываешь в теоретическую машину для переработки. Сознание этого обстоятельства отсутствует в гиперструктуралистических школах. В основу исследования загадки по выбору исследователя кладется та или иная очевидность: вопросно-ответная форма, неполнота описания, частичное соответствие описания разгадке, амбивалентность отношения загадки и разгадки, – которая подвергается аналитической экспликации в соответствии с той или иной структуральной теорией, лингвистической или антропологической. Результатом являются только теоретические фикции, которые к предмету могут быть приложены, но в суть его не проникают.
Как же совместить проницательное представление Аристотеля о загадке с эмпирическим фактом несогласованности с ним большой массы зарегистрированного материала? И можно ли вообще выработать отчетливое представление о хаотическом мире народной загадки? Когда филологическая парадигма сменилась структуралистической, эти вопросы получили новый, обостренный отклик. Филологи не заостряли противоречия, ценя импульсы, поступающие с обеих его сторон. Но теоретически последовательная гиперструктуралистическая позиция должна была раньше или позже увидеть вызов. Ответить на него взялись Роберт Жорж и Алан Дандес (Robert A. Georges A. and Alan Dundes). В совместной статье они сделали героическую попытку вывести всеохватывающее структурное определение загадки на все случаи ее странной протеической жизни.[7 - Статья Жоржа и Дандеса – не рядовая среди многочисленных структуралистических работ о загадке, она получила большой отклик и до сих пор является авторитетной, на ее выводы принято полагаться.] Новейшее лингвистическое мышление подсказало этим авторам логический вывод, что ключом к жанру должен быть общий знаменатель для всех текстов всей области народной загадки. В духе господствовавшей в ту пору крайней формы структурализма, которая опиралась на логический редукционизм, они выбрали наиболее прямой путь к цели. Их опорная идея – рассмотреть все поле загадки как собрание вариантов некоторых инвариантов, причем инварианты должны быть извлечены на уровне минимальных форм загадки.
Чтобы дать структурное определение загадки, необходимо прежде всего выделить минимальную единицу анализа, Мы предлагаем здесь назвать такую минимальную единицу описательным элементом, в чем следуем за Петшем и Тэйлором. Описательный элемент состоит из темы (topic) и комментария. Тема – это очевидный референт, то есть объект или предмет предполагаемый описанием. Комментарий – это утверждение о теме, обычно касающийся формы, функции и действия темы. (Жорж и Дандес 1963: 113)
Введя далее представление об оппозиции между описательными элементами и заметив, что эта оппозиция может либо иметь место, либо отсутствовать, Жорж и Дандес различают две категории загадки: оппозиционную и неоппозиционную, причем неоппозиционная, собственно минимальная, в свою очередь может быть буквальной или метафорической. В результате они приходят к следующему определению:
Народная загадка – это традиционное словесно е выражение, содержащее один или более описательный элемент, пара которых может находиться в оппозиции: референт элементов должен быть разгадан. (Там же: 113, повтор 116)
Прежде всего необходима поправка: Петш и Тэйлор, упомянутые Жоржем и Дандесом, никогда не придерживались редукционистстических взглядов (это станет ясно, когда мы перейдем к их взглядам). И все же Жорж и Дандес, действительно, дали определение, под которое подходит любая загадка из обширного собрания Арчера Тэйлора, или любого другого. Казалось бы, крупное достижение. Вот только определение это говорит о загадке столько же, сколько общий знаменатель, найденный при сравнении Рембрандта и Джэксона Поллока, может что-либо сказать об искусстве живописи; правда, он может сказать нечто о Поллоке но не о Рембрандте, Учелло или Рублеве. Жорж и Дандес по сути действовали как последовательные позитивисты: они пытались построить понимание сложного феномена на выделении его атомов и их комбинаторике. Это нередко бывает с подданными Теории, поскольку их идеал – физические науки.
Как заметил Ч. Т. Скотт, данное Жоржем и Дандесом определение структурной единицы загадки в качестве темы-и-комментария применимо и к пословице; то, что специфично для загадки, – загадочность – оказывается вне их определения, которое, таким образом, цели не достигает (Скотт 1965: 19). И действительно, логический формализм – средство не достаточное для определения загадки; элементарный уровень рассмотрения текста не касается специфичности полного высказывания. Специфика загадки – в постройке ее целого, так сказать, на уровне организма, а не в элементарных единицах, которые общи разнотипным текстам. Нахождение уровня, на котором исследуемый феномен функционирует своим специфическим и уникальным образом, представляет собой фундаментальную задачу всякого анализа культурных феноменов, если он намерен быть имманентным, а не демонстрацией лояльности победившей теории.[8 - Лучшие известные мне размышления о выборе адекватного уровня анализа сложных функциональных систем находятся в книге Л. С. Выготского «Мышление и речь» (Выготский [1934]). Они должны войти в золотой фонд научной герменевтики.]
Не забудем о том обстоятельстве, что работа Жоржа и Дандеса интересна тем, что на путь редукционизма их толкнула не только их слепая приверженность гиперструктуралистическому универсализму. Это был отклик на реальную проблему: в любом достаточно большом собрании загадок можно найти, во-первых, наряду со сложными загадками чрезвычайно элементарные тексты, во-вторых, описания неметафорического характера, то есть такие, которые под определение Аристотеля не попадают и, следовательно, аристотелев а загадка выглядит частным случаем; следовательно, настоящее определение загадки должно быть шире, то есть… мельче. И тут мы оказываемся на уровне, где специфичность загадки уже не просматривается. Это реальный парадокс, он указывает на подлинную проблему.
И все-таки именно Аристотель схватил нечто особенное в природе загадки, а Жорж и Дандес его потеряли, стремясь объять все и все почтить равно. Аристотель смотрит на загадку аристократически-избирательно, а Жорж и Дандес, создают демократическую республику загадки, в которой каждый индивид имеет равные права, но при этом гражданские права ее членов урезаны до элементарных плебейских функций.
Упомянутая критика Жоржа и Дандеса была сделана Скоттом на пути к его собственному структуральному определению загадки. Он стремится избежать формального редукционизма и с этой целью выбирает лингвистическую теорию, в которой внимание уделяется семантике и целостному плану. Выбирает он свежую в то время общую лингвистическую теорию Кеннета Пайка (Kenneth Pike). Обращаясь к семантическому, или семиологическому, аспекту загадки, Скотт удачно выбирает фокус: его внимание сосредоточено на действительно симптоматической черте загадки – на неполном смысловом соответствии между описанием/вопросом и разгадкой/ответом. Он называет эту черту загадки «частично затемненным семантическим соответствием» («partially obscured semantic fit») (Скотт 1965: 74). Эта особенность хороша тем, что позволяет – по некотором размышлении – обнаружить перекличку с мыслью Аристотеля, указавшего на некоторую инконгруэнтность в основе загадки. Но эту возможность Скотт упустил. Он прямо приступил к анализу отмеченной им особенности. Общая теория и на этот раз сослужила плохую службу. Скотт с порога прибег к популярной в целом ряде гиперструктуралистских концепций языка идее инварианта-с-вариантами. Пайк описывает поле языковых смыслов по аналогии с фонологической концепцией: посредством представления о семантических (смысловых) различительных чертах, или семах, которые получают представительство в различных вариациях, или аллосемах. Соответственно, Скотт определяет описательную часть загадки как пучок аллосем, варьирующих некоторую семантическую черту, представленную в ответе. У Пайка он находит компактную логику для описания неполного соответствия между так определенными ответом и вопросом: оно хорошо описывается в виде пучка логических вариантов некоторого инварианта. Формально-логически это верно, но объяснения загадки, увы, не дает: мы получаем лишь пустой формализм, проекцию теории на наш предмет, которая демонстрирует теорию, но ничего не говорит о предмете по существу. Ведь загадка открыто бросает вызов логике. Пренебречь ее странностями – значит проглядеть ее.
В действительной жизни языка текучая стихия смысла не поддается формальной логике, если она ей не подчинена намерением говорящего. Предполагать формально-логическое намерение носителей фольклорного сознания и подчинять фольклорные тексты редуктивной логической модели неуместно. Концепция Пайка представляет смысловые отношения по типу черного ящика, то есть так, что имеется нечто на входе и есть нечто на выходе, а затем между первым и вторым прокладываются наиболее экономичные абстрактные, формально-логические связи, которые и принимаются за реальный механизм действия. Но реальному высказыванию совсем не обязательно подчиняться формальной логике и экономичным отношениям. Реальное высказывание может идти самыми неэкономичными путями.[9 - Можно попутно отметить, что в художественных текстах смысл непременно отклоняется от логической предсказуемости.] Пайк имеет дело с теоретическими фикциями, полезными в специальных и узких практических целях, но реальность языка никак не объясняющими. Для того, чтобы понять реальность высказывания, нужен имманентный его анализ, формальной логикой заранее не связанный. В результате Скотт ушел не далеко от Жоржа и Дандеса. Хорошее начинание его провалилось в виду того, что он разделяет ту систему предрассудков, которую можно назвать гиперредукционизмом, введенным в лингвистику Ноумом Чомским (Noam Chomsky): реальные пути языка мыслятся по типу логической машины. Чомскианский редукционизм, как и варианты концепции Пайка, пригодились для конструирования искусственного разума (artificial intelligence) в языковых одеждах (отсюда все их медали), но для понимания реальной жизни языка они непригодны.[10 - К. Пайка принято противопоставлять Н. Чомскому, но их объединяет логический редукционизм.]
Итак, Аристотель схватывает загадку в качестве проблематичного и внутренне сложного феномена, но его сеть имеет настолько крупную ячейку, что большая, даже большая часть текстов загадки, зарегистрированных в собраниях фольклористов и этнологов, не дотягивает до его определения и проваливается сквозь его сеть. Вместе с тем, попытка Жоржа и Дандеса поправить ситуацию путем ориентации на простейшие формы народной загадки и определения общего знаменателя для всех ее форм достигает охвата всего без исключения, найденного в сборниках загадок, ценой потери специфики жанра. Начало теоретической мысли о загадке и современное состоянии этой мысли не стыкуются. Это похоже на тупик, но как раз сформулировав его, мы оказываемся перед лицом кардинального познавательного парадокса загадки, который послужит путеводной звездой для дальнейшего анализа.
Проницательное определение, данное Аристотелем, следует считать теоретическим, но не в популярном сегодня смысле, подразумевающем некую заданную в аксиоматическом виде концепцию и соответствующую ей программу анализа, а в подлинном и первоначальном смысле: в смысле умного (интеллектуального) созерцания бытия предмета и схватывания его сущности. Вместе с тем подведение данных некоторой сложной специфической области под некоторую готовую общую теорию, чем занимаются гиперструктуралисты, вообще нельзя считать теоретическим актом – это акт механический. Он имеет утилитарную ценность: с его помощью можно строить машины (в рамках проекта «artificial intelligence, искусственный интеллект»); он относится к области технологии, не познания.
В мире загадки мы будем постоянно иметь дело с парадоксами, которые являются самыми надежными вехами в исследовании культурных феноменов как потому, что культура вообще представляет собой область схождения того, что не изоморфно – мира и разума, так и потому, что парадоксы символически отмечают для нас критические пороги нашего понимания.
4. Отступление о характере гуманитарного знания, или Кое-что о герменевтике не в классическом ключе
В виду нынешнего обширного кризиса гуманитарного знания нам необходимо хотя бы вкратце остановиться на особенностях этого знания, забытых под впечатлением колоссальных успехов физико-математических наук, которые стали считаться идеалом для всякого знания. Гуманитарное знание, или знание о предметах культуры (англ. humanities, нем. Geisteswissenschaften), имеет иной характер, чем знание физико-математическое; мы знаем предметы культуры иначе, чем мы знаем природу и математические отношения. Проблемы гуманитарного знания разрабатывались в XIX веке в рамках герменевтики, науки о понимании и интерпретации текстов. В конце ХIХ – начале ХХ века Вильгельм Дильтей (Wilhelm Dilthey) развил герменевтику как знание об особенной методологии гуманитарных наук на основе рефлексии по их поводу. Но вскоре эта философская дисциплина измельчала. Структуральная лингвистика, которая при своем рождении была тесно связана с герменевтикой и ее близнецом, феноменологической философией, попала под влияние триумфального универсализма физико-математического знания – так открылась дорога гипертрофии лингвистического структурализма. Связь лингвистики с герменевтикой и вообще с какой-либо рефлексивной дисциплиной прервалась.[11 - Положение осложнено тем, что феноменологическая философия, сопряженная с герменевтикой и давшая импульс фонологии, классической структурально-лингвистической дисциплине, с самого начала в трудах Эдмунда Гуссерля (Edmund Husserl) была ориентирована на проблематику логико-математического знания, а затем оказалась мистифицирована и переведена в область метафизики Мартином Хайдеггером (Martin Heidegger), так что перестала быть полезной лингвистике.] Сегодня необходимость вернуться к проблематике гуманитарного знания настоятельна. Загадка дает достойное поле для такого опыта. Этим она может быть интересна и людям, далеким от фольклористики.
Фундаментальная особенность физико-математических наук заключается в том, что любые феномены физического мира рассматриваются как подчиненные одной и той же системе неизменных и вечных общих законов (по крайней мере таков постулат физической науки); подозревать такую униформность в области феноменов истории и культуры нет оснований. Историческая и культурная сопринадлежность и родство некоторых феноменов могут служить вспомогательными средствами понимания их языка, но не предполагают их сущностного тождества. Феномены истории и культуры отличаются свойством, которое можно назвать индивидуальностью: в чем-то самом существенном каждый из них вырывается из неизбежных общих условий, которым он отдает непременную дань, и стремится к отличиям непредвидимого характера и, что еще важнее, не укладывающимся в широко раскинутые концептуальные сети. Этому нас учит и история, в которой, в противоположность физике, не действуют предсказания, и индивидуальные продукты творчества, какие мы находим в искусстве. Последние непредсказуемы не в том смысле, в каком нам даны случайные события физического мира (которые в любом случае вызываются физическими, то есть законосообразными, причинами и поэтому предсказуемы, если не индивидуально, то статистически), а потому что представляют собой результаты неповторимых творческих актов. Разделяя множество свойств со смежными ему, каждый исторический и культурный феномен (тут не скажешь «они», тут нужно единственное число) тем не менее постольку обладает ценностью, поскольку несет нечто неподражаемое. «Доктор Живаго» и «Лолита», формально относятся к одному и тому же жанру романа и близки по времени появления, даже разрабатывают сходные мотивы, а их авторы являются продуктами одной и той же культурной эпохи, но тем не менее могут быть осмыслены по существу своему только в том случае, если подходить к каждому из них с независимыми установками, сформированными в опыте общения с каждым из этих романов и мирами их авторов в отдельности, – эти романы говорят с читателем на разных поэтических языках и их смысл конституирован в различных, несоизмеримых модальностях.
Таким образом, самый характер теории в области культуры нельзя себе представлять по типу физической или логико-математической. Аналитическая экспликация культурных феноменов не может быть предусмотрена какой-либо готовой теорией или ориентирована на универсальный набор элементов, структур и параметров. Мысль, анализирующая культурные феномены, должна быть на каждом шагу готова к неожиданностям и необходимости перестройки не только выстроенной концепции, но и исходных посылок. Как известно, и физическая мысль время от времени оказывается в критическом положении, когда накопленные эмпирические данные начинают на окраинах мира физического знания приходить в несоответствие с принятой теорией; тогда оказывается необходимым вносить поправки даже в исходные постулаты науки; и тогда меняется общая парадигма научного мышления. Теория и эмпирия время от времени расходятся. Но в физике это происходит редко, смена научной парадигмы начинает новую большую эпоху. В культурной же области кризис – непрерывное состояние; таково должно быть и условие здравой аналитической мысли на каждом ее шагу. Постоянный кризис требует недремлющего критического отношения к концептуальным средствам. Аналитическая мысль, занятая феноменами культуры, всегда находится на пороге неожиданного – не в смысле регистрации неизвестного факта, а в более фундаментальном смысле – в плане достаточности принципов анализа. Каждый предстоящий феномен может потребовать новых, непредусмотренных ходов мысли. В этой непредусмотренности вся прелесть гуманитарного исследования. И наоборот, каждое подведение исследуемого феномена под готовую концепцию без оглядки – сомнительно. И банально.
В этот момент мы подошли к довольно радикальному взгляду. Парадоксальным образом, контр-интуитивным для сознания, ориентированного на физику, каждый феномен культурной области требует особой теории. Возможно ли такое – теория единичного феномена? Возможно, если представить себе теорию данного феномена вписанной в открытый и скользящий концептуальный спектр, не подчиненный, в отличие от радуги, однажды зафиксированной парадигме. Между теориями близких культурных феноменов допустимы отношения смежности, ограниченного семейного родства, но не подчиненность единой системе измерений. При переходе от предмета к предмету может потребоваться переход к частично близкой, но все же другой концептуальной системе и другой модальности мышления.
Для теории некоторого культурного феномена можно сформулировать логическое правило: чем шире сфера приложения некоторой теории, тем ее результаты тривиальнее. Глубокая теория некоторого культурного предмета может строиться лишь по месту, с учетом готовых смежных теорий, но не с перенесением их и подчинением им. Любое понятие и представление, найденное готовым, при этом должно быть объектом пересмотра. Не место в готовой теории, а усмотрение проблемы схватывает предмет гуманитарного знания.
5. О зиянии. Подступ к логике загадки
Вернемся к загадке и сделаем первые аналитические шаги.
Аристотель рассмотрел особенность загадки как тропа: она построена на внутреннем, неприметном с поверхности логическом несоответствии. Взгляд Аристотеля касается одной части загадки – описательной. Но усвоив его, мы оказываемся в состоянии увидеть, что логическая нестыковка характеризует и полную структуру загадки – соотношение описания и разгадки. Неоднозначность логического перехода от описания к разгадке замечалась исследователями начиная с XVIII в.[12 - Христоф Майнерс (Christoph Meiners), комментируя интеллектуальные загадки (??????), которыми развлекались мудрецы и поэты в «Пирах мудрых» Афинея, отмечает, что эти загадки… – и тут, в отрицательном модусе, он дает определение загадки, которая похожа на народную, – не были: «ни неопределенными вопросами, которые самым разнообразным способом представляются верными, но лишь некоторым определенным образом могут быть разгаданы, ни описаниями, которые на первый взгляд никаким действительным предметам не соответствуют, а при ближайшем рассмотрении приложимы ко множеству предметов и все же в остатке содержат нечто неопределенное, пока не наткнешься на предмет, что подразумевался и чьи признаки приведены в некотором запутанном виде» (Майнерс 1781: I, 55). Спустя столетие Конрад Олерт (Konrad Ohlert) похожим образом, но более точно описал древний тип загадки: «В древнейшие времена нам попадаются в загадках почти только простые вопросы, на которые казалось бы можно ответить различным образом, но на самом деле нужно одним определенным образом. Во многих этих загадках признаки или свойства предметов представлены не так, чтобы путем их соединения и дополнения недостающими можно было бы найти искомое слово или предмет, но задача обозначена зачастую лишь неопределенными чертами и лишь иногда дан намек в единственном верном направлении, так что разгадка может быть найдена лишь в качестве счастливой находки, но никак не в результате целенаправленного размышления» (Олерт 1886: 111). Неполное соответствие загадочного описания разгадке разрабатывалось аналитически, как уже было отмечено, Ч. Т. Скоттом (Скотт 1965) и позднее, например: Э. Конгас-Марандой (Маранда 1971, 1971b), Ю. И. Левиным (Левин 1972, 1978) и Т. В. Цивьян (Цивьян 1994).] Отмечено было, что одна и та же загадка, точнее – одно и то же описание, может в соседних географических пунктах получать неодинаковые ответы, отсылать к различным предметам. М. А. Рыбникова приводит пример загадки с разными ответами: Кто над нами вверх ногами? – Муха, Паук, Таракан, – отвечают в разных местах. По ее же свидетельству, и в одном месте одна и та же загадка получала различные разгадки (Рыбникова 1932: 46; в дальнейшем: Р). Пример из англоязычного собрания Арчера Тэйлора: Что каждое утро идет на мельницу и не оставляет следов? (What goes to the mill every morning and don’t make no tracks?); в разных местах зарегистрированы следующие ответы: дорога (Т181), дым (Т183), ветер (Т184), блоха (Т185).
Неполное соответствие описания и его разгадки и разные ответы на один и тот же вопрос – это две стороны одной медали. Они по-разному отмечают то напряжение, которое имеет место между двумя составными частями загадки. Даже в случаях, когда различные ответы на вопрос не зарегистрированы, неполное соответствие описания и предмета остается в силе и разнообразие ответов потенциально всегда возможно. К этому можно добавить отмеченную мною ранее (с. 18) удаленность образа, предлагаемого народной загадкой в описании, от понятия, под которое подходит разгадка.
Определив загадку, предлагаемое ею описание как соединение существующего с невозможным, Аристотель по сути показал, что если загадка и выглядит метафорой, представляет себя таковой, то под более углубленным взглядом обнаруживается аномальность этой метафоры. Более того, идея соединения несоединимого по сути взрывает метафору, делает в ней брешь, сквозь которую в область порядка, обозначаемого логически ясным понятием метафоры, врывается хохот той инстанции, которая в обликах гротеска была известна уже скульпторам первых в истории примитивных фигурок с преувеличенными, карикатурными формами и которую греки признавали и старались сдержать на периферии своей ойкумены. Этой защитной установке следовал и Аристотель, подведя загадку под знакомое понятие метафоры, но исключительная острота его зрения как бы вскользь и ненамеренно отметила в загадке вызов рациональности.
В свете сказанного на первый план выдвигается проблема напряженных отношений загадки с логикой. Это не значит, что загадка и логика несовместимы, – все, что имеет смысл, имеет логику, даже алогическое определяется через логику, потому мы его знаем как алогическое. Примем это обстоятельство как побуждение к тому, чтобы начать строить логику загадки по ее собственным меркам, не подгоняя ее под всеобщую формальную норму.
Особенность логики загадки, обнаруженная Стагиритом, заключается в том, что она неочевидна. Философ увидел загадку, с одной стороны, как соединение несоединимого – действительно существующего с совершенно невозможным, с другой, как хорошо сконструированную метафору. Иначе говоря, он ухватил странность загадки – логический слом в ее сердцевине, но не отказался подвести ее под знакомое определение. Его скупые замечания оставляют место комментарию. Метафорой загадка выглядит с поверхности, а усмотрение логической несовместимости компонентов загадочного описания выделяет ее неочевидную структурную характеристику как фигуры речи, ее особенную внутреннюю форму. Тут перед нами два уровня наблюдения: первый – как бы очевидный и общий и второй – скрытый и отличительный. Как мы вскоре увидим, новоевропейская фольклористика приняла усмотрение Аристотеля как указатель дальнейшего пути. Фольклористы пришли к ценным результатам, забытым сегодня. Чтобы на твердом основании оценить их работу, подведем итоги нашим предварительным наблюдениям над особенностями загадки, что даст нам возможность положить независимое начало логике загадки.
Первым делом нам нужно найти термин, который бы мог выступать в роли любого из ряда понятий, которыми и другие исследователи, и мы до сих пор пользовались, описывая логическую особенность загадки: амбивалентность, неполное соответствие, логическая нестыковка, инконгруэнтность, сдвиг, напряжение. При этом желательно понятие, способное охватить все понятия указанного ряда и находящееся от них на некотором отдалении, поскольку каждое из них характеризует тот или иной конкретный аспект загадки и уже предполагает некоторую интерпретацию. Дело в том, что неясным остается, насколько каждая такая интерпретация является достаточной; поэтому предпочтительно понятие сдержанное, оставляющее пространство для вопросов. Предпочтительно также понятие само по себе свежее, неангажированное, не обремененное грузом обязанностей по отношению к какой-либо теории, оставляющее свободу непредубежденному поиску.
Пригласим на эту роль понятие зияния (hiatus). Будем понимать его как термин ненавязчивый, не интерпретирующий, не дающий ответа, который нужно лишь теоретически обработать (достаточно его сравнить с понятием амбивалентности, которое сразу же подсказывает возможность вписать загадку в готовый теоретический контекст структуральной антропологии), а, скорее, задающий вопрос. Понятие зияния хорошо тем, что указывает на некоторое серединное место в проекциях нашего предмета, причем место неизведанное. Мы воспользуемся им для начала не столько как именем общим, сколько как именем собственным, которое взывает к лицу, но получит конкретный смысл только тогда, когда произойдет личное знакомство, и лишь постепенно будем его наполнять конкретным смыслом. В этой роли понятие зияния требовательно, поскольку указывает на непонятое, стоящее за спиной как будто понятного. Аристотель обратил внимание на то, что метафора загадки – не метафора в обычном смысле; сквозь призму понятия зияния загадочный вопрос и ответ-разгадка – больше не вопрос и ответ в прямом смысле. Мираж очевидностей начинает рассеиваться и открывается окно для свежего взгляда на неведомый еще смысловой строй загадки, на ее назначение и характер ее разгадывания.
Преодоление очевидностей начнем с отказа от определения загадки в качестве вопросно-ответной формы, которое дает не больше, чем определение человека как соединения кислорода, углерода и водорода. Начнем с более осторожной, открытой и проблематизирующей характеристики загадки как двучленной, или биномиальной, формы высказывания, отношения между двумя частями которой сложны, неоднозначны и не очевидны по своей сути; они предполагают некоторое соответствие, осложненное менее очевидным, но более глубоко идущим логическим разрывом – если между вопросом и ответом пролегает зияние, то они уже не просто вопрос и ответ, во всяком случае не логический ответ на логически поставленный вопрос.
Теперь нам следует остановиться и задуматься над тем обстоятельством, что загадка обнаруживает двойное осложнение. Если в ее описании своего предмета нет соответствия между составляющими, и это описание принимает ответ, который не имеет точного ему соответствия, то такое осложнение избыточно по отношению к простой задаче возвести затруднение на пути разгадывания. Приняв это осложнение как отличительное и принципиальное свойство народной загадки, мы больше не можем быть уверены, что знаем, что такое загадка, и должны заново поставить вопрос о функциях ее структуры и о том, что она представляет собой как особый типа высказывания.
Понятие зияния вводит нас в логику народной загадки и отделяет ее от любого другого жанра энигматики. С его помощью мы впервые обращаем внимание на загадочную сердцевину нашего жанра, уклончивого в отношении к схематизирующей мысли, ускользающего от прямого логического определения. Эти уклонение и ускользание искусно играют с рациональностью и, следовательно, не имеют ничего общего с такими отрицательными качествами, как аморфность или иррациональность. Дважды необходимое зияние – преднамеренный, смыслообразующий и артикулирующий внутреннюю форму принцип, благодаря которому логика предстает как алогичность, или алогичность как логика.
Мы все же будем понимать зияние не как объясняющее понятие, но и не как формальный признак, а как симптом того, что в данном месте укрыта проблема функциональной установки, то есть готовности и направленности сознания (или интенции, в переводе на язык феноменологии), которая соответствует феномену загадки и по отношению к которой только и может быть понята конструкция загадки.
Итак, мы установили, что загадка загадочна вдвойне и понимание ее не дается атаке в лоб. Она требует осторожного, ненавязанного и внимательного подхода к себе – подхода как к проблеме, а не очевидности. Мы можем теперь подвести первые аналитические итоги:
(a) Народная загадка из устной традиции выделяется среди форм энигматики тем, что предлагаемое ею метафорическое описание скрывает два логически разнородных компонента – действительно существующее в сочетании с совершенно невозможным (принцип Аристотеля), то есть в самом сердце ее содержится смысловое зияние. Таким образом, то, что представляется метафорой загадки, – не вполне метафора.
(b) Формально народная загадка представляет собой бином, состоящий из фигурального описания некоторого предмета и простой и краткой разгадки. Форма эта обманчива, так как описание – не вполне описание: оно столько же затемняет предмет, сколько описывает его. Вывести разгадку из описания как правило едва ли возможно, потому что отношение описания к его разгадке не один-к-одному; каждое описание по крайней мере потенциально допускает ряд разгадок. Так что и разгадка – не вполне разгадка. Между двумя членами биномиальной формы загадки пролегает смысловое зияние. Народная загадка существует на краю рациональности.
В этих тезисах представлены два аспекта зияния. Но по сути нам знаком и третий – несхождение между аристотелевым определением загадки и фактической картиной многообразия ее форм. Это не недоразумение, а одно из проявлений особого характера логики загадки. Тут требуется отдельное рассмотрение, и мы займемся им в следующих главах. Зияние в итоге проявится как кардинальный структурный концепт для понимания загадки.
6. О загадке как общественном достоянии и О силе рационалистических предрассудков
Систематическое изучение загадки началось в XIX веке. В этой молодой истории, как уже было сказано, можно выделить два периода: филологический, вторая половина XIX – первая половина XX века, и этнологический, или антропологический, – вторая половина XX.
Филологическая традиция опиралась на интуитивно определяемые стилистические наблюдения и шла по пути их анализа с точки зрения разгадки. Определение загадки Аристотеля было отличным отправным пунктом как потому что филологам свойственно начинать с классической античности, так и потому что определение загадки в качестве своего рода метафоры укладывалось в рамки учений о стиле, важных в ту пору. Филологическая традиция рассматривала загадку как текст, не принимая во внимание реальных условий ее загадывания и разгадывания. Универсально разделяемой догмой в этой традиции было представление, что загадка должна быть разгадана с помощью индивидуальной остроты ума. В этом ключе проходил анализ загадки.
С наступлением этнологического периода в истории изучения загадки совпало появление новых полевых данных, в виду которых, казалось бы, стал необходим отказ от представления о ее разгадывании усилиями индивидуальной остроты ума. Но новые сведения остались на периферии внимания. Дело в том, что этнологический период характеризуется своеобразной раздвоенностью. С одной стороны, этнологи, в отличие от прежних этнографов, вносят некоторые принципы наблюдения, обостряющие зрение, и в этой связи происходит значительное накопление важных полевых данных о загадке и ее реальном функционировании, с другой же, преобладает стратегия подведения текста загадки, понимаемого в том же ключе, что и прежде, под одну из господствующих гиперструктуральных теорий, лингвистических или идущих им вслед антропологических. Загадка тут не составляет исключения – таково положение дел в этнологии вообще: этнология – в противоположность эмпирической этнографии – выросла именно как наука, вооруженная теорией в результате слияния с антропологией, наукой во многом умозрительной. И для аналитического исследования загадки в этнологический период полевой опыт остался невостребованным.[13 - Показательно, что два тома Исследований 1994 и 1999 носят подзаголовок: «Загадка как текст».] Между тем в 60-е и 70-е годы сообщения этнографов о том, что загадка рассчитана отнюдь не на остроту индивидуального ума приходили со всех концов света.
Начнем издали. Джон Блэкинг (John Blacking), собиравший загадки венда (Venda) на юге Африки, полемически отстаивал «важность знания загадки как лингвистического целого, а не в виду способности разгадать ее посредством целенаправленной рационализации» (Блэкинг 1961: 3). Бронислав Малиновский рекомендовал этнологам видеть вещи глазами исследуемого общества. Так и поступает Блэкинг; он приводит слова местного жителя: «“Не тратьте свое время, – сказала старая женщина, стоявшая возле нас, – если вы не знаете загадки, вы ее не знаете. Что толку в попытках найти ответ?”» (там же: 5). Другой африканист, Д. Ф. Гаулет (D. F. Gowlet), передает свои наблюдения над практикой племени лози (Lozi): «…загадывание загадок не оставляет места угадыванию ответа» («… riddling has no place for guessing the answer»[14 - Английское слово riddling, терминологически используемое этнологами, означает одновременно загадывание и разгадывание загадки, может означать одно из этих действий, но чаще – оба сразу, загадывание-разгадывание. Этим последним сдвоенным понятием я и буду передавать riddling.]) (Гаулет 1966: 147). Иэн Хамнетт (Ian Hamnett) сообщил о загадках африканских лесото (Lesotho): «некоторые из них утратили свой смысл для ряда информантов при том, что ответы на них остаются заученными» (Хамнетт 1967: 385). Ли Хэйринг (Lee Haring) так подвел итог состоянию дел в изучении африканской практики загадывания/разгадывания:
Изучение африканского загадывания-разгадывания загадок выдвигает простой и далеко идущий вопрос. В самом ли деле от человека, которому задается загадка, ожидается угадывание ответа? Большинство людей, получивших западное образование, дают положительный ответ на этот вопрос, но я полагаю, это не так. Африканская практика загадывания-разгадывания загадки более похожа на упражнения по катехизису, чем на творческий поиск. Обычно в африканской загадке связь между вопросом и ответом зафиксирована традицией и всенародным ее принятием. (Хэйринг 1971: 197)
Ни одно из этих наблюдений не претендует на универсальность, все они сделаны для более или менее ограниченного ареала, что естественно для этнографов. Но подобные же свидетельства приходили из различных частей света. О знании ответа на загадку, в противоположность разгадыванию, сообщает Донн В. Харт (Donn V. Hart) с Филиппин (Харт 1964: 57); Эли Конгас-Маранда отметила подобную ситуацию в финской загадке (Маранда 1971: 192); Анникки Кайвола-Брегенхей (Annikki Kaivola-Bregenh?j), задумавшись над во просом, почему при двусмысленности описания только один ответ из ряда возможных принят правильным в финской традиции, нашла объяснение в том, что «контроль общины всегда регулирует порядок игры», и делает вывод: «…загадки не разгадываются, разгадки представляют собой общее достояние» (Кайвола-Брегенхей 1977: 66б 72).
Подобного рода свидетельства можно было бы умножить, но приведенных достаточно. В процессе нашего исследования мы будем вновь и вновь убеждаться в справедливости такого взгляда. Заметим, что новые наблюдения были сделаны на новом материале, а не на хорошо известном материале русской, немецкой или английской загадки, где они вполне были бы уместны; европейские фольклористы были детьми эпохи рационализма и не заметили того, что должно было бы бросаться в глаза. Нужно было выработать новую этнологическую установку, позволяющую смотреть на вещи глазами носителей наблюдаемой культуры, вести свои наблюдения независимо от рационалистических предрассудков и увидеть загадку такой, как она есть. Таков положительный вклад этнологии в дело изучения загадки.
У нас есть достаточные основания заключить, что понимание загадки как во проса, предназначенного для разгадывания посредством усилий индивидуального ума есть не более, чем проекция модерным рациональным умом своих собственных особенностей на традицию, берущую свое начало в иного рода культуре. Этому заблуждению способствовало то, что в новое время сама загадка испытала влияние рационалистической установки и наше время создало загадки в новом ключе, чуждом народной традиции. Модерная установка внедрилась в древнюю традицию и внесла в нее искажения, часто пользуясь старым материалом. Под этими наслоениями сохранились черты народной загадки, какой та была до ее перерождения, когда она функционировала не в индивидуальном умственном пространстве, а в общинном. В собраниях XIX века загадки с традиционными чертами много.