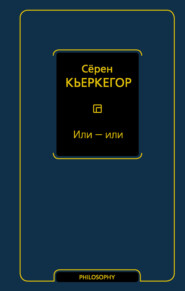По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дневник обольстителя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Моя Корделия!
Да разве я могу забыть тебя? Разве моя любовь к тебе – дело памяти?
Пусть время сотрет со своих скрижалей все, пусть уничтожит даже самую память – отношения мои к тебе не потеряют силы, ты не будешь забыта. Забыть тебя! О чем же я стал бы тогда помнить? Я ведь забыл самого себя, чтобы помнить о тебе; забыв же тебя, мне пришлось бы вспомнить о себе, но в ту же минуту, как я вспомню о себе, я не могу не вспомнить и о тебе! Забыть тебя? Да что же было бы тогда?! Есть старинная картина, изображающая Ариадну, которая тревожно вскочила со своего ложа и впилась взором в уплывающий на всех парусах корабль. Рядом с Ариадной стоит Амур с луком без тетивы и утирает слезы. Немного поодаль видна женская фигура с крыльями за плечами и шлемом самую картину, но в несколько измененном виде: Амур не плачет и лук его цел, – ведь ты же не сделалась бы ни менее прекрасной, ни менее обаятельной оттого, что я потерял разум?.. Итак, Амур улыбается и готов пустить стрелу; Немезида тоже не стоит спокойно, она тоже натягивает лук. Затем на старой картине на корме уплывающего корабля виднеется мужская фигура, углубленная в какую-то работу; ее считают Тезеем. На моей же картине он стоит на корме, тоскливо смотрит на оставленный берег и простирает к нему руки: он раскаялся, или, вернее, безумие оставило его, но корабль уносит! И Амур, и Немезида – оба готовы спустить свои стрелы, и они попадут в цель: обе ударят ему в сердце, в знак того, что любовь была для него Немезидой – мстительницей.
Твой Йоханнес.
* * *
Моя Корделия!
Обо мне говорят, что я влюблен в самого себя. Меня это нисколько не удивляет. Как же могут заметить посторонние, что я способен любить, если я люблю одну тебя? Они даже подозревать этого не могут – ведь я люблю только тебя. Ну что же? Пусть я влюблен в самого себя… А почему? Потому что люблю тебя, люблю все, принадлежащее тебе, люблю между прочим и себя: мое «я» тоже ведь принадлежит тебе. Если бы я разлюбил тебя, я бы разлюбил и себя! Итак, то, в чем профаны видят доказательство высшего эгоизма, будет теперь для твоего просвещенного взора лишь выражением чистейшей любви и симпатии. То, в чем они видят одно прозаическое чувство самосохранения, будет для тебя проявлением восторженнейшего самоуничтожения!
Твой Йоханнес.
* * *
Я особенно опасался, что душевное развитие Корделии займет у меня слишком много времени; вижу, однако, она делает быстрые успехи. Теперь, чтобы поддержать в ней этот подъем духа, надо постоянно волновать ее душу. Нельзя допустить, чтобы силы ее упали раньше времени, т. е. раньше наступления той поры, когда время для нее совсем перестанет существовать!
* * *
Да, истинная любовь не пойдет большой дорогой – по ней ходит только брак; она не изберет и проселочной тропинки – тропинка эта уже протоптана; любовь предпочитает сама пробивать себе дорогу. А в таком случае, что может быть лучше, удобнее Коршунова леса? Можно углубиться в самую чащу, там не встретишь ни души посторонней, и, гуляя в таком уединении, рука об руку, отлично поймешь друг друга… То, что прежде только смутно радовало или томило вас, станет вдруг ясным… Да, вот этот чудный бук – немой свидетель вашей любви. Под его кудрявой листвой вы признались друг другу в любви, и воспоминание ярко вспыхнуло в ваших сердцах: вы вновь увидали себя на балу, почувствовали первое пожатие рук… Вы вспомнили, как расстались затем, как потом думали об этой чудной встрече, не смея еще признаться в своей любви не только друг другу, но и самим себе. Право, очень интересно подслушать все это и проследить таким образом любовный роман двух юных существ… Вот они упали под деревом на колени, клянутся друг другу в вечной любви, и печатью, скрепляющей этот договор ненарушимого союза, был первый поцелуй. Эта сцена как раз кстати навеяла на меня такое настроение, какое мне понадобится сегодня для разговора с Корделией. Итак, этот бук стал нечаянным свидетелем вашего свидания. Что ж, дерево вообще недурной свидетель, но одного такого свидетеля все-таки как будто маловато. Положим, вы уверены, что и небо было вашим свидетелем, но небо… – это уж слишком абстрактная идея! Потому-то и явился еще один свидетель – я. Не показаться ли мне теперь? Нет, меня могут узнать, и это, пожалуй, повредит мне в будущем… Или не выйти ли мне из-за кустов тогда, когда они будут уходить и таким образом дать им знать о моем присутствии? Нет, и это нецелесообразно. Нецелесообразно? Да разве у меня есть какая-нибудь цель? Пока еще довольно неопределенная… но я предвижу, что они могут мне понадобиться для нового сильного ощущения… Они в моей власти, я могу даже разлучить их, если захочу: я знаю их тайну, а от кого я мог узнать ее? Лишь от него или от нее. Когда мне нужно будет это новое ощущение, я поражу их этим внезапным открытием. Но на кого направить удар? Если сказать ему, что она выдала мне тайну, он, пожалуй, лишь вежливо пожмет плечами: «Это невозможно!». А если ей?.. Пари держу, что она поверит и возмутится: «Как это гнусно!» и т. д. Итак, ура! А ведь это почти злорадство с моей стороны. Ну, да там еще видно будет. Впрочем, если окажется, что только от нее и только именно этим путем я могу получить нужное мне впечатление во всей полноте, то делать нечего – придется воспользоваться случаем!
* * *
Моя Корделия!
Я беден, ты – мое богатство! Я мрачен, ты – мой свет. У меня нет ничего, но я ни в чем не нуждаюсь. Да и как же я могу иметь что-нибудь? Как может обладать чем-либо тот, кто потерял власть над самим собою? Я счастлив, как дитя, которое не может и не должно обладать ничем. У меня тоже нет ничего, и я сам весь принадлежу тебе. Я более не существую сам по себе, я перестал существовать, чтобы стать твоим.
Твой Йоханнес.
* * *
Моя Корделия!
Какой смысл в слове «моя»? Ведь оно не обозначает того, что принадлежит мне, но то, чему принадлежу я, что заключает в себе все мое существо. Это «то» мое лишь настолько, насколько я принадлежу ему сам. «Мой Бог» ведь это не тот Бог, Который принадлежит мне, но тот, Которому принадлежу я. То же самое и относительно выражений: «моя родина», «мое призвание», «моя страсть», «моя надежда». Не существуй уже с давних времен понятие о бессмертии, мысль, что я твой, создала бы его.
Твой Йоханнес.
* * *
Моя Корделия!
Кто я? Скромный певец твоей победы, танцовщик, слегка поддерживающий тебя, когда ты грациозно и легко поднимаешься на воздух, ветвь, на которой ты отдыхаешь на мгновение от своего воздушного полета, или бас, оттеняющий мечтательно серебристые звуки твоего сопрано, заставляя их подыматься еще тоном выше? Что я такое наконец?.. Я – земная тяжесть, приковывающая тебя к земле, я – тело, материя, земля, прах, пепел… ты же, моя Корделия, ты – душа, ты – дух!
Твой Йоханнес.
* * *
Моя Корделия!
Любовь – все, и для того, кто любит, все остальное теряет всякое другое значение, кроме того, какое придает ему любовь. Если бы какой-нибудь жених признался своей невесте, что он интересуется и другой девушкой, то оказался бы, пожалуй, преступным в ее глазах, она возмутилась бы. Ты же, я знаю, увидела бы в таком признании лишь преклонение перед тобой. Ведь ты знаешь, что полюбить другую для меня невозможно, а если случится нечто похожее на это, то только потому, что моя любовь к тебе бросает свой отблеск и на все окружающее. Да, моя душа полна одною тобою, и жизнь получает для меня теперь совсем иное значение: она превращается в миф о тебе!
Твой Йоханнес.
* * *
Моя Корделия!
Любовь уничтожила во мне все! У меня остался лишь голос мой, который вечно повторяет тебе, что я люблю тебя! Но ты ведь не устала внимать ему, хотя он и сторожит твой слух повсюду? На разнообразном, вечно меняющемся фоне моего сознания твой чистый и цельный образ выступает еще ярче, еще рельефнее.
Твой Йоханнес.
* * *
Моя Корделия!
В старинных легендах рассказывается об озере, влюбленном в молодую девушку. Моя душа похожа на такое озеро. Оно то спокойно дает твоему образу отражаться в его недвижной глубине, то вдруг вообразит, что наконец схватило твой образ, и выступает из берегов, чтобы не дать ему ускользнуть, то опять утихает и лишь слегка колышется, играя твоим изображением, то вновь темнеет, мечется и бьется в отчаянии, вообразив, что потеряло его… Моя душа похожа на озеро, влюбленное в тебя.
Твой Йоханнес.
* * *
Откровенно говоря, даже не обладая особенно пылкой фантазией, можно, кажется, вообразить себя в более удобном, а главное, более приличном экипаже. Ехать с мужиком на возу, восседать на мешках с картофелем!? Такой оригинальностью если и можно возбудить внимание, то лишь в довольно невыгодном смысле. За что ни ухватишься, впрочем, в минуту крайности? Бывает ведь, что пойдешь прогуляться за город и заберешься нечаянно слишком далеко… Устанешь, конечно, а экипажей здесь уж не найдется, извините. Что ж прикажете делать? Обрадуешься и мужицкому возу с картофелем! Подсядешь и поедешь преспокойно… Встречных никого не попадается, значит все благополучно… Вот уж недалеко и от подгородного села…
Ах! вот досада! Ну можно ли было ожидать встретить тут одного из городских франтов?! Что я городской житель, вы сразу видите – в деревне таких нет: этот особенный, самоуверенный, пытливый и несколько насмешливый взгляд… Да, моя милая, ваше положение не из красивых! Вы сидите, как на подносе: мешки уложены так неудобно, что вам даже некуда спустить ножек. Впрочем, если вам угодно, мой экипаж к вашим услугам, и если вы только не стесняетесь сесть рядом со мной… Или я, пожалуй, перемещусь на козлы и буду очень рад довезти вас до города. Ваша соломенная шляпа такого неудобного фасона, что даже не защищает вас от взгляда, брошенного сбоку…
Напрасно вы наклоняете головку – я все-таки любуюсь вашим прелестным профилем. А, вам досадно, что мужик вздумал еще раскланиваться со мной! Но это же в порядке вещей – мужик кланяется важному барину. Но подождите… вам предстоит испытать еще нечто более неприятное. Перед вами постоялый двор, и мужик, конечно, не может проехать мимо, не засвидетельствовав своего почтения Бахусу. Теперь уж я позабочусь о нем. У меня удивительный дар приобретать расположение таких мужиков. Вот если бы удалось попасть в милость и к вам! …Мужик, разумеется, не в силах устоять против моего заманчивого предложения выпить стаканчик… Мы входим в гостеприимно открытую дверь, а там… если я сам не особенный мастер по части чарочки, то слуга мой постарается! Да, возница ваш сидит теперь и попивает винцо, а вы на возу.
– Кто она такая, однако? Мещанка, что ли, или дочь какого-нибудь мелкого торговца?.. Если так, то она необыкновенно хороша и изящна; одета тоже с большим вкусом… Папенька ее, должно быть, загребает барыши порядочные. А впрочем… Может статься, она богатая и знатная барыня, которой надоело кататься в колясках и потому вздумалось добраться до дачи в таком оригинальном экипаже, рискуя натолкнуться на маленькие приключения. Что ж, подобные примеры бывали. Мужик-то, досадно, глуп – ничего не знает, только и умеет пить! Ну да ладно, пей на здоровье!.. Но неужели… Да, так и есть! Теперь я узнал ее. Это Мальвина Нильсен, дочь богатого коммерсанта! Помилуйте, да мы даже знакомы! То есть, я видел ее однажды в экипаже на Широкой улице, она сидела спиной к лошадям и старалась поднять окно кареты, но это ей никак не удавалось. Я накинул pince-nez и с любопытством следил за ее движениями. Сидеть ей было не особенно удобно: кроме нее, в карете сидело еще человек пять, так что она едва-едва могла пошевельнуться, а кричать караул, верно, стеснялась. Теперешнее ее положение не менее неловко. Итак, судьба положительно сводит меня с ней. Говорят, что она вообще большая оригиналка, и вот теперь, например, она пустилась в такое путешествие, конечно, на свой страх и риск. Но вот мой слуга и ее возница выходят назад. Мужик совсем пьян. Фи! Какая гадость! Вот испорченный народ, эти картофельные мужики! Ну да есть люди и похуже их! Нечего сказать, хорошо вы теперь потащитесь! Пожалуй, вам самой придется взять в руки вожжи, что будет уже верхом оригинальности! Повторяю, мой экипаж стоит на дворе, вернитесь… Но нет, вы упорствуете, желаете показать, что вам отлично и на возу… Ну, положим, меня-то вам не провести!.. Я ведь вижу все насквозь. Ага! Не выдержала, соскочила с телеги! Можно-де, пойти по опушке леса… Не торопитесь только… Сейчас оседлают мою лошадь, и я догоню вас… Ну вот, теперь никто не посмеет обидеть вас. Да не бойтесь же меня, не то я сейчас вернусь… Нет, нет, я хотел только попугать вас и полюбоваться вашим волнением: оно придает вашему личику новую прелесть. Так как вы не знаете, что мужика напоили по моему приказанию, и так как я держу себя в высшей степени прилично и скромно, то вы, кажется, вполне можете довериться мне. Уверяю вас, что все окончится вполне благополучно – я придам делу такой оборот, что вы сами только посмеетесь над всей этой историей… Не опасайтесь же ловушки с моей стороны! Я друг свободы, и то, что не дают вполне добровольно, мне совсем не нужно! Вы, впрочем, сами убедились, что продолжать путь пешком до самого города невозможно. Ну, что ж колебаться? Я отправляюсь на охоту и отлично могу ехать туда верхом, тогда как экипаж мой, оставшийся на постоялом дворе, сейчас догонит вас и отвезет, куда прикажете. Сам я, увы, не могу сопровождать вас… Даю вам честное слово охотника – охотники ведь, как известно, никогда не лгут, это самый правдивый народ на свете. Вы согласны? Сию минуту все будет в порядке, и вам нет нужды конфузиться при новой встрече со мной, по крайней мере, не больше, чем это идет вам. Теперь вы можете посмеяться над своим маленьким приключением и… уделить мне местечко в своих воспоминаниях. Большего я не требую: это ведь начало, а я всегда был особенно силен по части всяких начинаний.
* * *
Вчера вечером у тетки собралось небольшое общество. Я знал, что Корделия непременно возьмется за свое вышиванье, и заранее спрятал в него маленькую записку. Она взяла работу, выронила записку, подняла ее и вся вспыхнула от нетерпеливого любопытства. Да, подобный способ доставки писем производит поразительное действие! Сама по себе записка незначительна, но прочитанная украдкой и наскоро, в сильном волнении, приобретает всегда какое-то особенно глубокое значение. Ей, видимо, хотелось поскорее поговорить со мной, но я устроил так, что мне пришлось провожать домой одну даму, и волей-неволей бедная Корделия должна была дожидаться сегодняшнего свидания – впечатление успело, следовательно, глубже врезаться в ее душу. Вот такими-то способами я всегда и живу в ее мыслях, она всегда ждет от меня какого-нибудь нового сюрприза.
* * *
У любви, как я уже не раз замечал, своя диалектика. Когда-то я был влюблен в одну молодую девушку. Приехав в прошлом году в Дрезден, я увидал в театре актрису, поразительно похожую на мою прежнюю возлюбленную. Мне, конечно, захотелось убедиться, как далеко простирается это сходство. Я познакомился с актрисой и убедился, что «несходство» было очень велико. Сегодня я встретил на улице даму, очень похожую на эту актрису. Да так, пожалуй, и конца не будет!
* * *
Мои мысли всегда окружают Корделию, я посылаю этих добрых гениев охранять ее. Как Венера летит в колеснице, запряженной голубями, так Корделия сидит в триумфальной колеснице, в которую я запряг мои крылатые мысли. Она восседает радостная и счастливая, как дитя, могущественная, как богиня, а я скромно иду подле нее. Молодая девушка всегда была и будет богиней всего земного. Никто не знает этого лучше меня. Жаль только, что это великолепие так кратковременно. Корделия улыбается мне, манит меня так доверчиво и просто, как будто она сестра мне, но мой страстный взгляд сразу напоминает ей, что она моя возлюбленная.
* * *
В любви много степеней. Корделия быстро проходит их. Теперь она садится иногда ко мне на колени, руки ее мягко обвивают мою шею, голова покоится на моем плече. Глаза ее скрываются за опущенными ресницами; грудь ослепительно бела и блестяща, как мрамор – взор мой не мог бы остановиться на ней, соскользнул бы, если б грудь слегка не волновалась… Что выражает это волнение? Любовь? Может быть, но скорее – лишь мечту о ней: смутное желание… Ей не достает пока энергии: ее объятия нежны и воздушны, как веяние ветерка; ее губки прикасаются мягко и осторожно, будто она целует лепестки цветка; поцелуи ее бесстрастны – так небо целует море, кротки и тихи – так роса освежает цветы, торжественны – так море целует образ луны! Теперь ее страсть можно еще назвать наивной, когда же в ней произойдет душевный переворот, а я начну отступать, она употребит все усилия, чтобы удержать меня; для этого у нее будет только одно средство – страсть, и она направит ее против меня, как единственное свое оружие. То чувство, которое я искусственно разжигаю в ней, заставляя смутно предугадывать и желать чего-то большего, разгорится тогда ярким пламенем и будет от меня требовать того же. Моя страсть, сознательная, обдуманная, уже не удовлетворит ее; она впервые заметит мою холодность и захочет побороть ее, инстинктивно чувствуя, что во мне таится та высшая пламенная страсть, которой она так жаждет. Тогда-то ее неопределенная наивная страсть превратится в цельную, энергичную, всеохватывающую и диалектическую, поцелуй приобретет силу, полноту и определенность, объятия сконцентрируются. Она придет ко мне требовать свободной страсти и найдет ее тем скорее и легче, чем крепче я сожму ее в своих объятиях. Тогда формальные узы порвутся, и затем ей нужно будет дать маленький отдых, не то в сильных порывах ее страсти могут появиться режущие диссонансы; отдохнув же, страсть ее вновь соберется с силами, сосредоточится в последний раз, и – она моя!
* * *
Да разве я могу забыть тебя? Разве моя любовь к тебе – дело памяти?
Пусть время сотрет со своих скрижалей все, пусть уничтожит даже самую память – отношения мои к тебе не потеряют силы, ты не будешь забыта. Забыть тебя! О чем же я стал бы тогда помнить? Я ведь забыл самого себя, чтобы помнить о тебе; забыв же тебя, мне пришлось бы вспомнить о себе, но в ту же минуту, как я вспомню о себе, я не могу не вспомнить и о тебе! Забыть тебя? Да что же было бы тогда?! Есть старинная картина, изображающая Ариадну, которая тревожно вскочила со своего ложа и впилась взором в уплывающий на всех парусах корабль. Рядом с Ариадной стоит Амур с луком без тетивы и утирает слезы. Немного поодаль видна женская фигура с крыльями за плечами и шлемом самую картину, но в несколько измененном виде: Амур не плачет и лук его цел, – ведь ты же не сделалась бы ни менее прекрасной, ни менее обаятельной оттого, что я потерял разум?.. Итак, Амур улыбается и готов пустить стрелу; Немезида тоже не стоит спокойно, она тоже натягивает лук. Затем на старой картине на корме уплывающего корабля виднеется мужская фигура, углубленная в какую-то работу; ее считают Тезеем. На моей же картине он стоит на корме, тоскливо смотрит на оставленный берег и простирает к нему руки: он раскаялся, или, вернее, безумие оставило его, но корабль уносит! И Амур, и Немезида – оба готовы спустить свои стрелы, и они попадут в цель: обе ударят ему в сердце, в знак того, что любовь была для него Немезидой – мстительницей.
Твой Йоханнес.
* * *
Моя Корделия!
Обо мне говорят, что я влюблен в самого себя. Меня это нисколько не удивляет. Как же могут заметить посторонние, что я способен любить, если я люблю одну тебя? Они даже подозревать этого не могут – ведь я люблю только тебя. Ну что же? Пусть я влюблен в самого себя… А почему? Потому что люблю тебя, люблю все, принадлежащее тебе, люблю между прочим и себя: мое «я» тоже ведь принадлежит тебе. Если бы я разлюбил тебя, я бы разлюбил и себя! Итак, то, в чем профаны видят доказательство высшего эгоизма, будет теперь для твоего просвещенного взора лишь выражением чистейшей любви и симпатии. То, в чем они видят одно прозаическое чувство самосохранения, будет для тебя проявлением восторженнейшего самоуничтожения!
Твой Йоханнес.
* * *
Я особенно опасался, что душевное развитие Корделии займет у меня слишком много времени; вижу, однако, она делает быстрые успехи. Теперь, чтобы поддержать в ней этот подъем духа, надо постоянно волновать ее душу. Нельзя допустить, чтобы силы ее упали раньше времени, т. е. раньше наступления той поры, когда время для нее совсем перестанет существовать!
* * *
Да, истинная любовь не пойдет большой дорогой – по ней ходит только брак; она не изберет и проселочной тропинки – тропинка эта уже протоптана; любовь предпочитает сама пробивать себе дорогу. А в таком случае, что может быть лучше, удобнее Коршунова леса? Можно углубиться в самую чащу, там не встретишь ни души посторонней, и, гуляя в таком уединении, рука об руку, отлично поймешь друг друга… То, что прежде только смутно радовало или томило вас, станет вдруг ясным… Да, вот этот чудный бук – немой свидетель вашей любви. Под его кудрявой листвой вы признались друг другу в любви, и воспоминание ярко вспыхнуло в ваших сердцах: вы вновь увидали себя на балу, почувствовали первое пожатие рук… Вы вспомнили, как расстались затем, как потом думали об этой чудной встрече, не смея еще признаться в своей любви не только друг другу, но и самим себе. Право, очень интересно подслушать все это и проследить таким образом любовный роман двух юных существ… Вот они упали под деревом на колени, клянутся друг другу в вечной любви, и печатью, скрепляющей этот договор ненарушимого союза, был первый поцелуй. Эта сцена как раз кстати навеяла на меня такое настроение, какое мне понадобится сегодня для разговора с Корделией. Итак, этот бук стал нечаянным свидетелем вашего свидания. Что ж, дерево вообще недурной свидетель, но одного такого свидетеля все-таки как будто маловато. Положим, вы уверены, что и небо было вашим свидетелем, но небо… – это уж слишком абстрактная идея! Потому-то и явился еще один свидетель – я. Не показаться ли мне теперь? Нет, меня могут узнать, и это, пожалуй, повредит мне в будущем… Или не выйти ли мне из-за кустов тогда, когда они будут уходить и таким образом дать им знать о моем присутствии? Нет, и это нецелесообразно. Нецелесообразно? Да разве у меня есть какая-нибудь цель? Пока еще довольно неопределенная… но я предвижу, что они могут мне понадобиться для нового сильного ощущения… Они в моей власти, я могу даже разлучить их, если захочу: я знаю их тайну, а от кого я мог узнать ее? Лишь от него или от нее. Когда мне нужно будет это новое ощущение, я поражу их этим внезапным открытием. Но на кого направить удар? Если сказать ему, что она выдала мне тайну, он, пожалуй, лишь вежливо пожмет плечами: «Это невозможно!». А если ей?.. Пари держу, что она поверит и возмутится: «Как это гнусно!» и т. д. Итак, ура! А ведь это почти злорадство с моей стороны. Ну, да там еще видно будет. Впрочем, если окажется, что только от нее и только именно этим путем я могу получить нужное мне впечатление во всей полноте, то делать нечего – придется воспользоваться случаем!
* * *
Моя Корделия!
Я беден, ты – мое богатство! Я мрачен, ты – мой свет. У меня нет ничего, но я ни в чем не нуждаюсь. Да и как же я могу иметь что-нибудь? Как может обладать чем-либо тот, кто потерял власть над самим собою? Я счастлив, как дитя, которое не может и не должно обладать ничем. У меня тоже нет ничего, и я сам весь принадлежу тебе. Я более не существую сам по себе, я перестал существовать, чтобы стать твоим.
Твой Йоханнес.
* * *
Моя Корделия!
Какой смысл в слове «моя»? Ведь оно не обозначает того, что принадлежит мне, но то, чему принадлежу я, что заключает в себе все мое существо. Это «то» мое лишь настолько, насколько я принадлежу ему сам. «Мой Бог» ведь это не тот Бог, Который принадлежит мне, но тот, Которому принадлежу я. То же самое и относительно выражений: «моя родина», «мое призвание», «моя страсть», «моя надежда». Не существуй уже с давних времен понятие о бессмертии, мысль, что я твой, создала бы его.
Твой Йоханнес.
* * *
Моя Корделия!
Кто я? Скромный певец твоей победы, танцовщик, слегка поддерживающий тебя, когда ты грациозно и легко поднимаешься на воздух, ветвь, на которой ты отдыхаешь на мгновение от своего воздушного полета, или бас, оттеняющий мечтательно серебристые звуки твоего сопрано, заставляя их подыматься еще тоном выше? Что я такое наконец?.. Я – земная тяжесть, приковывающая тебя к земле, я – тело, материя, земля, прах, пепел… ты же, моя Корделия, ты – душа, ты – дух!
Твой Йоханнес.
* * *
Моя Корделия!
Любовь – все, и для того, кто любит, все остальное теряет всякое другое значение, кроме того, какое придает ему любовь. Если бы какой-нибудь жених признался своей невесте, что он интересуется и другой девушкой, то оказался бы, пожалуй, преступным в ее глазах, она возмутилась бы. Ты же, я знаю, увидела бы в таком признании лишь преклонение перед тобой. Ведь ты знаешь, что полюбить другую для меня невозможно, а если случится нечто похожее на это, то только потому, что моя любовь к тебе бросает свой отблеск и на все окружающее. Да, моя душа полна одною тобою, и жизнь получает для меня теперь совсем иное значение: она превращается в миф о тебе!
Твой Йоханнес.
* * *
Моя Корделия!
Любовь уничтожила во мне все! У меня остался лишь голос мой, который вечно повторяет тебе, что я люблю тебя! Но ты ведь не устала внимать ему, хотя он и сторожит твой слух повсюду? На разнообразном, вечно меняющемся фоне моего сознания твой чистый и цельный образ выступает еще ярче, еще рельефнее.
Твой Йоханнес.
* * *
Моя Корделия!
В старинных легендах рассказывается об озере, влюбленном в молодую девушку. Моя душа похожа на такое озеро. Оно то спокойно дает твоему образу отражаться в его недвижной глубине, то вдруг вообразит, что наконец схватило твой образ, и выступает из берегов, чтобы не дать ему ускользнуть, то опять утихает и лишь слегка колышется, играя твоим изображением, то вновь темнеет, мечется и бьется в отчаянии, вообразив, что потеряло его… Моя душа похожа на озеро, влюбленное в тебя.
Твой Йоханнес.
* * *
Откровенно говоря, даже не обладая особенно пылкой фантазией, можно, кажется, вообразить себя в более удобном, а главное, более приличном экипаже. Ехать с мужиком на возу, восседать на мешках с картофелем!? Такой оригинальностью если и можно возбудить внимание, то лишь в довольно невыгодном смысле. За что ни ухватишься, впрочем, в минуту крайности? Бывает ведь, что пойдешь прогуляться за город и заберешься нечаянно слишком далеко… Устанешь, конечно, а экипажей здесь уж не найдется, извините. Что ж прикажете делать? Обрадуешься и мужицкому возу с картофелем! Подсядешь и поедешь преспокойно… Встречных никого не попадается, значит все благополучно… Вот уж недалеко и от подгородного села…
Ах! вот досада! Ну можно ли было ожидать встретить тут одного из городских франтов?! Что я городской житель, вы сразу видите – в деревне таких нет: этот особенный, самоуверенный, пытливый и несколько насмешливый взгляд… Да, моя милая, ваше положение не из красивых! Вы сидите, как на подносе: мешки уложены так неудобно, что вам даже некуда спустить ножек. Впрочем, если вам угодно, мой экипаж к вашим услугам, и если вы только не стесняетесь сесть рядом со мной… Или я, пожалуй, перемещусь на козлы и буду очень рад довезти вас до города. Ваша соломенная шляпа такого неудобного фасона, что даже не защищает вас от взгляда, брошенного сбоку…
Напрасно вы наклоняете головку – я все-таки любуюсь вашим прелестным профилем. А, вам досадно, что мужик вздумал еще раскланиваться со мной! Но это же в порядке вещей – мужик кланяется важному барину. Но подождите… вам предстоит испытать еще нечто более неприятное. Перед вами постоялый двор, и мужик, конечно, не может проехать мимо, не засвидетельствовав своего почтения Бахусу. Теперь уж я позабочусь о нем. У меня удивительный дар приобретать расположение таких мужиков. Вот если бы удалось попасть в милость и к вам! …Мужик, разумеется, не в силах устоять против моего заманчивого предложения выпить стаканчик… Мы входим в гостеприимно открытую дверь, а там… если я сам не особенный мастер по части чарочки, то слуга мой постарается! Да, возница ваш сидит теперь и попивает винцо, а вы на возу.
– Кто она такая, однако? Мещанка, что ли, или дочь какого-нибудь мелкого торговца?.. Если так, то она необыкновенно хороша и изящна; одета тоже с большим вкусом… Папенька ее, должно быть, загребает барыши порядочные. А впрочем… Может статься, она богатая и знатная барыня, которой надоело кататься в колясках и потому вздумалось добраться до дачи в таком оригинальном экипаже, рискуя натолкнуться на маленькие приключения. Что ж, подобные примеры бывали. Мужик-то, досадно, глуп – ничего не знает, только и умеет пить! Ну да ладно, пей на здоровье!.. Но неужели… Да, так и есть! Теперь я узнал ее. Это Мальвина Нильсен, дочь богатого коммерсанта! Помилуйте, да мы даже знакомы! То есть, я видел ее однажды в экипаже на Широкой улице, она сидела спиной к лошадям и старалась поднять окно кареты, но это ей никак не удавалось. Я накинул pince-nez и с любопытством следил за ее движениями. Сидеть ей было не особенно удобно: кроме нее, в карете сидело еще человек пять, так что она едва-едва могла пошевельнуться, а кричать караул, верно, стеснялась. Теперешнее ее положение не менее неловко. Итак, судьба положительно сводит меня с ней. Говорят, что она вообще большая оригиналка, и вот теперь, например, она пустилась в такое путешествие, конечно, на свой страх и риск. Но вот мой слуга и ее возница выходят назад. Мужик совсем пьян. Фи! Какая гадость! Вот испорченный народ, эти картофельные мужики! Ну да есть люди и похуже их! Нечего сказать, хорошо вы теперь потащитесь! Пожалуй, вам самой придется взять в руки вожжи, что будет уже верхом оригинальности! Повторяю, мой экипаж стоит на дворе, вернитесь… Но нет, вы упорствуете, желаете показать, что вам отлично и на возу… Ну, положим, меня-то вам не провести!.. Я ведь вижу все насквозь. Ага! Не выдержала, соскочила с телеги! Можно-де, пойти по опушке леса… Не торопитесь только… Сейчас оседлают мою лошадь, и я догоню вас… Ну вот, теперь никто не посмеет обидеть вас. Да не бойтесь же меня, не то я сейчас вернусь… Нет, нет, я хотел только попугать вас и полюбоваться вашим волнением: оно придает вашему личику новую прелесть. Так как вы не знаете, что мужика напоили по моему приказанию, и так как я держу себя в высшей степени прилично и скромно, то вы, кажется, вполне можете довериться мне. Уверяю вас, что все окончится вполне благополучно – я придам делу такой оборот, что вы сами только посмеетесь над всей этой историей… Не опасайтесь же ловушки с моей стороны! Я друг свободы, и то, что не дают вполне добровольно, мне совсем не нужно! Вы, впрочем, сами убедились, что продолжать путь пешком до самого города невозможно. Ну, что ж колебаться? Я отправляюсь на охоту и отлично могу ехать туда верхом, тогда как экипаж мой, оставшийся на постоялом дворе, сейчас догонит вас и отвезет, куда прикажете. Сам я, увы, не могу сопровождать вас… Даю вам честное слово охотника – охотники ведь, как известно, никогда не лгут, это самый правдивый народ на свете. Вы согласны? Сию минуту все будет в порядке, и вам нет нужды конфузиться при новой встрече со мной, по крайней мере, не больше, чем это идет вам. Теперь вы можете посмеяться над своим маленьким приключением и… уделить мне местечко в своих воспоминаниях. Большего я не требую: это ведь начало, а я всегда был особенно силен по части всяких начинаний.
* * *
Вчера вечером у тетки собралось небольшое общество. Я знал, что Корделия непременно возьмется за свое вышиванье, и заранее спрятал в него маленькую записку. Она взяла работу, выронила записку, подняла ее и вся вспыхнула от нетерпеливого любопытства. Да, подобный способ доставки писем производит поразительное действие! Сама по себе записка незначительна, но прочитанная украдкой и наскоро, в сильном волнении, приобретает всегда какое-то особенно глубокое значение. Ей, видимо, хотелось поскорее поговорить со мной, но я устроил так, что мне пришлось провожать домой одну даму, и волей-неволей бедная Корделия должна была дожидаться сегодняшнего свидания – впечатление успело, следовательно, глубже врезаться в ее душу. Вот такими-то способами я всегда и живу в ее мыслях, она всегда ждет от меня какого-нибудь нового сюрприза.
* * *
У любви, как я уже не раз замечал, своя диалектика. Когда-то я был влюблен в одну молодую девушку. Приехав в прошлом году в Дрезден, я увидал в театре актрису, поразительно похожую на мою прежнюю возлюбленную. Мне, конечно, захотелось убедиться, как далеко простирается это сходство. Я познакомился с актрисой и убедился, что «несходство» было очень велико. Сегодня я встретил на улице даму, очень похожую на эту актрису. Да так, пожалуй, и конца не будет!
* * *
Мои мысли всегда окружают Корделию, я посылаю этих добрых гениев охранять ее. Как Венера летит в колеснице, запряженной голубями, так Корделия сидит в триумфальной колеснице, в которую я запряг мои крылатые мысли. Она восседает радостная и счастливая, как дитя, могущественная, как богиня, а я скромно иду подле нее. Молодая девушка всегда была и будет богиней всего земного. Никто не знает этого лучше меня. Жаль только, что это великолепие так кратковременно. Корделия улыбается мне, манит меня так доверчиво и просто, как будто она сестра мне, но мой страстный взгляд сразу напоминает ей, что она моя возлюбленная.
* * *
В любви много степеней. Корделия быстро проходит их. Теперь она садится иногда ко мне на колени, руки ее мягко обвивают мою шею, голова покоится на моем плече. Глаза ее скрываются за опущенными ресницами; грудь ослепительно бела и блестяща, как мрамор – взор мой не мог бы остановиться на ней, соскользнул бы, если б грудь слегка не волновалась… Что выражает это волнение? Любовь? Может быть, но скорее – лишь мечту о ней: смутное желание… Ей не достает пока энергии: ее объятия нежны и воздушны, как веяние ветерка; ее губки прикасаются мягко и осторожно, будто она целует лепестки цветка; поцелуи ее бесстрастны – так небо целует море, кротки и тихи – так роса освежает цветы, торжественны – так море целует образ луны! Теперь ее страсть можно еще назвать наивной, когда же в ней произойдет душевный переворот, а я начну отступать, она употребит все усилия, чтобы удержать меня; для этого у нее будет только одно средство – страсть, и она направит ее против меня, как единственное свое оружие. То чувство, которое я искусственно разжигаю в ней, заставляя смутно предугадывать и желать чего-то большего, разгорится тогда ярким пламенем и будет от меня требовать того же. Моя страсть, сознательная, обдуманная, уже не удовлетворит ее; она впервые заметит мою холодность и захочет побороть ее, инстинктивно чувствуя, что во мне таится та высшая пламенная страсть, которой она так жаждет. Тогда-то ее неопределенная наивная страсть превратится в цельную, энергичную, всеохватывающую и диалектическую, поцелуй приобретет силу, полноту и определенность, объятия сконцентрируются. Она придет ко мне требовать свободной страсти и найдет ее тем скорее и легче, чем крепче я сожму ее в своих объятиях. Тогда формальные узы порвутся, и затем ей нужно будет дать маленький отдых, не то в сильных порывах ее страсти могут появиться режущие диссонансы; отдохнув же, страсть ее вновь соберется с силами, сосредоточится в последний раз, и – она моя!
* * *