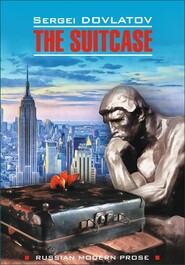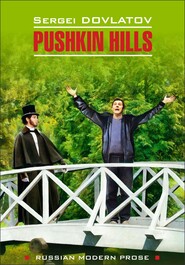По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Заповедник и другие истории
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Речь об экспонатах музея, – перебил я, – большинство из них комментируется в методичке уклончиво:
«Посуда, обнаруженная на территории имения…»
– Что конкретно вас интересует? Что бы вы хотели увидеть?
– Ну, личные вещи… Если таковые имеются…
– Кому вы адресуете свои претензии?
– Да какие же могут быть претензии?! И тем более – к вам! Я только спросил…
– Личные вещи Пушкина?… Музей создавался через десятки лет после его гибели…
– Так, – говорю, – всегда и получается. Сперва угробят человека, а потом начинают разыскивать его личные вещи. Так было с Достоевским, с Есениным… Так будет с Пастернаком. Опомнятся – начнут искать личные вещи Солженицына…
– Но мы воссоздаем колорит, атмосферу, – сказала хранительница.
– Понятно. Этажерка – настоящая?
– По крайней мере – той эпохи.
– А портрет Байрона?
– Настоящий, – обрадовалась Виктория Альбертовна, – подарен Вульфам… Там имеется надпись… Какой вы, однако, привередливый. Личные вещи, личные вещи… А по-моему, это нездоровый интерес…
Я ощутил себя грабителем, застигнутым в чужой квартире.
– Какой же, – говорю, – без этого музей? Без нездорового-то интереса? Здоровый интерес бывает только к ветчине…
– Мало вам природы? Мало вам того, что он бродил по этим склонам? Купался в этой реке. Любовался этой дивной панорамой…
Ну, чего, думаю, я к ней пристал?
– Понятно, – говорю, – спасибо, Вика.
Вдруг она нагнулась. Сорвала какой-то злак. Ощутимо хлестнула меня по лицу. Коротко нервно захохотала и удалилась, приподняв юбку-макси с воланами.
Я присоединился к группе, направлявшейся в Тригорское.
Хранители усадьбы – супружеская чета – мне неожиданно понравились. Будучи женаты, они могли позволить себе такую роскошь, как добродушие. Полина Федоровна казалась властной, энергичной и немного самоуверенной. Коля выглядел смущенным увальнем и держался на заднем плане.
Тригорское лежало на отшибе. Начальство редко сюда заглядывало. Экспозиция была построена логично и красиво. Юный Пушкин, милые влюбленные барышни, атмосфера изящного летнего флирта…
Я обошел парк. Затем спустился к реке. В ней зеленели опрокинутые деревья. Проплывали легкие облака.
Я захотел выкупаться, но тут подошел рейсовый автобус.
Я отправился в Святогорский монастырь. Старухи торговали цветами у ворот. Я купил несколько тюльпанов и поднялся к могиле. У ограды фотографировались туристы. Их улыбающиеся лица показались мне отвратительными. Рядом устроились двое неудачников с мольбертами.
Я положил цветы и ушел. Надо было посмотреть экспозицию Успенского собора. В прохладных каменных нишах звучало эхо. Под сводами дремали голуби. Храм был реален, приземист и грациозен. В углу центрального зала тускло поблескивал разбитый колокол. Один из туристов звонко стучал по нему ключом…
В южном приделе я увидел знаменитый рисунок Бруни. Здесь же белела посмертная маска. Две громадные картины воспроизводили тайный увоз и похороны. Александр Тургенев был похож на даму…
Подошла группа туристов. Я направился к выходу. Вслед доносилось:
– История культуры не знает события, равного по трагизму… Самодержавие рукой великосветского шкоды…
Итак, я поселился у Михал Иваныча. Пил он беспрерывно. До изумления, паралича и бреда. Причем бредил он исключительно матом. А матерился с тем же чувством, с каким пожилые интеллигентные люди вполголоса напевают. То есть для себя, без расчета на одобрение или протест.
Трезвым я его видел дважды. В эти парадоксальные дни Михал Иваныч запускал одновременно радио и телевизор. Ложился в брюках, доставал коробку из-под торта «Сказка». И начинал читать открытки, полученные за всю жизнь. Читал и комментировал:
«…Здравствуй, папа крестный!.. Ну, здравствуй, здравствуй, выблядок овечий!.. Желаю тебе успехов в работе… Успехов желает, едри твою мать… Остаюсь вечно твой Радик… Вечно твой, вечно твой… Да на хрен ты мне сдался?…»
В деревне Михал Иваныча не любили, завидовали ему. Мол, и я бы запил! Ух, как запил бы, люди добрые! Уж как я запил бы, в гробину мать!.. Так ведь хозяйство… А ему что… Хозяйства у Михал Иваныча не было. Две худые собаки, которые порой надолго исчезали. Тощая яблоня и грядка зеленого лука…
Как-то дождливым вечером мы с ним разговорились:
– Миша, ты любил свою жену?
– Кому?! Жену-то? Бабу, в смысле? Лизку, значит? – всполошился Михал Иваныч.
– Лизу. Елизавету Прохоровну.
– А чего ее любить? Хвать за это дело и поехал…
– Что же тебя в ней привлекало?
Михал Иваныч надолго задумался.
– Спала аккуратно, – выговорил он, – тихо, как гусеница…
Молоко я брал в соседнем доме у Никитиных. Те жили солидно. Телевизор, «Незнакомка» Крамского… С пяти утра хозяин занимался делами. Чинил забор, копался в огороде. Как-то вижу – телка за ноги подвешена. Хозяин шкуру снимает. А нож белый-белый, в крови…
Никитиных Михал Иваныч презирал. И они его – соответственно.
– Все пьет? – интересовалась Надежда Федоровна, размешивая в лохани куриную еду.
– Видел я его на базе, – говорил Никитин, орудуя фуганком, – с утра подмалевавши.
Мне не хотелось им поддакивать.
– Зато он добрый.
– Добрый, – соглашался Никитин, – жену чуть не зарезал. Все платья ейные спалил. Ребятишки в кедах бегают зимой… А так он добрый…
– Миша – человек безрассудный, я понимаю, но добрый и внутренне интеллигентный…
Действительно, было в Михал Иваныче что-то аристократическое. Пустые бутылки он не сдавал, выбрасывал.