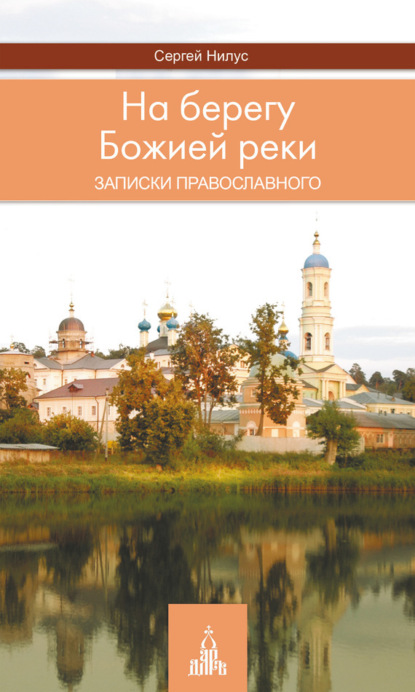По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На берегу Божией реки. Записки православного
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Накануне праздника, в 2 часа пополудни, прибыл настоятель Андреевского скита и с ним братии до десяти монахов. Встретили их со звоном, со славою, ввели в Пантелеймоновский собор, отслужили краткий молебен, а затем проводили на покой в царский фондарик, где гостям было предложено угощение. Здесь с давних пор заведено, что во время праздников настоятели обоих монастырей замещают друг друга для совершения богослужения: пантелеймоновские праздники служит в Пантелеймоновском монастыре андреевский настоятель, а андреевские в Андреевском – наш о. архимандрит Нифонт.
Сиромахи уже с утра толпились в нетерпеливом ожидании удовлетворения главного и неизменного их кредитора – чрева.
Увы, увы! Насколько велико здесь стремление к удовлетворению телесных потребностей, физического голода, настолько мал запрос на духовное питание. У всех на уме трапеза и «утешение» – сухарики, бараночки, конфеты, сливочное масло, яблоки, всякие сласти и… вино.
Чрево и самолюбие – это две главные пружины афонской жизни; все остальное, чем жива душа человека, замерло. Есть, конечно, и добре подвизающиеся, – иначе бы не стоять Афону, – но их не видно, они скрывают себя, и я их не знаю.
Поживу подольше, может быть, и увижу…
Накануне праздника меня назначили в чайную, чтобы поить сиромахов, а после них арагатов[53 - Монастырских рабочих.]. Сиромахов пришло на праздник человек триста. Были и молодые, и старые – и те, и другие оборванные и худые как скелеты. Аппетит у них волчий. Они пили чаи с неимоверной жадностью и все умоляли подбавлять сухарей из белого хлеба, которых им разнесли несколько больших мешков. Чаю они выпили неисчислимое количество. Нас, служащих, было десять человек, и мы едва успевали подавать, несмотря на то что чай с сахаром уже заранее был приготовлен в больших котлах, и наше дело было только разливать готовое. Бог с ними! Эти были хоть благодарны. Не то арагаты: им ничем нельзя было угодить, и они пили и ели чуть не с проклятием.
6 октября. Погода здесь как у нас в августе.
24 октября тихо и безболезненно скончался праведной кончиной архимандрит Нифонт. Несколько раз приобщался и был пособорован. Царство ему Небесное! К телу архимандрита прикладывались монахи, был допущен и я. Лежит он на диване в своей келье, в обстановке довольно бедной, в монашеском келейном одеянии, совершенно как живой.
Прислушиваюсь к разговорам и толкам, вызванным кончиной настоятеля, и вывожу заключение, что мы точно не аввы лишились, а какого-то дальнего родственника: большинство совершенно равнодушно, были бы и еще равнодушнее, если бы не неожиданность кончины. Шел толк о том, какие будут гости да какое будет угощение. Смущает это меня, немощного.
26 октября. Сегодня на день моего Ангела, св. великомученика Димитрия Солунского, удостоился причаститься Св. Тайн. Кончилась служба в храме, где я был, а через полчаса кончилась и литургия в Покровском соборе, где стояло тело почившего нашего настоятеля. Из Покровского собора тело после литургии было перенесено в Пантелеймоновский, где полагается отпевать всю старшую братию. Монашествующего люда собралось множество во главе с архиереем, несколькими архимандритами и игуменами. Картина отпевания была торжественная. При перенесении тела из собора в собор производилось фотографирование процессии.
Блажен почивший, избежавший бедствий, грядущих на вселенную, в частности на начальников монастырей! У меня невольно вырвалось восклицание: «Блаженны умирающие о Господе!..»
Отпевание длилось около трех часов. Поминальная трапеза началась только в пятом часу, и ею закончилось земное странствование архимандрита Нифонта.
После вечерни я пришел в свою келью и поблагодарил Бога за то, что день моего Ангела прошел так мирно и благочестиво. Вспомнилось, что в миру не так проводился этот день… Нет, в монастыре все-таки лучше!..
Наступила ночь. В 4 часа утра я лег спать. Только что я заснул, как проснулся от страшного стука, повторившегося два раза: это, как оказалось, бушевал психически больной, живущий в нашем коридоре. Какое-то смутное беспокойство закралось мне в сердце, но я все-таки вновь заснул на короткое время. Без четверти шесть я проснулся, но по лености своей опять лег, хотя до заутрени оставался только час и его надо было употребить на канон. Без четверти семь я снова проснулся и только хотел было встать, как – о ужас – затряслось все наше здание и запрыгали в моей комнате все предметы, как живые. Я вскочил и бросился на колени пред образом Спасителя, затем стремглав побежал в собор к утрени, чтобы хоть там обрести себе успокоение, ибо страшно был испуган. На этот раз все монашествующие, без отсталых, были в храме, и все в великом страхе. И было с чего: живущие более 40 лет в монастыре старцы говорят, что таких толчков они еще не испытывали на Афоне.
Перед началом утрени затряслось опять, но толчки были слабее. К общему удовольствию, вместо утрени начали служить молебен Божией Матери. Всем хотелось молиться, и молебен на всех подействовал успокоительно. Но вот пошли опять толчки все сильнее и сильнее; заколебалось и застучало здание храма, в котором мы молились. Но все-таки и это землетрясение не было сильным. После молебна началась утреня, во время которой толчки повторялись. Молодежь едва владела собою, но старцы были довольно спокойны… Толчки продолжались, но легкие… Вот тут-то и постиг я впервые отчетливо-ясно все непостоянство и суетность земного…
Только что возгласили: «Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим», – как ударил такой сильный толчок, что тут и старые, и молодые – все утратили душевное равновесие и устрашились. И было с чего, когда на наших глазах стали расседаться своды, а в алтаре из куполов посыпалась штукатурка и полетели кирпичи.
– Вот и конец тут всему!.. Сердце заколотилось в груди, готовое из нее вырваться.
Утреня прервалась. Диакон взволнованным голосом стал тянуть четку:
– Пресвятая Богородице, спаси нас!
Все стали метать поклоны. После сотницы стали продолжать утреню и, слава Богу, окончили ее благополучно. Толчки повторялись, но уже не такие сильные.
После утрени во всех храмах начались ранние обедни, а после них назначен был крестный ход вокруг монастыря. Во время ранней обедни был изрядный толчок, а затем все стихло.
В начале второго часа дня ударили в колокол к крестному ходу. Монахи собрались все до единого, и начались толки: один рассказывал, что видел знаменательный сон; другой, что это землетрясение было предсказано каким-то подвижником и т. д., и т. д. Стенные часы, оказывается, остановились у всех вместе с курантами на колокольне.
Крестный ход окончился благополучно, хотя почва все еще продолжала колебаться, но не сильно, не угрожающе. В 6 часов вечера все утихло, и все приступили к обычным своим занятиям.
В 8 часов вечера вновь начались довольно сильные толчки, и земля опять заколебалась, и опять всеми овладел жуткий страх. Под землей слышался гул. По монастырю всюду повреждены храмы и здания, сломаны дымоходные трубы, съехали черепичные кровли, своды и стены дали значительные трещины.
Со всей горы идут известия о катастрофе, сопровождаемой повсеместным разрушением. Страшно!
На повечерии опять сильно трясло, но только с расстановкой. После службы мало кто и пошел на отдых в свои кельи, боясь оказаться погребенным под их развалинами. Нервы у всех были напряжены до последней степени. Некоторые монахи ночь провели в кущах, а кто пошел в свою келью, тот не спал. Я часочка два от сильного утомления успел вздремнуть, хотя небольшое трясение продолжалось еще всю ночь. Понемногу даже и к нему начинали привыкать, но спокойствие едва ли кому удалось вернуть.
28 октября опять трясло и за заутреней, и за ранней обедней. В трапезе на три дня назначили пост. На занятия явились, но без всякой энергии – у всех руки точно отвалились. Земля все еще колебалась. В 10 часов вечера был опять сильный толчок, за повечерием тоже. Эту ночь опять провели без сна. Толчки продолжались всю ночь.
Так же беспокойно прошел и день 29 октября. 30-е пришлось на воскресенье. Назначено бдение и крестный ход. Слава Богу, воскресный день прошел благополучно.
Общее несчастье благотворно отозвалось на взаимоотношениях старшей и младшей братии: сразу установилось нечто вроде равенства и братолюбия, чего до землетрясения не было и в помине, ибо послушники и монахи, иеромонахи в особенности, отстояли друг от друга, яко востоцы от запад.
Пришел пароход из России, и с ним прибыли новости одна хуже другой: в Одессе будто бы перебили уже более тысячи евреев; Царь подписал якобы конституцию; будто рвут и предают поруганию царские портреты. Не хочу верить всем этим мерзостям, не хочу о них и слышать; предпочитаю не удовлетворять возбужденного любопытства и умолять Господа о ниспослании сынам России Духа Божия, Духа разума, Духа ведения и благочестия, дабы прекратилось нестроение вражие на дорогой моей родине.
Легкие колебания продолжались 31 октября, 1 и 3 ноября от пяти до шести раз в сутки. С горы идут слухи, что местами будто бы появилась лава и бывает виден вулканический огонь, но эти известия требуют подтверждения. Настроение у всех угнетенное, и оно способствует возникновению всякого рода дурных слухов. Из уст в уста передаются пророчества каких-то старцев о том, что сильное землетрясение вскоре повторится и разрушит весь Афон.
6 ноября. Землетрясение все еще продолжается до сего дня. Примечательно, что сильные толчки бывают через определенные промежутки времени: в час пополуночи, после повечерия и в 7–8 часов утра, во время заутрени. Когда происходят такие толчки, то все здание трясется.
Погода у нас стоит все время теплая: ходим в летней одежде и в кельях все окна открыты. А в Москве уже, наверно, теперь зима.
7 ноября. Слава и благодарение Богу и Царице небес и земли: ни вчера вечером, ни сегодня не было больше колебаний почвы, не было и зловещего подземного гула, который не умолкал все время и наводил ужас на всех нас, грешных.
Сегодня торжественно, с красным звоном встретили нового нашего настоятеля, бывшего наместником и настоятелем на Одесском подворье. Имя его – Мисаил. Он приветлив, обращение его простое, но держит себя с достоинством, по-архимандритски. С его приездом стало как-то спокойнее на душе: случись опять землетрясение, и оно, кажется, не показалось бы таким страшным. Таково влияние на человеческую душу законной власти.
16 ноября. До сегодняшнего дня все было почти спокойно. Если и бывали подземные толчки, то такие легкие, что даже не всем были заметны. Но вот сегодня в 4? часа утра опять началось сильное землетрясение. Я спал и проснулся оттого, что подо мной в буквальном смысле слова запрыгало мое ложе. Здание потрясалось, вываливались кирпичи, стены дали трещины. Не более 20 секунд продолжалась эта встряска, но, как потом оказалось, она причинила огромные бедствия на всей горе Афонской и сопровождалась даже человеческими жертвами: в Иверском монастыре, в монастыре св. Анны было убито свалившимися с гор камнями несколько человек рыбаков. Камнями же было повреждено и даже совсем разрушено много калибок, т. е. маленьких келий, в которых проживало по одному, по два монаха.
Опять стало тихо. Толчки не повторяются, но зато из России доходят страшные известия. Боже, что творится там! Убийства, бунты, кощунства в церквах, осквернение святыни. Куда девалось обезумевшее начальство, покинувшее свои посты? Где власть?.. Как-то вас, моих дорогих, в Москве Господь милует? Неужели мой вопль о вас не дойдет до Господа?
Помилуй и их и меня, Боже, Спасителю мой!
24 ноября. Все это время было относительно покойно. Сегодня же опять в заутреню, в 6? часов и 8 часов утра, были сильные толчки, повторявшиеся с какой-то резкой отрывистостью. Опять все в страхе. Что же это будет?
12 декабря. Опять все спокойно. Но что творится на дорогой нашей родине! Там безумие достигает, кажется, своего предела, того предела, за которым неминуемо должно последовать разрушение русского царства, если только не оглянется Господь…
Увы! И у нас конец покою: сегодня в 9 часов 45 минут вечера вновь было землетрясение, сильное и отрывистое, но повреждений от него не было.
14 декабря. Подземный гул опять не утихает, и опять трясется земля, хотя и не сильно.
20 декабря. В нашем коридоре живет монах, по мнению одних – прельщенный, других же – просто сумасшедший. Собирался я сегодня в 3 часа дня идти на послушание и встретил при выходе из кельи того монаха. Не успел я опомниться, как он подскочил ко мне и ударил с такою силой, что я пошатнулся и упал навзничь, ушиб и оцарапал при падении руку.
«Как ты смеешь меня бить?» – вскричал я и хотел было в свою очередь его ударить, но вместо того дважды осенил его крестным знамением. Монах стоял недвижимо и мне ничего не отвечал. Дело дошло до архимандрита, и ударившего меня монаха отправили в арестное монастырское помещение. Странно: от удара боли нет ни физической, ни нравственной.
Все это неважно. Но вот что важно: плохо духовное мое состояние, есть одно только доброе хотение, а дел не имею и все время творю не то, что хочу, а то, что не хочу, делаю. Время же улетает безвозвратно. Когда же восстану во всеоружии Божием, да освятит мя Христос Бог?..
11 января 1906 года. Проводили Рождество Христово, Новый год, Крещение – эти великие и святые дни для верующих. На Афоне праздники эти – не в церковной, конечно, жизни, а во внешней – мало чем отличаются от обыкновенных дней. Если бы не церковные службы, не календарь да не особые кушанья в трапезной, я бы не заметил и праздников. Не было духа праздничного.
Трапеза была следующая: первое блюдо было греческой кухни. Название его я забыл, но монахи говорили, что кушанье это долго готовится и дорого стоит – 50 копеек на человека. Это какая-то кисло-сладкая размазня острого вкуса и состоит из овечьего сыра, разных сортов орехов и других приправ. Мне это блюдо не понравилось. Второе блюдо – «мурун» – белуга, разрубленная на мелкие кусочки, в холодном соусе. При этом каждому полагалось по два апельсина и вино.
Чреву, стало быть, был праздник. Сегодня был гром и молния и льет дождь. Это вместо наших крещенских морозов… Землетрясения не было.
Но что в России? До нас доходят слухи, что в Москве совершается невообразимое революционное буйство. Молюсь за вас, мои дорогие, да не коснется вас эта казнь содомская! Где-то теперь вы? Что с вами?..
20 января. Хочу поскорее связать себя с Афоном. Сегодня представился отцу настоятелю и просил его постричь меня в ближайший постриг, т. е. Великим постом. О. Мисаил советовал обождать еще год. Я настаивал.
Сиромахи уже с утра толпились в нетерпеливом ожидании удовлетворения главного и неизменного их кредитора – чрева.
Увы, увы! Насколько велико здесь стремление к удовлетворению телесных потребностей, физического голода, настолько мал запрос на духовное питание. У всех на уме трапеза и «утешение» – сухарики, бараночки, конфеты, сливочное масло, яблоки, всякие сласти и… вино.
Чрево и самолюбие – это две главные пружины афонской жизни; все остальное, чем жива душа человека, замерло. Есть, конечно, и добре подвизающиеся, – иначе бы не стоять Афону, – но их не видно, они скрывают себя, и я их не знаю.
Поживу подольше, может быть, и увижу…
Накануне праздника меня назначили в чайную, чтобы поить сиромахов, а после них арагатов[53 - Монастырских рабочих.]. Сиромахов пришло на праздник человек триста. Были и молодые, и старые – и те, и другие оборванные и худые как скелеты. Аппетит у них волчий. Они пили чаи с неимоверной жадностью и все умоляли подбавлять сухарей из белого хлеба, которых им разнесли несколько больших мешков. Чаю они выпили неисчислимое количество. Нас, служащих, было десять человек, и мы едва успевали подавать, несмотря на то что чай с сахаром уже заранее был приготовлен в больших котлах, и наше дело было только разливать готовое. Бог с ними! Эти были хоть благодарны. Не то арагаты: им ничем нельзя было угодить, и они пили и ели чуть не с проклятием.
6 октября. Погода здесь как у нас в августе.
24 октября тихо и безболезненно скончался праведной кончиной архимандрит Нифонт. Несколько раз приобщался и был пособорован. Царство ему Небесное! К телу архимандрита прикладывались монахи, был допущен и я. Лежит он на диване в своей келье, в обстановке довольно бедной, в монашеском келейном одеянии, совершенно как живой.
Прислушиваюсь к разговорам и толкам, вызванным кончиной настоятеля, и вывожу заключение, что мы точно не аввы лишились, а какого-то дальнего родственника: большинство совершенно равнодушно, были бы и еще равнодушнее, если бы не неожиданность кончины. Шел толк о том, какие будут гости да какое будет угощение. Смущает это меня, немощного.
26 октября. Сегодня на день моего Ангела, св. великомученика Димитрия Солунского, удостоился причаститься Св. Тайн. Кончилась служба в храме, где я был, а через полчаса кончилась и литургия в Покровском соборе, где стояло тело почившего нашего настоятеля. Из Покровского собора тело после литургии было перенесено в Пантелеймоновский, где полагается отпевать всю старшую братию. Монашествующего люда собралось множество во главе с архиереем, несколькими архимандритами и игуменами. Картина отпевания была торжественная. При перенесении тела из собора в собор производилось фотографирование процессии.
Блажен почивший, избежавший бедствий, грядущих на вселенную, в частности на начальников монастырей! У меня невольно вырвалось восклицание: «Блаженны умирающие о Господе!..»
Отпевание длилось около трех часов. Поминальная трапеза началась только в пятом часу, и ею закончилось земное странствование архимандрита Нифонта.
После вечерни я пришел в свою келью и поблагодарил Бога за то, что день моего Ангела прошел так мирно и благочестиво. Вспомнилось, что в миру не так проводился этот день… Нет, в монастыре все-таки лучше!..
Наступила ночь. В 4 часа утра я лег спать. Только что я заснул, как проснулся от страшного стука, повторившегося два раза: это, как оказалось, бушевал психически больной, живущий в нашем коридоре. Какое-то смутное беспокойство закралось мне в сердце, но я все-таки вновь заснул на короткое время. Без четверти шесть я проснулся, но по лености своей опять лег, хотя до заутрени оставался только час и его надо было употребить на канон. Без четверти семь я снова проснулся и только хотел было встать, как – о ужас – затряслось все наше здание и запрыгали в моей комнате все предметы, как живые. Я вскочил и бросился на колени пред образом Спасителя, затем стремглав побежал в собор к утрени, чтобы хоть там обрести себе успокоение, ибо страшно был испуган. На этот раз все монашествующие, без отсталых, были в храме, и все в великом страхе. И было с чего: живущие более 40 лет в монастыре старцы говорят, что таких толчков они еще не испытывали на Афоне.
Перед началом утрени затряслось опять, но толчки были слабее. К общему удовольствию, вместо утрени начали служить молебен Божией Матери. Всем хотелось молиться, и молебен на всех подействовал успокоительно. Но вот пошли опять толчки все сильнее и сильнее; заколебалось и застучало здание храма, в котором мы молились. Но все-таки и это землетрясение не было сильным. После молебна началась утреня, во время которой толчки повторялись. Молодежь едва владела собою, но старцы были довольно спокойны… Толчки продолжались, но легкие… Вот тут-то и постиг я впервые отчетливо-ясно все непостоянство и суетность земного…
Только что возгласили: «Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим», – как ударил такой сильный толчок, что тут и старые, и молодые – все утратили душевное равновесие и устрашились. И было с чего, когда на наших глазах стали расседаться своды, а в алтаре из куполов посыпалась штукатурка и полетели кирпичи.
– Вот и конец тут всему!.. Сердце заколотилось в груди, готовое из нее вырваться.
Утреня прервалась. Диакон взволнованным голосом стал тянуть четку:
– Пресвятая Богородице, спаси нас!
Все стали метать поклоны. После сотницы стали продолжать утреню и, слава Богу, окончили ее благополучно. Толчки повторялись, но уже не такие сильные.
После утрени во всех храмах начались ранние обедни, а после них назначен был крестный ход вокруг монастыря. Во время ранней обедни был изрядный толчок, а затем все стихло.
В начале второго часа дня ударили в колокол к крестному ходу. Монахи собрались все до единого, и начались толки: один рассказывал, что видел знаменательный сон; другой, что это землетрясение было предсказано каким-то подвижником и т. д., и т. д. Стенные часы, оказывается, остановились у всех вместе с курантами на колокольне.
Крестный ход окончился благополучно, хотя почва все еще продолжала колебаться, но не сильно, не угрожающе. В 6 часов вечера все утихло, и все приступили к обычным своим занятиям.
В 8 часов вечера вновь начались довольно сильные толчки, и земля опять заколебалась, и опять всеми овладел жуткий страх. Под землей слышался гул. По монастырю всюду повреждены храмы и здания, сломаны дымоходные трубы, съехали черепичные кровли, своды и стены дали значительные трещины.
Со всей горы идут известия о катастрофе, сопровождаемой повсеместным разрушением. Страшно!
На повечерии опять сильно трясло, но только с расстановкой. После службы мало кто и пошел на отдых в свои кельи, боясь оказаться погребенным под их развалинами. Нервы у всех были напряжены до последней степени. Некоторые монахи ночь провели в кущах, а кто пошел в свою келью, тот не спал. Я часочка два от сильного утомления успел вздремнуть, хотя небольшое трясение продолжалось еще всю ночь. Понемногу даже и к нему начинали привыкать, но спокойствие едва ли кому удалось вернуть.
28 октября опять трясло и за заутреней, и за ранней обедней. В трапезе на три дня назначили пост. На занятия явились, но без всякой энергии – у всех руки точно отвалились. Земля все еще колебалась. В 10 часов вечера был опять сильный толчок, за повечерием тоже. Эту ночь опять провели без сна. Толчки продолжались всю ночь.
Так же беспокойно прошел и день 29 октября. 30-е пришлось на воскресенье. Назначено бдение и крестный ход. Слава Богу, воскресный день прошел благополучно.
Общее несчастье благотворно отозвалось на взаимоотношениях старшей и младшей братии: сразу установилось нечто вроде равенства и братолюбия, чего до землетрясения не было и в помине, ибо послушники и монахи, иеромонахи в особенности, отстояли друг от друга, яко востоцы от запад.
Пришел пароход из России, и с ним прибыли новости одна хуже другой: в Одессе будто бы перебили уже более тысячи евреев; Царь подписал якобы конституцию; будто рвут и предают поруганию царские портреты. Не хочу верить всем этим мерзостям, не хочу о них и слышать; предпочитаю не удовлетворять возбужденного любопытства и умолять Господа о ниспослании сынам России Духа Божия, Духа разума, Духа ведения и благочестия, дабы прекратилось нестроение вражие на дорогой моей родине.
Легкие колебания продолжались 31 октября, 1 и 3 ноября от пяти до шести раз в сутки. С горы идут слухи, что местами будто бы появилась лава и бывает виден вулканический огонь, но эти известия требуют подтверждения. Настроение у всех угнетенное, и оно способствует возникновению всякого рода дурных слухов. Из уст в уста передаются пророчества каких-то старцев о том, что сильное землетрясение вскоре повторится и разрушит весь Афон.
6 ноября. Землетрясение все еще продолжается до сего дня. Примечательно, что сильные толчки бывают через определенные промежутки времени: в час пополуночи, после повечерия и в 7–8 часов утра, во время заутрени. Когда происходят такие толчки, то все здание трясется.
Погода у нас стоит все время теплая: ходим в летней одежде и в кельях все окна открыты. А в Москве уже, наверно, теперь зима.
7 ноября. Слава и благодарение Богу и Царице небес и земли: ни вчера вечером, ни сегодня не было больше колебаний почвы, не было и зловещего подземного гула, который не умолкал все время и наводил ужас на всех нас, грешных.
Сегодня торжественно, с красным звоном встретили нового нашего настоятеля, бывшего наместником и настоятелем на Одесском подворье. Имя его – Мисаил. Он приветлив, обращение его простое, но держит себя с достоинством, по-архимандритски. С его приездом стало как-то спокойнее на душе: случись опять землетрясение, и оно, кажется, не показалось бы таким страшным. Таково влияние на человеческую душу законной власти.
16 ноября. До сегодняшнего дня все было почти спокойно. Если и бывали подземные толчки, то такие легкие, что даже не всем были заметны. Но вот сегодня в 4? часа утра опять началось сильное землетрясение. Я спал и проснулся оттого, что подо мной в буквальном смысле слова запрыгало мое ложе. Здание потрясалось, вываливались кирпичи, стены дали трещины. Не более 20 секунд продолжалась эта встряска, но, как потом оказалось, она причинила огромные бедствия на всей горе Афонской и сопровождалась даже человеческими жертвами: в Иверском монастыре, в монастыре св. Анны было убито свалившимися с гор камнями несколько человек рыбаков. Камнями же было повреждено и даже совсем разрушено много калибок, т. е. маленьких келий, в которых проживало по одному, по два монаха.
Опять стало тихо. Толчки не повторяются, но зато из России доходят страшные известия. Боже, что творится там! Убийства, бунты, кощунства в церквах, осквернение святыни. Куда девалось обезумевшее начальство, покинувшее свои посты? Где власть?.. Как-то вас, моих дорогих, в Москве Господь милует? Неужели мой вопль о вас не дойдет до Господа?
Помилуй и их и меня, Боже, Спасителю мой!
24 ноября. Все это время было относительно покойно. Сегодня же опять в заутреню, в 6? часов и 8 часов утра, были сильные толчки, повторявшиеся с какой-то резкой отрывистостью. Опять все в страхе. Что же это будет?
12 декабря. Опять все спокойно. Но что творится на дорогой нашей родине! Там безумие достигает, кажется, своего предела, того предела, за которым неминуемо должно последовать разрушение русского царства, если только не оглянется Господь…
Увы! И у нас конец покою: сегодня в 9 часов 45 минут вечера вновь было землетрясение, сильное и отрывистое, но повреждений от него не было.
14 декабря. Подземный гул опять не утихает, и опять трясется земля, хотя и не сильно.
20 декабря. В нашем коридоре живет монах, по мнению одних – прельщенный, других же – просто сумасшедший. Собирался я сегодня в 3 часа дня идти на послушание и встретил при выходе из кельи того монаха. Не успел я опомниться, как он подскочил ко мне и ударил с такою силой, что я пошатнулся и упал навзничь, ушиб и оцарапал при падении руку.
«Как ты смеешь меня бить?» – вскричал я и хотел было в свою очередь его ударить, но вместо того дважды осенил его крестным знамением. Монах стоял недвижимо и мне ничего не отвечал. Дело дошло до архимандрита, и ударившего меня монаха отправили в арестное монастырское помещение. Странно: от удара боли нет ни физической, ни нравственной.
Все это неважно. Но вот что важно: плохо духовное мое состояние, есть одно только доброе хотение, а дел не имею и все время творю не то, что хочу, а то, что не хочу, делаю. Время же улетает безвозвратно. Когда же восстану во всеоружии Божием, да освятит мя Христос Бог?..
11 января 1906 года. Проводили Рождество Христово, Новый год, Крещение – эти великие и святые дни для верующих. На Афоне праздники эти – не в церковной, конечно, жизни, а во внешней – мало чем отличаются от обыкновенных дней. Если бы не церковные службы, не календарь да не особые кушанья в трапезной, я бы не заметил и праздников. Не было духа праздничного.
Трапеза была следующая: первое блюдо было греческой кухни. Название его я забыл, но монахи говорили, что кушанье это долго готовится и дорого стоит – 50 копеек на человека. Это какая-то кисло-сладкая размазня острого вкуса и состоит из овечьего сыра, разных сортов орехов и других приправ. Мне это блюдо не понравилось. Второе блюдо – «мурун» – белуга, разрубленная на мелкие кусочки, в холодном соусе. При этом каждому полагалось по два апельсина и вино.
Чреву, стало быть, был праздник. Сегодня был гром и молния и льет дождь. Это вместо наших крещенских морозов… Землетрясения не было.
Но что в России? До нас доходят слухи, что в Москве совершается невообразимое революционное буйство. Молюсь за вас, мои дорогие, да не коснется вас эта казнь содомская! Где-то теперь вы? Что с вами?..
20 января. Хочу поскорее связать себя с Афоном. Сегодня представился отцу настоятелю и просил его постричь меня в ближайший постриг, т. е. Великим постом. О. Мисаил советовал обождать еще год. Я настаивал.