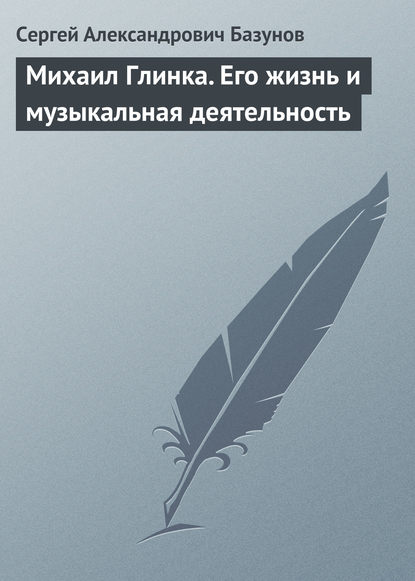По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Михаил Глинка. Его жизнь и музыкальная деятельность
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Больше же всего встревожило и поразило композитора то обстоятельство, что все, кому удавалось слышать отрывки «Руслана» на репетициях, уходили с каким-то смутным, странным впечатлением. Не объявляя прямо, что новая музыка Глинки не нравится, слушатели обнаруживали какое-то недоумение. О восторгах, какими приветствовали в свое время появление оперы «Жизнь за Царя», теперь не было и помину. Глинка удивлялся и тревожился все более и более. Да и в самом деле, откуда могла происходить такая холодность? Ведь это была опера, в которую он вложил всю душу свою, всю полноту своих творческих сил, все средства своего таланта. Ведь эта опера была гораздо совершеннее «Жизни за Царя»! И при всем том даже люди очевидно понимающие находили оперу неудачною. Так, например, однажды граф М. Ю. Виельгорский, прослушав первую половину пятого акта и обращаясь к Глинке, заметил ему самым искренним образом: «Mon cher, c'est mauvais!»[16 - Дорогой мой, это плохо! (фр.)]. Глинка возмутился. «Retirez vos paroles, M-r le comte, – отвечал он, – il est possible que cela ne fasse pas de l'effet, mais pour mauvais, certes, que ma musique ne l'est pas»[17 - Возьмите свои слова обратно, граф, возможно, что это не произведет эффекта, но плохой моя музыка, конечно, не является (фр.)]. Но граф только пожимал плечами и всякий раз, когда заходила речь о «Руслане», повторял: «C'est un opеra manquе».[18 - Это неудавшаяся опера (фр.)]
Вскоре после начала репетиций на сцене Глинке стали говорить, что в опере есть длинноты, что многие номера нужно сократить. Слышать это Глинке было, конечно, очень грустно, хотя кое с чем он соглашался и покорно сокращал все, что требовали; но тогда его ценители становились смелее и говорили, что нужно сократить что-нибудь еще, потом еще и еще. Наконец бедный композитор совсем отчаялся в успехе оперы, махнул на все рукою и предоставил делать сокращения гр. Виельгорскому. И граф принялся сокращать и сокращал нещадно, выбрасывая часто самые лучшие места…
В довершение всех бед, незадолго перед первым представлением Глинка имел несчастье поссориться с Булгариным, сказавши как-то, что тот «ничего в музыке не разумеет». За такой отзыв злопамятный издатель «Северной пчелы» отомстил композитору самым оригинальным образом. Именно, незадолго перед первым представлением «Руслана» он поместил в «Северной пчеле» (№ 250, от 7 ноября 1842 года) статью, в которой Глинке приписывались какие-то слова, оскорбительные для артистов оперы и оркестра. Артисты, разумеется, вознегодовали, стали играть умышленно небрежно, и как ни оправдывался перед ними Глинка, ему так и не удалось успокоить их. Все это, естественно, не обещало успеха опере.
Наступил наконец день первого представления, 27 ноября 1842 года. И как раз ко дню представления заболела примадонна Петрова, так что роль Ратмира принуждены были поручить воспитаннице, которая была еще весьма неопытна и ни в каком случае не могла заменить талантливую Петрову. Глинка чувствовал себя мучительно тяжело. Тревожное чувство, всегда овладевавшее им во время первых представлений его опер, на этот раз было особенно сильно. Он, правда, все еще надеялся на успех, но, осмысливая обстановку, в которой предстояло совершиться представлению, переставал надеяться. Однако все-таки нужно было ехать в театр и там испить горькую чашу неудачи.
Представление началось. Первый акт прошел еще довольно сносно, второй был бы тоже удовлетворителен, только хор в сцене Головы не справился со своей задачей и испортил дело. Когда же в третьем акте в сцене «И зной, и жар» появилась упомянутая воспитанница, действительно оказавшаяся весьма слабою, публика совершенно охладела к опере. Четвертый акт также не произвел эффекта, а в конце пятого действия императорская фамилия уехала из театра. И когда опустился занавес, то послышавшиеся было нерешительные аплодисменты тотчас были покрыты энергичным и дружным шиканьем большинства публики.
Это была полная неудача, неуспех, не оставлявший никаких сомнений. Глинка чувствовал себя невыразимо грустно… Погиб «Руслан»! Не другое что, не какая-нибудь второстепенная вещь, а «Руслан» – великолепное произведение искусства, плод установившихся взглядов композитора, наилучшее создание его зрелого возраста! Что же было делать далее? Значит, публика ничего не понимает в его новых музыкальных тенденциях. Иначе как же восторгаться оперой «Жизнь за Царя» и в то же время браковать оперу «Руслан и Людмила», произведение несомненно гораздо более совершенное? «Из „Руслана“ я мог бы сделать десять таких опер, как „Жизнь за Царя“,» – говорил бедный Глинка с горечью.
Увы, эти грустные соображения были, к несчастью, слишком справедливы, это были печальные истины. Правда, к третьему представлению выздоровела талантливая Петрова и провела свою сцену третьего акта с таким увлечением, что вызвала громкие и продолжительные рукоплескания; правда также, что до конца зимы этого года опера выдержала до тридцати представлений, но тем не менее это был только кажущийся успех. На самом деле аплодировали не столько Глинке, сколько таланту Петровой, а сама опера держалась на сцене лишь благодаря настойчивости дирекции и директора Гедеонова. Но в следующем году ее поспешили убрать из репертуара, и затем лет пятнадцать подряд Петербург совсем не видел «Руслана». Имя Глинки, чья популярность была подорвана еще в 1839 году начавшимся разводом с женой, еще более померкло с неудачей «Руслана и Людмилы». А в следующих 1843—1844 годах приехали в Россию итальянцы и совершенно заполонили петербургскую сцену, надолго поглотив все внимание публики. Итальянцы эти (за исключением некоторых отдельных имен) были весьма плохие артисты, но публика слушала гостей с нескрываемым восторгом, очевидно предпочитая их Глинке с его новой музыкой. При таком положении дел нашему композитору нечего было делать в России, и он поспешил уехать за границу…
Глава VIII. Музыка Глинки
Сродство музыки Глинки с народной русской музыкой. – Древнее происхождение русской песни. – Ее особенности. – Мелодия, гармония, ритм. – Значение музыки Глинки.
В предыдущих главах мы неоднократно упоминали о новых идеях и новых началах, которые Глинка внес в русскую музыку и которые обессмертили его имя в истории музыки. Эти новые начала в большей или меньшей степени проявляются во всех произведениях композитора, написанных в зрелом возрасте, эти же стремления ярко и определенно воплотились в опере «Жизнь за Царя», но с наибольшей полнотой и законченностью проявились они в chef-d’oeuvr'e Глинки, в опере «Руслан и Людмила». Каковы же эти новые тенденции, в чем состоят они и почему они законно прославили имя Глинки – вот вопросы, которые необходимо уяснить себе, чтобы оценить по достоинству гений и значение величайшего из русских композиторов.
Глинка велик и славен тем, что в основу своей новой музыки положил народную песню. Такова известная всем современная формула, определяющая значение нашего композитора. И действительно, ступайте в театр, прослушайте «Жизнь за Царя» и особенно «Руслана», наконец, разверните тот или другой романс Глинки, и вам, даже если у вас нет никакой теоретической подготовки, совершенно непроизвольно вспомнится именно русская песня. И мелодия, иногда прямо и целиком взятая из той или другой народной песни, и гармония, иногда даже и характерный ритм русской песни – словом, все свойства ее тут налицо. Таким образом, факт сродства музыки Глинки с народной не подлежит никакому сомнению. Но остается другой, весьма критический вопрос: в чем же все-таки заключается заслуга Глинки? Допуская родство его музыки с народною, нужно еще доказать, что она хороша, как нужно доказать то же самое и для народной музыки. Итак, почему музыка русской народной песни хороша и что в ней особенного?
Правда, наша чрезмерная пытливость может показаться читателю слишком педантичной, а наши вопросы: «Почему музыка Глинки хороша, почему народная песня хороша?» – смешными. Кажется, что на эти вопросы достаточно убедительно отвечает наше непосредственное чувство, непосредственные слуховые ощущения. И однако вопросы эти все-таки должны быть рассмотрены. Вспомните, что в 1842 году публика, слушавшая «Руслана», тоже имела слух, могла также отдаваться непосредственному чувству, в музыке Глинки непременно должна была расслышать народную песню и всю прелесть ее поэзии, однако… публика ничего не расслышала, и «Руслан» потерпел фиаско. Почему? Потому что тогдашняя публика не понимала значения и особенностей этой музыки и не признавала за ней никаких достоинств. Итак, скажем несколько слов о значении и особенностях русской народной песни.
Прежде всего нужно заметить, что настоящие русские песни по большей части весьма древнего происхождения. Об этом свидетельствует уже тот факт, давно замеченный археологами, что наши песни имеют значительное сходство с древнейшими памятниками народной музыки Западной Европы. Но народная музыка Запада уже давно окончила свое существование, тогда как в устах нашего народа и посейчас сохранились песни, от которых веет самой глубокой эпической древностью, поистине седой стариною. Рассмотрим же основные свойства этого первоисточника народного музыкального творчества; остановимся на мелодии, гармонии и ритме народной песни. Народная мелодия всегда была одноголосна и вовсе не имела аккордов. Этим она резко отличается от нашей современной музыки. Ибо если даже мы выделяем мелодию из какого-нибудь музыкального сочинения, из какой-нибудь музыкальной фразы, если мы сочиняем даже совершенно новую мелодию, еще не имеющую никаких аккордов, то мы все-таки невольно представляем существующие или необходимые в данном случае аккорды. Каждый отдельный тон мелодии для нас есть составная часть аккорда, и даже сам процесс изобретения мелодии часто сводится к простому разложению аккордов на их составные части (берется, например, октава, потом терция, квинта, затем опять квинта и так далее). Народная же песня, как сказано, совсем не имела аккордов, и при построении мелодии народ даже не представлял их себе. Мелодия эта всегда основана не на разложении аккорда, а на гамме, причем тоны этой гаммы берутся иногда подряд, а иногда вразбивку, однако непременно так, что из нескольких тонов сряду никогда или почти никогда не составляется аккорда. Чаще встречается второй способ построения мелодии (то есть из тонов гаммы, взятых вразбивку), хотя можно указать немало песен, построенных и в соответствии с первым (то есть из тонов гаммы, взятых подряд). Вот что еще говорит о народной мелодии глубокий знаток и исследователь русской песни Ларош: «Есть исследования тонов по ступеням гаммы (то есть тоны гаммы подряд, первый способ), в которых русская песня систематически выбрасывает один тон и тем порождает скачок пения замечательно характерный и замечательный особенною дикою грацией… Русская песня нередко отличается обширностью своего диапазона и качающимся характером движения тонов, которые не возвышаются и не понижаются решительно, а постоянно колеблются между тою и другою формой движения. Замечательна также в русской песне ее чисто восточная любовь к фиоритуре: мелодические украшения и вообще ноты, не имеющие каждая своего собственного слога в тексте, встречаются на каждом шагу». К этому можно прибавить, что все указанные свойства народной мелодии, взятые вместе, сообщают ей такую возвышенную и оригинальную красоту, какой мы решительно нигде не находим сравнения. Эта грандиозная величавость, эта внутренняя мощь, а местами дико-прелестная грация производят впечатление вполне неотразимое.
Переходя к гармонии народной песни, мы прежде всего должны установить, что, собственно, мы понимаем под этими словами. Гармония народной песни? Но выше было уже сказано, что все народные песни были задуманы и пелись без гармонии и только наш современный слух, не представляющий себе мелодии без аккордов, прибавляет к мелодии гармонию, гармонизирует ее. Поэтому с первого взгляда можно было бы сказать, что гармония народной песни есть результат современного, а не народного творчества. И однако это не так. Дело в том, что далеко не всякая гармония, даже из допускаемых слухом вообще, подходит эстетически к тому или другому виду мелодии. Мелодия в значительной мере влияет на гармонию; характер и тип первой определяет весьма точно тип и характер второй. Другими словами, только та гармония эстетически возможна, то есть правильно поясняет и истолковывает мелодию, которая отвечает складу, характеру и духу гармонизируемой мелодии. Таким образом, гармонизация народной песни вовсе не есть акт произвола, потому что мелодия песни властно предрешает все свойства и все особенности позднейшей своей гармонизации. Вот в каком смысле мы говорим о народной гармонии.
Каковы же особенности гармонии народной песни?
Вся масса известных в музыке аккордов может быть разделена на две крупные категории: консонансы и диссонансы. (Примером первых могут служить терция и квинта – отдельно или вместе взятые; если же к терции и квинте, вместе взятым, мы прибавим еще септиму, то есть седьмой от баса тон, то получится аккорд второй категории, то есть диссонанс). Консонансы производят на наш слух, говоря вообще, впечатление покоя; их можно повторять, выдерживать долго, и слух охотно на них останавливается; словом сказать, аккорды эти отражают душевное равновесие человека. Диссонансы, напротив, производят впечатление тревоги, волнуют и беспокоят слух. В противоположность консонансам они являются отрицанием покоя; они воплощают настроение порыва, движения, страсти и, как всякая страсть, не могут продолжаться долго и непременно должны смениться состоянием покоя, то есть консонансом. Вот почему, между прочим, и в современной музыке диссонанс почти никогда не заключает пьесы, – в конце непременно нужен консонанс.
Сказанного достаточно, чтобы понять, что в народной гармонии должны преобладать консонансы. И действительно, правильно понятая и правильно гармонизированная народная песня состоит почти исключительно из одних только консонансов. Музыка отражает духовную жизнь народа, а характерными свойствами народной души именно и являются простота, ясность и устойчивость миросозерцания, стихийная сила традиции и отсутствие в массе порывов, нервности, сомнений и колебаний. Однако с течением времени неизбежный исторический процесс выдвигает из среды народа некоторые обособленные группы – интеллигенцию. Сложность миросозерцания этих новых групп увеличивается, место догмата занимают сомнения и вопросы, а с ними неразлучны тревоги, волнения. Взгляды, идеалы и верования колеблются, быстро сменяясь одни другими. И музыка, продолжая исполнять свое историческое назначение, добросовестно отражает эту тревогу человеческой души, переходя от величайшей простоты и ясности к бесконечной сложности современных диссонансов. В них так же верно отражаются разрозненность и жизненные диссонансы современного общества, как в народной песне – величавая цельность и душевный мир народной массы.
Таким образом, современная культурная музыка имеет, конечно, все права на существование, потому что она есть, несомненно, один из видов красоты; но точно такое же право должно быть признано и за народной музыкой, потому что в своем роде и она удовлетворяет самым возвышенным требованиям той же красоты. Вот что говорит по этому поводу г-н Ларош: «Музыканту, вскормленному исключительно на прямом и пестром стиле нашего времени, гармония из одних консонансов покажется ничтожною в своих средствах», но это лишь «следствие одностороннего современного образования», а быть может, и «незнания истории музыки». На самом же деле «эпоха процветания церковной и вокальной музыки раскрыла все несметное богатство сочетаний, возможных и в пределах консонанса». И, отметив богатство и красоту народной гармонии, он заключает так: «Сложность сочетаний трезвучий (консонансов) между собою сообщает музыке возвышенный, идеальный характер, соперничающий с глубиною вдохновения».
Что касается ритма русской народной песни, то и в этом отношении она имеет особенность, резко отличающую ее не только от художественной, но и от народной музыки Запада. Характерная особенность эта заключается в том, что у нас, то есть в нашей народной песне, преобладают так называемые несимметричные размеры, то есть пятидольные, семидольные (5/4, 7/4) и пр. Симметричные же ритмы, то есть правильно повторяющиеся четные размеры, свойственные всему Западу, так же как и нашей культурной музыке, встречаются в русской песне сравнительно реже и по происхождению своему относятся к более позднему времени. Общим правилом остаются, таким образом, эти нечетные, несимметричные ритмы, и необыкновенной прелестью своей русская народная песня во многом обязана именно этому оригинальному свойству. Таковы главные особенности, отличающие русскую народную песню. Они так значительны и до того характерны, что решительно выделяют русскую песню как особый, самостоятельный род музыки, красота которого и поэтические достоинства ныне признаны всеми единогласно. Нет двух мнений о значении этих прелестных образцов народного творчества. В наше время они признаются бесспорно произведениями глубокой, истинной поэзии и источником, из которого культурная музыка еще долго будет черпать свое вдохновение. Одна из величайших заслуг Глинки состоит в том, что он в основу своей музыки положил русскую песню и правильно оценил этот драгоценный источник. Отбросив жалкую систему подражаний избитым итальянским образцам, он наполнил произведения своего зрелого возраста живою поэзией народного музыкального творчества. Непонятый современниками, впоследствии он породил своим примером целую школу, девиз которой – национальность, а цель – самостоятельное творчество в духе народных образцов. Таким образом, Глинка является родоначальником русской национальной музыки и ему же будет она обязана ожидающим ее дальнейшим развитием. В настоящее время русская музыка стоит на правильной дороге. Изучая произведения народного творчества и находя в них источник своего вдохновения, она имеет под ногами твердую национальную почву, и ее, конечно, ожидает блестящая и великая будущность.
Глава IX. Последний период жизни Глинки
Путешествие в Париж и Испанию. – Парижские концерты Берлиоза и Глинки. – Жизнь в Испании. – Возвращение в Россию. – Пребывание в Смоленске и Варшаве. – Поездки в Петербург. – Третье путешествие за границу. – Возвращение в Петербург. – Упадок творческих сил. – Занятия церковной музыкой. – Последняя поездка за границу. – Смерть Глинки. – Похороны в Берлине. – Перенесение праха в Россию.
Последний период жизни Глинки не богат внешними фактами и не отмечен какими-либо крупными произведениями. Опера «Руслан и Людмила» была, очевидно, кульминационным пунктом его художественной деятельности. Но опера эта потерпела неудачу, и композитор ясно увидел, что двигаться дальше в избранном направлении нет никакой возможности; для Глинки в тогдашней России не было еще публики. «Твоего Мишу, – пророчески говорил он сестре, Людмиле Ивановне Шестаковой, – поймут через 25 лет, а „Руслана“ – через 100 лет».
Да и сил, пожалуй, уже не хватало у нашего маэстро; только он сам мог бы рассказать, сколько душевной энергии ему пришлось потратить на свою художественную деятельность, сколько сил вложить хотя бы в одного «Руслана»…
В последний период жизни он большей частью жил за границей, мало создавая, мало действуя и, так сказать, оставаясь только наблюдателем совершавшейся вокруг него жизни.
Свою заграничную жизнь Глинка начал путешествием в Париж, откуда предполагал перебраться в Испанию. В Париже он, между прочим, мог рассчитывать и на некоторую популярность; там отчасти уже знали его по корреспонденциям из России, в особенности по критическим отзывам Генриха Мериме (брата известного Проспера Мериме)[19 - «Une annеe en Russie, lettres de Moscou en 1840». Revue de Paris, Mars, 1844. Эти отзывы особенно тронули Глинку, который говорил: «Ни один из моих соотечественников не отзывался до тех пор обо мне в таких лестных выражениях»]. Там познакомился он со знаменитым Гектором Берлиозом и сошелся с ним весьма близко. Нужно сказать, что в это время Берлиоз и его музыка были предметом самых горячих и разноречивых толков как во Франции, так и за границей. Мнения публики и специалистов разделились очень резко: иные восторгались новой музыкой Берлиоза безусловно, другие же, и притом большинство, столь же решительно бранили ее и отвергали всякое значение музыкальных идей французского композитора. Нужно было время, чтобы новая музыка завоевала себе права гражданства и общее признание. Поэтому особенно интересным представляется тогдашнее мнение о ней Глинки. Он вполне на стороне Берлиоза, художественное чутье ни на минуту не обмануло его, и он оказался одним из первых ценителей, правильно и по достоинству определивших значение творчества этого композитора. Вот небольшая выдержка из письма Глинки к Н. В. Кукольнику из Парижа от 18(6) апреля 1845 года: «Самая примечательная для меня встреча, это, без сомнения, с Берлиозом; изучить его произведения, столь порицаемые одними и столь превозносимые другими, было одним из моих музыкальных предположений в Париже… Я не только слышал музыку Берлиоза в концертах и на репетициях, но сблизился с этим первым, по моему мнению, композитором нашего века (разумеется в его специальности)… И вот мое мнение: в фантастической области искусства никто не приближался до этих колоссальных и вместе всегда новых соображений. Объем в целом, развитие подробностей, последовательность, гармоническая ткань, наконец, оркестр могучий и всегда новый – вот характер музыки Берлиоза…»
Что касается французского композитора, то нужно отдать ему справедливость, – он также оценил по достоинству гений Глинки и старался познакомить французскую публику с его сочинениями. Так, в марте 1845 года он дал несколько концертов, в которых исполнил между прочим некоторые из наиболее нравившихся ему произведений Глинки, например каватину из «Жизни за Царя», «В поле чистое гляжу», лезгинку и пр. Музыка Глинки имела успех, «succ?s d’estime»[20 - Успех, обусловленный уважением к автору (или исполнителю), а не достоинствами произведения (или исполнительского мастерства) (фр.)], как скромно называет его Глинка, и, ободренный им, наш композитор решился в апреле 1845 года дать свой концерт. На этот раз исполнены были в числе других произведений краковяк из «Жизни за Царя», марш Черномора из «Руслана», «Вальс-фантазия» (H-moll) и пр.
Зал был полон, аплодировали очень много, и хотя по этим немногим произведениям Глинки парижская публика не могла, конечно, составить себе ясное представление о размерах таланта нашего композитора, он все-таки имел успех и музыка его несомненно понравилась слушателям. Вслед за тем во многих солидных журналах, например в «Journal des Dеbats», в «Rеvue britannique», появились сочувственные отчеты и отзывы о Глинке и его концерте. Особенно обстоятельно писал Берлиоз, присоединивший к своей статье и краткую биографию своего музыкального собрата. Приязнь и добрые отношения обоих композиторов, таким образом возникшие, сохранились и в последующее время; они понимали и ценили друг друга…
Однако в Париже Глинка оставался не долго. Его влекло в Испанию, о которой он мечтал давно, чуть ли не с самого детства, и, пользуясь благоприятным случаем, в середине мая 1845 года он переправился через Пиренеи. Новые люди, новая природа, вся новая обстановка и мягкий климат, особенно благоприятный для болезненного организма Глинки, – все это оказало на него самое благотворное действие, и тяжелое настроение, не покидавшее его со времени неуспеха «Руслана», стало заметно светлее. В Испании он прожил более двух лет и побывал во многих испанских городах, везде изучая народные нравы, жизнь и в особенности национальные песни. Его особенно интересовали именно простонародные песни и характерные испанские танцы. Иногда случалось, что он просто останавливал какого-нибудь типичного простолюдина, и если оказывалось, что тот умеет петь или плясать, то Глинка зазывал его к себе, угощал, слушал и таким образом знакомился с народной поэзией в самом ее источнике. Но в Испании же всего яснее определилась, по нашему мнению, новая роль Глинки как только наблюдателя. В самом деле, за два года пребывания в этой стране он успел написать лишь известную «Арагонскую хоту» и «Ночь в Мадриде».
В Испании же, незадолго до отъезда оттуда, Глинка получил известие о расторжении своего брака с бывшей женой, но это позднее известие не особенно поразило его; он отнесся к нему совершенно равнодушно, потому что теперь это дело уже нисколько не интересовало его. В начале лета 1847 года Глинка оставил Испанию и через Париж, Вену и Варшаву возвратился в Россию.
На первое время по возвращении он поселился у себя дома, в Новоспасском. Никаких определенных планов на будущее у него не было; да и какие цели могли бы увлечь его теперь? Единственной целью его жизни было искусство, в нем открыл он свои собственные новые пути, но, выбитый силою сложившихся обстоятельств из проторенной колеи, он поневоле должен был сложить руки. Правда, можно было писать небольшие отдельные сочинения – Глинка и писал их изредка до конца своей жизни, – но могло ли это занятие наполнить жизнь творческого духа, уже проявившего себя такими капитальными созданиями, как «Жизнь за Царя» и «Руслан»? И бедный композитор, по-видимому, сознавал свое положение и уже не задавался никакими определенными целями на будущее время…
Зиму 1847 года Глинка рассчитывал провести в Смоленске и до января 1848 года действительно прожил там, ведя тихую и уединенную жизнь. Там же написал он несколько новых вещей, например романс «Ты скоро меня позабудешь», «Молитву» («В минуту жизни трудную») и кое-что другое. Но вскоре эта тихая жизнь была нарушена самым неприятным для него образом. Смоленское дворянство вздумало чествовать в его лице своего знаменитого земляка-композитора, и обеды, балы, вечера, следовавшие один за другим непрерывной цепью, вскоре довели утомленного Глинку до совершенного отчаяния и заставили его поспешить с отъездом.
Таким образом, в начале марта 1848 года наш композитор прибыл в Варшаву, где и поселился. Тогдашний наместник Королевства Польского, кн. Паскевич, узнав о прибытии Глинки, стал приглашать его к себе, относился к нему чрезвычайно любезно и вообще, так сказать, ухаживал за знаменитым маэстро. По просьбе князя Глинка занялся его оркестром и в короткое время привел его в порядок настолько, что он потом мог исполнять многие из произведений самого Глинки. Около этого времени Глинка написал свое известное «Recuerdos de Castilla» («Воспоминания о Кастилии») – попурри для оркестра, составленное из четырех испанских мелодий.
Осенью 1848 года Варшаву посетила холера, так что во избежание заражения обывателям приходилось сидеть дома. Наш композитор воспользовался этим вынужденным затворничеством – своим и своих знакомых – и написал тогда ряд прекрасных романсов, например «Слышу ли голос твой» (на слова Лермонтова), «Заздравный кубок» (на слова Пушкина), «Песнь Маргариты» (из «Фауста» Гете). Тогда же была написана для оркестра известная «Камаринская», составленная из двух народных песен – плясовой «Камаринской» и свадебной «Из-за гор».
Зимою 1848/49 года Глинка съездил на короткое время в Петербург, надеясь запастись там новыми впечатлениями. Но ожидания его не сбылись, и, возвратившись весною 1849 года в Варшаву, он прожил там почти безвыездно до самой осени 1851 года. Весь этот период жизни композитора не отмечен никакими выдающимися событиями, а из музыкальных произведений за все это время были написаны только романсы «Rozmowa» (на слова Мицкевича) и «Финский залив». Глинка скучал, да и могло ли быть иначе? Его угнетало отсутствие крупной художественной задачи, у него не было такой цели в жизни, которая могла бы воскресить и привести в движение его творческие силы. Этим и объясняется его малая производительность того времени. «Многие упрекают меня в лености, – писал он в 1850 году, – пусть эти господа займут мое место на время…» Действительно, кто дал бы себе труд вдуматься в тогдашнее душевное настроение композитора, тот воздержался бы от всяких упреков в бездействии.
Весною 1851 года Глинка получил известие о кончине своей горячо любимой матушки, и известие это до того поразило и расстроило его, что он заболел от горя. Оправившись от болезни, он поехал опять в Петербург, но и там не писал ничего существенного и, томимый однообразием бесцельной жизни, решился наконец опять уехать за границу.
Путешествие началось весною 1852 года, и целью его опять был избран Париж, потому что о тамошней жизни сохранились у Глинки самые приятные воспоминания еще со времени предыдущей поездки. Вскоре по приезде туда Михаил Иванович действительно почувствовал некоторый прилив творческих сил и попытался опять приняться за какую-нибудь капитальную работу. Предпринята была большая симфония для оркестра под названием «Тарас Бульба». Он даже написал уже первую и вторую части задуманной симфонии, однако почему-то остался недоволен ими и вскоре прекратил работу. Так эта симфония и осталась неоконченной и впоследствии была утрачена. Два последующих года прошли затем довольно незаметно. Разнообразные парижские впечатления не оставляли места скуке, а из серьезных занятий можно отметить предпринятое Глинкою изучение древних классиков. За время пребывания в Париже он успел прочесть Гомера, Софокла, Овидия и пр.
Весною 1854 года была объявлена война России с Францией, и Глинка нашел дальнейшее пребывание в Париже неудобным. Приехав в Петербург, он поселился у любимой сестры своей Людмилы Ивановны Шестаковой, которая окружила его самой теплой заботливостью и вниманием. В кругу семьи и друзей наш композитор почувствовал себя очень тепло и, стряхнув с себя апатию, принялся за работу. Прежде всего, исполняя просьбу сестры, он взялся за составление автобиографических «Записок» и, проработав до следующей весны, довел их до 1854 года. «Пишу я эти „Записки“, – говорит Глинка, – без всякого покушения на красоту слога, пишу просто, что было и как было, в хронологическом порядке». Действительно, записки эти, излагающие жизнь композитора весьма обстоятельно, написаны просто, без всяких вычур, правдиво и достаточно объективно. Они составляют весьма ценный материал для биографии нашего композитора.
В конце 1854 года Глинка написал известную «Детскую польку», посвятив ее своей маленькой племяннице, дочери сестры, Людмилы Ивановны, а в начале 1855 года был написан «Торжественный польский», предназначавшийся к коронации императора Александра II. Этот польский[21 - пляска и музыка к ней, коею обычно открывается бал (Словарь В. Даля); полонез] исполнялся в Москве на всех придворных балах и имел тогда большой успех.
В том же году Глинка задумал писать новую небольшую оперу под названием «Двумужница». Сюжет взят был из приволжского быта. Много мотивов – готовых и почти готовых – толпилось уже в голове композитора, работа обещала пойти на лад, был даже найден либреттист (некто Василько-Петров). Но какие-то странные и не совсем ясные обстоятельства затормозили работу, а потом Глинка захандрил и вовсе бросил задуманную оперу. Вот что рассказывает обо всем этом Л. И. Шестакова:
«В половине мая я должна была уехать по делам в деревню. Брат оставался в Петербурге. Я простилась с ним в то время, когда он был совершенно здоров, весел и доволен. Он с удовольствием занимался пением с Леоновою, принялся соображать оперу горячо и с любовью… При нем остались верные, хорошие люди: повар, человек и женщина, на которую я возложила всю хозяйственную часть, чтобы ничем не беспокоить брата. Я уезжала совершенно покойная, зная, что Гейденрейх (доктор Глинки) и другие знакомые будут навещать его и беречь. Для него уход был необходим; он так привык к этому с самого детства, что уже это превратилось у него не в привычку, но в необходимость. В деревню брат писал мне, как обыкновенно, раз в неделю. Описывал, что делал в прошлую неделю и что намерен был делать в будущую. В июне письма брата были хорошие, веселые, довольные; в июле он начал жаловаться на жары, на В. В. Стасова, который назойливо требует, чтобы брат сочинял, тогда как он этого не может; потом на либреттиста; в конце июля он уже жаловался на все и всех, а в начале августа я получила от него письмо, в котором он просил меня поспешить приездом, чтобы выпроводить его в Варшаву, потому что он более оставаться в Петербурге не может.
Я, конечно, не заставила брата повторить просьбу и немедля возвратилась к нему. Он нам очень обрадовался и сказал: „Ты мне сделала сюрприз; я не ждал тебя так рано“. На мой ответ, что я поспешила исполнить его желание и привезла с собою все, что нужно для его отъезда, он сказал мне: „О делах ни слова; три дня ты у меня гостья, а потом поговорим“. Но не дождались мы трех дней, и на другой же день он уже решил, что остается в Петербурге до весны, что „Двумужницы“ писать не будет, что она ему опротивела по многому и что либреттист его наделал ему неприятностей». Либреттист этот, в течение лета посещавший Глинку очень часто, в августе как-то очень странно пропал, а потом стало слышно, что он распускает по городу какие-то нелепые слухи о Глинке. Сношения композитора и либреттиста, таким образом, прекратились, и задуманная опера осталась ненаписанной.
Настроение Глинки еще ухудшилось. С одной стороны, на него повлияла неудача этой новой попытки создать что-нибудь крупное и капитальное, с другой стороны, и здоровье его стало заметно расстраиваться, и скоро самая мрачная апатия овладела его светлой душою. Вот что писал он в ноябре 1855 года одному из своих друзей, В. П. Энгельгардту: «Любезнейший барон В. П.! Не сетуйте на меня за мое долгое молчание и верьте, что не лень, а страдания и скука не допускали меня писать к вам. Да и о чем писать? Моя теперешняя жизнь до такой степени утомительно единообразна, что, право, нечего сообщить вам… Досады, огорчения и страдания меня сгубили, я решительно упал духом (dеmoralisе). Жду весны, чтобы удрать куда-нибудь отсюда».
Зима 1855/56 года прошла с грехом пополам. По-прежнему Глинку окружали любящие и преданные люди. Даргомыжский, Стасовы, Серов, Балакирев бывали у него очень часто, стараясь чем-нибудь и как-нибудь успокоить и ободрить дорогого им человека, но все было напрасно. Ничто не развлекало страдальца, и какая-то глухая внутренняя тревога беспокоила его неотступно.
Однако душа композитора все еще была жива, и светлая мысль его вскоре опять встрепенулась: на этот раз внимание его привлекла к себе церковная музыка. Нужно сказать, что еще в начале 1855 года он пробовал свои силы в этой новой для него области и написал тогда «Да исправится» и «Ектении обедни» на три голоса. Теперь же он задался мыслью разработать русскую церковную музыку в своем творчестве и, желая основательно подготовиться к такому делу, решил отправиться сначала в Берлин и проштудировать там со своим старым учителем Деном курс теории церковной музыки. Никто, конечно, не отговаривал его от такой поездки, и 27 апреля 1856 года Глинка уехал, направляясь в Берлин. Перед отъездом он написал романс «Не говори, что сердцу больно», не подозревая, что этот романс его будет последним, как была последнею и эта поездка его за границу.
В Берлине Глинка около десяти месяцев занимался с Деном церковною музыкой, ведя довольно уединенный образ жизни и по временам прихварывая. Изредка встречался он с Мейербером, с которым был знаком еще по прежним поездкам за границу, а также и с некоторыми другими знаменитостями берлинского музыкального мира и мог порадоваться, видя всеобщее и искреннее признание своего таланта. В январе 1857 года он получил приглашение на парадный концерт в королевском дворце, где должны были исполняться некоторые из его произведений, и музыка Глинки произвела на публику огромное впечатление. Вот что писал он об этом концерте в последнем письме своем к сестре Л. И. Шестаковой:
«21(9) января исполнили в королевском дворце известное трио из „Жизни за Царя“ „Ах, не мне, бедному сиротинушке“. Пела партию Петровой по справедливости любимая здешней публикой m-me Вагнер; она была в ударе и пропела очень, очень удовлетворительно. Оркестром управлял Мейербер, и надо сознаться, что он отличнейший капельмейстер во всех отношениях. Я также был приглашен во дворец, где пробыл более четырех часов. Чтобы понять важность этого события для меня, надобно знать, что это единственный концерт в году, tout en grand gala[22 - настоящий концерт-гала (фр.)]: публики было от 500 до 700 особ, все залито золотом и сверкало бриллиантами. Если не ошибаюсь, полагаю, что я первый из русских, достигший подобной чести». Нужно знать, что наш композитор всегда признавал за германской публикой особенную музыкальность и художественное понимание, а потому мог справедливо гордиться успехом своей музыки в Берлине.
Но увы! Это были уже последний успех и последняя радость в жизни Глинки. Тут же, выходя из концерта, разгоряченный, он сильно простудился и уже на другой день слег в постель. Болезнь чрезвычайно быстро развивалась, и в ночь со 2 на 3 февраля 1857 года величайший из русских композиторов отошел в вечность.
Все это случилось так неожиданно и сама смерть последовала так быстро, что никто из родственников и друзей покойного не успел получить своевременного извещения о случившейся катастрофе и приехать в Берлин хотя бы ко дню погребения. Первоначально тело Глинки похоронили на берлинском кладбище. За гробом композитора шли Мейербер, Ден, Бейер, некоторые другие музыканты и кое-кто из членов русской колонии Берлина, но сами похороны не отличались никакой пышностью. На временной могиле русского композитора поставлен был простой памятник из силезского мрамора с соответственно простой надписью: «Michail von Glinka» и проч.
Но вслед за тем среди русского общества возникло единодушное желание перенести дорогой прах в Россию. Сестра покойного композитора хлопотала о высочайшем соизволении на это предприятие, и вскоре последовало высочайшее повеление, давшее возможность и средства перевезти прах Глинки в Петербург. 22 мая прибыл пароход с телом Михаила Ивановича Глинки, а 24 мая 1857 года прах великого русского композитора окончательно успокоился на кладбище Александро-Невского монастыря в Петербурге. На могиле его тогда же поставили весьма изящный памятник, а в 1885 году в Смоленске, на средства, собранные по всенародной подписке, воздвигли другой, изображающий фигуру композитора во весь рост, с краткой, но выразительной надписью на высоком пьедестале: «Глинке – Россия».
Источники
Вскоре после начала репетиций на сцене Глинке стали говорить, что в опере есть длинноты, что многие номера нужно сократить. Слышать это Глинке было, конечно, очень грустно, хотя кое с чем он соглашался и покорно сокращал все, что требовали; но тогда его ценители становились смелее и говорили, что нужно сократить что-нибудь еще, потом еще и еще. Наконец бедный композитор совсем отчаялся в успехе оперы, махнул на все рукою и предоставил делать сокращения гр. Виельгорскому. И граф принялся сокращать и сокращал нещадно, выбрасывая часто самые лучшие места…
В довершение всех бед, незадолго перед первым представлением Глинка имел несчастье поссориться с Булгариным, сказавши как-то, что тот «ничего в музыке не разумеет». За такой отзыв злопамятный издатель «Северной пчелы» отомстил композитору самым оригинальным образом. Именно, незадолго перед первым представлением «Руслана» он поместил в «Северной пчеле» (№ 250, от 7 ноября 1842 года) статью, в которой Глинке приписывались какие-то слова, оскорбительные для артистов оперы и оркестра. Артисты, разумеется, вознегодовали, стали играть умышленно небрежно, и как ни оправдывался перед ними Глинка, ему так и не удалось успокоить их. Все это, естественно, не обещало успеха опере.
Наступил наконец день первого представления, 27 ноября 1842 года. И как раз ко дню представления заболела примадонна Петрова, так что роль Ратмира принуждены были поручить воспитаннице, которая была еще весьма неопытна и ни в каком случае не могла заменить талантливую Петрову. Глинка чувствовал себя мучительно тяжело. Тревожное чувство, всегда овладевавшее им во время первых представлений его опер, на этот раз было особенно сильно. Он, правда, все еще надеялся на успех, но, осмысливая обстановку, в которой предстояло совершиться представлению, переставал надеяться. Однако все-таки нужно было ехать в театр и там испить горькую чашу неудачи.
Представление началось. Первый акт прошел еще довольно сносно, второй был бы тоже удовлетворителен, только хор в сцене Головы не справился со своей задачей и испортил дело. Когда же в третьем акте в сцене «И зной, и жар» появилась упомянутая воспитанница, действительно оказавшаяся весьма слабою, публика совершенно охладела к опере. Четвертый акт также не произвел эффекта, а в конце пятого действия императорская фамилия уехала из театра. И когда опустился занавес, то послышавшиеся было нерешительные аплодисменты тотчас были покрыты энергичным и дружным шиканьем большинства публики.
Это была полная неудача, неуспех, не оставлявший никаких сомнений. Глинка чувствовал себя невыразимо грустно… Погиб «Руслан»! Не другое что, не какая-нибудь второстепенная вещь, а «Руслан» – великолепное произведение искусства, плод установившихся взглядов композитора, наилучшее создание его зрелого возраста! Что же было делать далее? Значит, публика ничего не понимает в его новых музыкальных тенденциях. Иначе как же восторгаться оперой «Жизнь за Царя» и в то же время браковать оперу «Руслан и Людмила», произведение несомненно гораздо более совершенное? «Из „Руслана“ я мог бы сделать десять таких опер, как „Жизнь за Царя“,» – говорил бедный Глинка с горечью.
Увы, эти грустные соображения были, к несчастью, слишком справедливы, это были печальные истины. Правда, к третьему представлению выздоровела талантливая Петрова и провела свою сцену третьего акта с таким увлечением, что вызвала громкие и продолжительные рукоплескания; правда также, что до конца зимы этого года опера выдержала до тридцати представлений, но тем не менее это был только кажущийся успех. На самом деле аплодировали не столько Глинке, сколько таланту Петровой, а сама опера держалась на сцене лишь благодаря настойчивости дирекции и директора Гедеонова. Но в следующем году ее поспешили убрать из репертуара, и затем лет пятнадцать подряд Петербург совсем не видел «Руслана». Имя Глинки, чья популярность была подорвана еще в 1839 году начавшимся разводом с женой, еще более померкло с неудачей «Руслана и Людмилы». А в следующих 1843—1844 годах приехали в Россию итальянцы и совершенно заполонили петербургскую сцену, надолго поглотив все внимание публики. Итальянцы эти (за исключением некоторых отдельных имен) были весьма плохие артисты, но публика слушала гостей с нескрываемым восторгом, очевидно предпочитая их Глинке с его новой музыкой. При таком положении дел нашему композитору нечего было делать в России, и он поспешил уехать за границу…
Глава VIII. Музыка Глинки
Сродство музыки Глинки с народной русской музыкой. – Древнее происхождение русской песни. – Ее особенности. – Мелодия, гармония, ритм. – Значение музыки Глинки.
В предыдущих главах мы неоднократно упоминали о новых идеях и новых началах, которые Глинка внес в русскую музыку и которые обессмертили его имя в истории музыки. Эти новые начала в большей или меньшей степени проявляются во всех произведениях композитора, написанных в зрелом возрасте, эти же стремления ярко и определенно воплотились в опере «Жизнь за Царя», но с наибольшей полнотой и законченностью проявились они в chef-d’oeuvr'e Глинки, в опере «Руслан и Людмила». Каковы же эти новые тенденции, в чем состоят они и почему они законно прославили имя Глинки – вот вопросы, которые необходимо уяснить себе, чтобы оценить по достоинству гений и значение величайшего из русских композиторов.
Глинка велик и славен тем, что в основу своей новой музыки положил народную песню. Такова известная всем современная формула, определяющая значение нашего композитора. И действительно, ступайте в театр, прослушайте «Жизнь за Царя» и особенно «Руслана», наконец, разверните тот или другой романс Глинки, и вам, даже если у вас нет никакой теоретической подготовки, совершенно непроизвольно вспомнится именно русская песня. И мелодия, иногда прямо и целиком взятая из той или другой народной песни, и гармония, иногда даже и характерный ритм русской песни – словом, все свойства ее тут налицо. Таким образом, факт сродства музыки Глинки с народной не подлежит никакому сомнению. Но остается другой, весьма критический вопрос: в чем же все-таки заключается заслуга Глинки? Допуская родство его музыки с народною, нужно еще доказать, что она хороша, как нужно доказать то же самое и для народной музыки. Итак, почему музыка русской народной песни хороша и что в ней особенного?
Правда, наша чрезмерная пытливость может показаться читателю слишком педантичной, а наши вопросы: «Почему музыка Глинки хороша, почему народная песня хороша?» – смешными. Кажется, что на эти вопросы достаточно убедительно отвечает наше непосредственное чувство, непосредственные слуховые ощущения. И однако вопросы эти все-таки должны быть рассмотрены. Вспомните, что в 1842 году публика, слушавшая «Руслана», тоже имела слух, могла также отдаваться непосредственному чувству, в музыке Глинки непременно должна была расслышать народную песню и всю прелесть ее поэзии, однако… публика ничего не расслышала, и «Руслан» потерпел фиаско. Почему? Потому что тогдашняя публика не понимала значения и особенностей этой музыки и не признавала за ней никаких достоинств. Итак, скажем несколько слов о значении и особенностях русской народной песни.
Прежде всего нужно заметить, что настоящие русские песни по большей части весьма древнего происхождения. Об этом свидетельствует уже тот факт, давно замеченный археологами, что наши песни имеют значительное сходство с древнейшими памятниками народной музыки Западной Европы. Но народная музыка Запада уже давно окончила свое существование, тогда как в устах нашего народа и посейчас сохранились песни, от которых веет самой глубокой эпической древностью, поистине седой стариною. Рассмотрим же основные свойства этого первоисточника народного музыкального творчества; остановимся на мелодии, гармонии и ритме народной песни. Народная мелодия всегда была одноголосна и вовсе не имела аккордов. Этим она резко отличается от нашей современной музыки. Ибо если даже мы выделяем мелодию из какого-нибудь музыкального сочинения, из какой-нибудь музыкальной фразы, если мы сочиняем даже совершенно новую мелодию, еще не имеющую никаких аккордов, то мы все-таки невольно представляем существующие или необходимые в данном случае аккорды. Каждый отдельный тон мелодии для нас есть составная часть аккорда, и даже сам процесс изобретения мелодии часто сводится к простому разложению аккордов на их составные части (берется, например, октава, потом терция, квинта, затем опять квинта и так далее). Народная же песня, как сказано, совсем не имела аккордов, и при построении мелодии народ даже не представлял их себе. Мелодия эта всегда основана не на разложении аккорда, а на гамме, причем тоны этой гаммы берутся иногда подряд, а иногда вразбивку, однако непременно так, что из нескольких тонов сряду никогда или почти никогда не составляется аккорда. Чаще встречается второй способ построения мелодии (то есть из тонов гаммы, взятых вразбивку), хотя можно указать немало песен, построенных и в соответствии с первым (то есть из тонов гаммы, взятых подряд). Вот что еще говорит о народной мелодии глубокий знаток и исследователь русской песни Ларош: «Есть исследования тонов по ступеням гаммы (то есть тоны гаммы подряд, первый способ), в которых русская песня систематически выбрасывает один тон и тем порождает скачок пения замечательно характерный и замечательный особенною дикою грацией… Русская песня нередко отличается обширностью своего диапазона и качающимся характером движения тонов, которые не возвышаются и не понижаются решительно, а постоянно колеблются между тою и другою формой движения. Замечательна также в русской песне ее чисто восточная любовь к фиоритуре: мелодические украшения и вообще ноты, не имеющие каждая своего собственного слога в тексте, встречаются на каждом шагу». К этому можно прибавить, что все указанные свойства народной мелодии, взятые вместе, сообщают ей такую возвышенную и оригинальную красоту, какой мы решительно нигде не находим сравнения. Эта грандиозная величавость, эта внутренняя мощь, а местами дико-прелестная грация производят впечатление вполне неотразимое.
Переходя к гармонии народной песни, мы прежде всего должны установить, что, собственно, мы понимаем под этими словами. Гармония народной песни? Но выше было уже сказано, что все народные песни были задуманы и пелись без гармонии и только наш современный слух, не представляющий себе мелодии без аккордов, прибавляет к мелодии гармонию, гармонизирует ее. Поэтому с первого взгляда можно было бы сказать, что гармония народной песни есть результат современного, а не народного творчества. И однако это не так. Дело в том, что далеко не всякая гармония, даже из допускаемых слухом вообще, подходит эстетически к тому или другому виду мелодии. Мелодия в значительной мере влияет на гармонию; характер и тип первой определяет весьма точно тип и характер второй. Другими словами, только та гармония эстетически возможна, то есть правильно поясняет и истолковывает мелодию, которая отвечает складу, характеру и духу гармонизируемой мелодии. Таким образом, гармонизация народной песни вовсе не есть акт произвола, потому что мелодия песни властно предрешает все свойства и все особенности позднейшей своей гармонизации. Вот в каком смысле мы говорим о народной гармонии.
Каковы же особенности гармонии народной песни?
Вся масса известных в музыке аккордов может быть разделена на две крупные категории: консонансы и диссонансы. (Примером первых могут служить терция и квинта – отдельно или вместе взятые; если же к терции и квинте, вместе взятым, мы прибавим еще септиму, то есть седьмой от баса тон, то получится аккорд второй категории, то есть диссонанс). Консонансы производят на наш слух, говоря вообще, впечатление покоя; их можно повторять, выдерживать долго, и слух охотно на них останавливается; словом сказать, аккорды эти отражают душевное равновесие человека. Диссонансы, напротив, производят впечатление тревоги, волнуют и беспокоят слух. В противоположность консонансам они являются отрицанием покоя; они воплощают настроение порыва, движения, страсти и, как всякая страсть, не могут продолжаться долго и непременно должны смениться состоянием покоя, то есть консонансом. Вот почему, между прочим, и в современной музыке диссонанс почти никогда не заключает пьесы, – в конце непременно нужен консонанс.
Сказанного достаточно, чтобы понять, что в народной гармонии должны преобладать консонансы. И действительно, правильно понятая и правильно гармонизированная народная песня состоит почти исключительно из одних только консонансов. Музыка отражает духовную жизнь народа, а характерными свойствами народной души именно и являются простота, ясность и устойчивость миросозерцания, стихийная сила традиции и отсутствие в массе порывов, нервности, сомнений и колебаний. Однако с течением времени неизбежный исторический процесс выдвигает из среды народа некоторые обособленные группы – интеллигенцию. Сложность миросозерцания этих новых групп увеличивается, место догмата занимают сомнения и вопросы, а с ними неразлучны тревоги, волнения. Взгляды, идеалы и верования колеблются, быстро сменяясь одни другими. И музыка, продолжая исполнять свое историческое назначение, добросовестно отражает эту тревогу человеческой души, переходя от величайшей простоты и ясности к бесконечной сложности современных диссонансов. В них так же верно отражаются разрозненность и жизненные диссонансы современного общества, как в народной песне – величавая цельность и душевный мир народной массы.
Таким образом, современная культурная музыка имеет, конечно, все права на существование, потому что она есть, несомненно, один из видов красоты; но точно такое же право должно быть признано и за народной музыкой, потому что в своем роде и она удовлетворяет самым возвышенным требованиям той же красоты. Вот что говорит по этому поводу г-н Ларош: «Музыканту, вскормленному исключительно на прямом и пестром стиле нашего времени, гармония из одних консонансов покажется ничтожною в своих средствах», но это лишь «следствие одностороннего современного образования», а быть может, и «незнания истории музыки». На самом же деле «эпоха процветания церковной и вокальной музыки раскрыла все несметное богатство сочетаний, возможных и в пределах консонанса». И, отметив богатство и красоту народной гармонии, он заключает так: «Сложность сочетаний трезвучий (консонансов) между собою сообщает музыке возвышенный, идеальный характер, соперничающий с глубиною вдохновения».
Что касается ритма русской народной песни, то и в этом отношении она имеет особенность, резко отличающую ее не только от художественной, но и от народной музыки Запада. Характерная особенность эта заключается в том, что у нас, то есть в нашей народной песне, преобладают так называемые несимметричные размеры, то есть пятидольные, семидольные (5/4, 7/4) и пр. Симметричные же ритмы, то есть правильно повторяющиеся четные размеры, свойственные всему Западу, так же как и нашей культурной музыке, встречаются в русской песне сравнительно реже и по происхождению своему относятся к более позднему времени. Общим правилом остаются, таким образом, эти нечетные, несимметричные ритмы, и необыкновенной прелестью своей русская народная песня во многом обязана именно этому оригинальному свойству. Таковы главные особенности, отличающие русскую народную песню. Они так значительны и до того характерны, что решительно выделяют русскую песню как особый, самостоятельный род музыки, красота которого и поэтические достоинства ныне признаны всеми единогласно. Нет двух мнений о значении этих прелестных образцов народного творчества. В наше время они признаются бесспорно произведениями глубокой, истинной поэзии и источником, из которого культурная музыка еще долго будет черпать свое вдохновение. Одна из величайших заслуг Глинки состоит в том, что он в основу своей музыки положил русскую песню и правильно оценил этот драгоценный источник. Отбросив жалкую систему подражаний избитым итальянским образцам, он наполнил произведения своего зрелого возраста живою поэзией народного музыкального творчества. Непонятый современниками, впоследствии он породил своим примером целую школу, девиз которой – национальность, а цель – самостоятельное творчество в духе народных образцов. Таким образом, Глинка является родоначальником русской национальной музыки и ему же будет она обязана ожидающим ее дальнейшим развитием. В настоящее время русская музыка стоит на правильной дороге. Изучая произведения народного творчества и находя в них источник своего вдохновения, она имеет под ногами твердую национальную почву, и ее, конечно, ожидает блестящая и великая будущность.
Глава IX. Последний период жизни Глинки
Путешествие в Париж и Испанию. – Парижские концерты Берлиоза и Глинки. – Жизнь в Испании. – Возвращение в Россию. – Пребывание в Смоленске и Варшаве. – Поездки в Петербург. – Третье путешествие за границу. – Возвращение в Петербург. – Упадок творческих сил. – Занятия церковной музыкой. – Последняя поездка за границу. – Смерть Глинки. – Похороны в Берлине. – Перенесение праха в Россию.
Последний период жизни Глинки не богат внешними фактами и не отмечен какими-либо крупными произведениями. Опера «Руслан и Людмила» была, очевидно, кульминационным пунктом его художественной деятельности. Но опера эта потерпела неудачу, и композитор ясно увидел, что двигаться дальше в избранном направлении нет никакой возможности; для Глинки в тогдашней России не было еще публики. «Твоего Мишу, – пророчески говорил он сестре, Людмиле Ивановне Шестаковой, – поймут через 25 лет, а „Руслана“ – через 100 лет».
Да и сил, пожалуй, уже не хватало у нашего маэстро; только он сам мог бы рассказать, сколько душевной энергии ему пришлось потратить на свою художественную деятельность, сколько сил вложить хотя бы в одного «Руслана»…
В последний период жизни он большей частью жил за границей, мало создавая, мало действуя и, так сказать, оставаясь только наблюдателем совершавшейся вокруг него жизни.
Свою заграничную жизнь Глинка начал путешествием в Париж, откуда предполагал перебраться в Испанию. В Париже он, между прочим, мог рассчитывать и на некоторую популярность; там отчасти уже знали его по корреспонденциям из России, в особенности по критическим отзывам Генриха Мериме (брата известного Проспера Мериме)[19 - «Une annеe en Russie, lettres de Moscou en 1840». Revue de Paris, Mars, 1844. Эти отзывы особенно тронули Глинку, который говорил: «Ни один из моих соотечественников не отзывался до тех пор обо мне в таких лестных выражениях»]. Там познакомился он со знаменитым Гектором Берлиозом и сошелся с ним весьма близко. Нужно сказать, что в это время Берлиоз и его музыка были предметом самых горячих и разноречивых толков как во Франции, так и за границей. Мнения публики и специалистов разделились очень резко: иные восторгались новой музыкой Берлиоза безусловно, другие же, и притом большинство, столь же решительно бранили ее и отвергали всякое значение музыкальных идей французского композитора. Нужно было время, чтобы новая музыка завоевала себе права гражданства и общее признание. Поэтому особенно интересным представляется тогдашнее мнение о ней Глинки. Он вполне на стороне Берлиоза, художественное чутье ни на минуту не обмануло его, и он оказался одним из первых ценителей, правильно и по достоинству определивших значение творчества этого композитора. Вот небольшая выдержка из письма Глинки к Н. В. Кукольнику из Парижа от 18(6) апреля 1845 года: «Самая примечательная для меня встреча, это, без сомнения, с Берлиозом; изучить его произведения, столь порицаемые одними и столь превозносимые другими, было одним из моих музыкальных предположений в Париже… Я не только слышал музыку Берлиоза в концертах и на репетициях, но сблизился с этим первым, по моему мнению, композитором нашего века (разумеется в его специальности)… И вот мое мнение: в фантастической области искусства никто не приближался до этих колоссальных и вместе всегда новых соображений. Объем в целом, развитие подробностей, последовательность, гармоническая ткань, наконец, оркестр могучий и всегда новый – вот характер музыки Берлиоза…»
Что касается французского композитора, то нужно отдать ему справедливость, – он также оценил по достоинству гений Глинки и старался познакомить французскую публику с его сочинениями. Так, в марте 1845 года он дал несколько концертов, в которых исполнил между прочим некоторые из наиболее нравившихся ему произведений Глинки, например каватину из «Жизни за Царя», «В поле чистое гляжу», лезгинку и пр. Музыка Глинки имела успех, «succ?s d’estime»[20 - Успех, обусловленный уважением к автору (или исполнителю), а не достоинствами произведения (или исполнительского мастерства) (фр.)], как скромно называет его Глинка, и, ободренный им, наш композитор решился в апреле 1845 года дать свой концерт. На этот раз исполнены были в числе других произведений краковяк из «Жизни за Царя», марш Черномора из «Руслана», «Вальс-фантазия» (H-moll) и пр.
Зал был полон, аплодировали очень много, и хотя по этим немногим произведениям Глинки парижская публика не могла, конечно, составить себе ясное представление о размерах таланта нашего композитора, он все-таки имел успех и музыка его несомненно понравилась слушателям. Вслед за тем во многих солидных журналах, например в «Journal des Dеbats», в «Rеvue britannique», появились сочувственные отчеты и отзывы о Глинке и его концерте. Особенно обстоятельно писал Берлиоз, присоединивший к своей статье и краткую биографию своего музыкального собрата. Приязнь и добрые отношения обоих композиторов, таким образом возникшие, сохранились и в последующее время; они понимали и ценили друг друга…
Однако в Париже Глинка оставался не долго. Его влекло в Испанию, о которой он мечтал давно, чуть ли не с самого детства, и, пользуясь благоприятным случаем, в середине мая 1845 года он переправился через Пиренеи. Новые люди, новая природа, вся новая обстановка и мягкий климат, особенно благоприятный для болезненного организма Глинки, – все это оказало на него самое благотворное действие, и тяжелое настроение, не покидавшее его со времени неуспеха «Руслана», стало заметно светлее. В Испании он прожил более двух лет и побывал во многих испанских городах, везде изучая народные нравы, жизнь и в особенности национальные песни. Его особенно интересовали именно простонародные песни и характерные испанские танцы. Иногда случалось, что он просто останавливал какого-нибудь типичного простолюдина, и если оказывалось, что тот умеет петь или плясать, то Глинка зазывал его к себе, угощал, слушал и таким образом знакомился с народной поэзией в самом ее источнике. Но в Испании же всего яснее определилась, по нашему мнению, новая роль Глинки как только наблюдателя. В самом деле, за два года пребывания в этой стране он успел написать лишь известную «Арагонскую хоту» и «Ночь в Мадриде».
В Испании же, незадолго до отъезда оттуда, Глинка получил известие о расторжении своего брака с бывшей женой, но это позднее известие не особенно поразило его; он отнесся к нему совершенно равнодушно, потому что теперь это дело уже нисколько не интересовало его. В начале лета 1847 года Глинка оставил Испанию и через Париж, Вену и Варшаву возвратился в Россию.
На первое время по возвращении он поселился у себя дома, в Новоспасском. Никаких определенных планов на будущее у него не было; да и какие цели могли бы увлечь его теперь? Единственной целью его жизни было искусство, в нем открыл он свои собственные новые пути, но, выбитый силою сложившихся обстоятельств из проторенной колеи, он поневоле должен был сложить руки. Правда, можно было писать небольшие отдельные сочинения – Глинка и писал их изредка до конца своей жизни, – но могло ли это занятие наполнить жизнь творческого духа, уже проявившего себя такими капитальными созданиями, как «Жизнь за Царя» и «Руслан»? И бедный композитор, по-видимому, сознавал свое положение и уже не задавался никакими определенными целями на будущее время…
Зиму 1847 года Глинка рассчитывал провести в Смоленске и до января 1848 года действительно прожил там, ведя тихую и уединенную жизнь. Там же написал он несколько новых вещей, например романс «Ты скоро меня позабудешь», «Молитву» («В минуту жизни трудную») и кое-что другое. Но вскоре эта тихая жизнь была нарушена самым неприятным для него образом. Смоленское дворянство вздумало чествовать в его лице своего знаменитого земляка-композитора, и обеды, балы, вечера, следовавшие один за другим непрерывной цепью, вскоре довели утомленного Глинку до совершенного отчаяния и заставили его поспешить с отъездом.
Таким образом, в начале марта 1848 года наш композитор прибыл в Варшаву, где и поселился. Тогдашний наместник Королевства Польского, кн. Паскевич, узнав о прибытии Глинки, стал приглашать его к себе, относился к нему чрезвычайно любезно и вообще, так сказать, ухаживал за знаменитым маэстро. По просьбе князя Глинка занялся его оркестром и в короткое время привел его в порядок настолько, что он потом мог исполнять многие из произведений самого Глинки. Около этого времени Глинка написал свое известное «Recuerdos de Castilla» («Воспоминания о Кастилии») – попурри для оркестра, составленное из четырех испанских мелодий.
Осенью 1848 года Варшаву посетила холера, так что во избежание заражения обывателям приходилось сидеть дома. Наш композитор воспользовался этим вынужденным затворничеством – своим и своих знакомых – и написал тогда ряд прекрасных романсов, например «Слышу ли голос твой» (на слова Лермонтова), «Заздравный кубок» (на слова Пушкина), «Песнь Маргариты» (из «Фауста» Гете). Тогда же была написана для оркестра известная «Камаринская», составленная из двух народных песен – плясовой «Камаринской» и свадебной «Из-за гор».
Зимою 1848/49 года Глинка съездил на короткое время в Петербург, надеясь запастись там новыми впечатлениями. Но ожидания его не сбылись, и, возвратившись весною 1849 года в Варшаву, он прожил там почти безвыездно до самой осени 1851 года. Весь этот период жизни композитора не отмечен никакими выдающимися событиями, а из музыкальных произведений за все это время были написаны только романсы «Rozmowa» (на слова Мицкевича) и «Финский залив». Глинка скучал, да и могло ли быть иначе? Его угнетало отсутствие крупной художественной задачи, у него не было такой цели в жизни, которая могла бы воскресить и привести в движение его творческие силы. Этим и объясняется его малая производительность того времени. «Многие упрекают меня в лености, – писал он в 1850 году, – пусть эти господа займут мое место на время…» Действительно, кто дал бы себе труд вдуматься в тогдашнее душевное настроение композитора, тот воздержался бы от всяких упреков в бездействии.
Весною 1851 года Глинка получил известие о кончине своей горячо любимой матушки, и известие это до того поразило и расстроило его, что он заболел от горя. Оправившись от болезни, он поехал опять в Петербург, но и там не писал ничего существенного и, томимый однообразием бесцельной жизни, решился наконец опять уехать за границу.
Путешествие началось весною 1852 года, и целью его опять был избран Париж, потому что о тамошней жизни сохранились у Глинки самые приятные воспоминания еще со времени предыдущей поездки. Вскоре по приезде туда Михаил Иванович действительно почувствовал некоторый прилив творческих сил и попытался опять приняться за какую-нибудь капитальную работу. Предпринята была большая симфония для оркестра под названием «Тарас Бульба». Он даже написал уже первую и вторую части задуманной симфонии, однако почему-то остался недоволен ими и вскоре прекратил работу. Так эта симфония и осталась неоконченной и впоследствии была утрачена. Два последующих года прошли затем довольно незаметно. Разнообразные парижские впечатления не оставляли места скуке, а из серьезных занятий можно отметить предпринятое Глинкою изучение древних классиков. За время пребывания в Париже он успел прочесть Гомера, Софокла, Овидия и пр.
Весною 1854 года была объявлена война России с Францией, и Глинка нашел дальнейшее пребывание в Париже неудобным. Приехав в Петербург, он поселился у любимой сестры своей Людмилы Ивановны Шестаковой, которая окружила его самой теплой заботливостью и вниманием. В кругу семьи и друзей наш композитор почувствовал себя очень тепло и, стряхнув с себя апатию, принялся за работу. Прежде всего, исполняя просьбу сестры, он взялся за составление автобиографических «Записок» и, проработав до следующей весны, довел их до 1854 года. «Пишу я эти „Записки“, – говорит Глинка, – без всякого покушения на красоту слога, пишу просто, что было и как было, в хронологическом порядке». Действительно, записки эти, излагающие жизнь композитора весьма обстоятельно, написаны просто, без всяких вычур, правдиво и достаточно объективно. Они составляют весьма ценный материал для биографии нашего композитора.
В конце 1854 года Глинка написал известную «Детскую польку», посвятив ее своей маленькой племяннице, дочери сестры, Людмилы Ивановны, а в начале 1855 года был написан «Торжественный польский», предназначавшийся к коронации императора Александра II. Этот польский[21 - пляска и музыка к ней, коею обычно открывается бал (Словарь В. Даля); полонез] исполнялся в Москве на всех придворных балах и имел тогда большой успех.
В том же году Глинка задумал писать новую небольшую оперу под названием «Двумужница». Сюжет взят был из приволжского быта. Много мотивов – готовых и почти готовых – толпилось уже в голове композитора, работа обещала пойти на лад, был даже найден либреттист (некто Василько-Петров). Но какие-то странные и не совсем ясные обстоятельства затормозили работу, а потом Глинка захандрил и вовсе бросил задуманную оперу. Вот что рассказывает обо всем этом Л. И. Шестакова:
«В половине мая я должна была уехать по делам в деревню. Брат оставался в Петербурге. Я простилась с ним в то время, когда он был совершенно здоров, весел и доволен. Он с удовольствием занимался пением с Леоновою, принялся соображать оперу горячо и с любовью… При нем остались верные, хорошие люди: повар, человек и женщина, на которую я возложила всю хозяйственную часть, чтобы ничем не беспокоить брата. Я уезжала совершенно покойная, зная, что Гейденрейх (доктор Глинки) и другие знакомые будут навещать его и беречь. Для него уход был необходим; он так привык к этому с самого детства, что уже это превратилось у него не в привычку, но в необходимость. В деревню брат писал мне, как обыкновенно, раз в неделю. Описывал, что делал в прошлую неделю и что намерен был делать в будущую. В июне письма брата были хорошие, веселые, довольные; в июле он начал жаловаться на жары, на В. В. Стасова, который назойливо требует, чтобы брат сочинял, тогда как он этого не может; потом на либреттиста; в конце июля он уже жаловался на все и всех, а в начале августа я получила от него письмо, в котором он просил меня поспешить приездом, чтобы выпроводить его в Варшаву, потому что он более оставаться в Петербурге не может.
Я, конечно, не заставила брата повторить просьбу и немедля возвратилась к нему. Он нам очень обрадовался и сказал: „Ты мне сделала сюрприз; я не ждал тебя так рано“. На мой ответ, что я поспешила исполнить его желание и привезла с собою все, что нужно для его отъезда, он сказал мне: „О делах ни слова; три дня ты у меня гостья, а потом поговорим“. Но не дождались мы трех дней, и на другой же день он уже решил, что остается в Петербурге до весны, что „Двумужницы“ писать не будет, что она ему опротивела по многому и что либреттист его наделал ему неприятностей». Либреттист этот, в течение лета посещавший Глинку очень часто, в августе как-то очень странно пропал, а потом стало слышно, что он распускает по городу какие-то нелепые слухи о Глинке. Сношения композитора и либреттиста, таким образом, прекратились, и задуманная опера осталась ненаписанной.
Настроение Глинки еще ухудшилось. С одной стороны, на него повлияла неудача этой новой попытки создать что-нибудь крупное и капитальное, с другой стороны, и здоровье его стало заметно расстраиваться, и скоро самая мрачная апатия овладела его светлой душою. Вот что писал он в ноябре 1855 года одному из своих друзей, В. П. Энгельгардту: «Любезнейший барон В. П.! Не сетуйте на меня за мое долгое молчание и верьте, что не лень, а страдания и скука не допускали меня писать к вам. Да и о чем писать? Моя теперешняя жизнь до такой степени утомительно единообразна, что, право, нечего сообщить вам… Досады, огорчения и страдания меня сгубили, я решительно упал духом (dеmoralisе). Жду весны, чтобы удрать куда-нибудь отсюда».
Зима 1855/56 года прошла с грехом пополам. По-прежнему Глинку окружали любящие и преданные люди. Даргомыжский, Стасовы, Серов, Балакирев бывали у него очень часто, стараясь чем-нибудь и как-нибудь успокоить и ободрить дорогого им человека, но все было напрасно. Ничто не развлекало страдальца, и какая-то глухая внутренняя тревога беспокоила его неотступно.
Однако душа композитора все еще была жива, и светлая мысль его вскоре опять встрепенулась: на этот раз внимание его привлекла к себе церковная музыка. Нужно сказать, что еще в начале 1855 года он пробовал свои силы в этой новой для него области и написал тогда «Да исправится» и «Ектении обедни» на три голоса. Теперь же он задался мыслью разработать русскую церковную музыку в своем творчестве и, желая основательно подготовиться к такому делу, решил отправиться сначала в Берлин и проштудировать там со своим старым учителем Деном курс теории церковной музыки. Никто, конечно, не отговаривал его от такой поездки, и 27 апреля 1856 года Глинка уехал, направляясь в Берлин. Перед отъездом он написал романс «Не говори, что сердцу больно», не подозревая, что этот романс его будет последним, как была последнею и эта поездка его за границу.
В Берлине Глинка около десяти месяцев занимался с Деном церковною музыкой, ведя довольно уединенный образ жизни и по временам прихварывая. Изредка встречался он с Мейербером, с которым был знаком еще по прежним поездкам за границу, а также и с некоторыми другими знаменитостями берлинского музыкального мира и мог порадоваться, видя всеобщее и искреннее признание своего таланта. В январе 1857 года он получил приглашение на парадный концерт в королевском дворце, где должны были исполняться некоторые из его произведений, и музыка Глинки произвела на публику огромное впечатление. Вот что писал он об этом концерте в последнем письме своем к сестре Л. И. Шестаковой:
«21(9) января исполнили в королевском дворце известное трио из „Жизни за Царя“ „Ах, не мне, бедному сиротинушке“. Пела партию Петровой по справедливости любимая здешней публикой m-me Вагнер; она была в ударе и пропела очень, очень удовлетворительно. Оркестром управлял Мейербер, и надо сознаться, что он отличнейший капельмейстер во всех отношениях. Я также был приглашен во дворец, где пробыл более четырех часов. Чтобы понять важность этого события для меня, надобно знать, что это единственный концерт в году, tout en grand gala[22 - настоящий концерт-гала (фр.)]: публики было от 500 до 700 особ, все залито золотом и сверкало бриллиантами. Если не ошибаюсь, полагаю, что я первый из русских, достигший подобной чести». Нужно знать, что наш композитор всегда признавал за германской публикой особенную музыкальность и художественное понимание, а потому мог справедливо гордиться успехом своей музыки в Берлине.
Но увы! Это были уже последний успех и последняя радость в жизни Глинки. Тут же, выходя из концерта, разгоряченный, он сильно простудился и уже на другой день слег в постель. Болезнь чрезвычайно быстро развивалась, и в ночь со 2 на 3 февраля 1857 года величайший из русских композиторов отошел в вечность.
Все это случилось так неожиданно и сама смерть последовала так быстро, что никто из родственников и друзей покойного не успел получить своевременного извещения о случившейся катастрофе и приехать в Берлин хотя бы ко дню погребения. Первоначально тело Глинки похоронили на берлинском кладбище. За гробом композитора шли Мейербер, Ден, Бейер, некоторые другие музыканты и кое-кто из членов русской колонии Берлина, но сами похороны не отличались никакой пышностью. На временной могиле русского композитора поставлен был простой памятник из силезского мрамора с соответственно простой надписью: «Michail von Glinka» и проч.
Но вслед за тем среди русского общества возникло единодушное желание перенести дорогой прах в Россию. Сестра покойного композитора хлопотала о высочайшем соизволении на это предприятие, и вскоре последовало высочайшее повеление, давшее возможность и средства перевезти прах Глинки в Петербург. 22 мая прибыл пароход с телом Михаила Ивановича Глинки, а 24 мая 1857 года прах великого русского композитора окончательно успокоился на кладбище Александро-Невского монастыря в Петербурге. На могиле его тогда же поставили весьма изящный памятник, а в 1885 году в Смоленске, на средства, собранные по всенародной подписке, воздвигли другой, изображающий фигуру композитора во весь рост, с краткой, но выразительной надписью на высоком пьедестале: «Глинке – Россия».
Источники