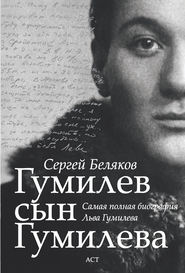По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Парижские мальчики в сталинской Москве
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В давнем письме Цветаевой к мужу (от 2 ноября 1917 года) есть строчки: “Если Бог сделает это чудо – оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами, как собака”
. Теперь она приписала на полях: “Вот и пойду, как собака”. Но даже эта приписка показательна: ей очень не хочется уезжать из Франции. Не с радостью она поедет, а повинуясь чувству долга. Долга не только перед мужем, но и перед сыном. Цветаева не сомневалась: Мур – русский, горько будет ему жить эмигрантом в чужой стране. Еще в Чехии она писала: “…ты – эмигрант, Мур, сын эмигранта, так будет в паспорте. А паспорт у тебя будет волчий”.
Ни к городу и ни к селу —
Езжай, мой сын, в свою страну…
Это она писала в 1932-м, когда Муру исполнилось семь лет. Через год Мур пойдет во французскую школу, где его будут считать русским. Впрочем, это никак не отразится на его социальном статусе. Никто Мура не обидит, не будет унижать как чужака.
Сергей Яковлевич некогда жаловался на французский национализм. Нет оснований ему не верить. Шовинизм – слово французское. Весьма вероятно, что гордому русскому офицеру могли бросить вслед что-то вроде “sale еtranger”(“поганый иностранец”). И все-таки Франция была страной сравнительно гостеприимной. Когда русский эмигрант Павел Горгулов убьет президента Франции Поля Думера, русские эмигранты в страхе будут ждать репрессий (от французского государства) и погромов (от французского народа). И не дождутся. Волна французской ксенофобии схлынет, едва зародившись.
После Второй мировой Франция станет второй родиной для миллионов эмигрантов разных этносов, рас, цветов кожи. Слова “волчий паспорт” станут анахронизмом.
Цветаева, сомневаясь, не решаясь оставить Францию, думала не только о долге перед мужем и о будущем сына, но и о собственном даре. Она понимала, что в СССР ей не дадут печататься. В лучшем случае позволят переводить. Однако найдется человек, который сумеет ее переубедить. Этим человеком был блистательный франкофил Илья Эренбург. Тот самый Илья Эренбург, что прожил в Париже много лет и создал едва ли не лучшую апологию французской толерантности. “Иностранец не чувствует себя во Франции одиноким”, – писал Эренбург. В своих “Французских тетрадях” Илья Григорьевич приводит множество примеров этой открытости французов и, между прочим, цитирует Карамзина: “…после России нет для меня земли приятнее Франции, где иностранец часто забывает, что он не между своими”.
Немец Гольбах стал одним из самых известных деятелей французского Просвещения. Гейне, Мицкевич, Тургенев подолгу жили в Париже как у себя дома. Французскую поэзию не представить без грека Жана Мореаса (Пападиаментопулоса) и поляка Гийома Аполлинера (Костровицкого), науку – без полячки Марии Склодовской-Кюри, живопись – без испанца Пабло Пикассо, без итальянских (Амедео Модильяни) и белорусских (Марк Шагал, Хаим Сутин) евреев
.
Но в разговоре с Мариной Цветаевой Эренбург будет говорить совсем о другом. Сохранилось только одно, зато чрезвычайно интересное свидетельство этого разговора. Даже двух разговоров – в Париже и в Москве. Первый состоялся в 1935 году, во время международного писательского конгресса.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДМИТРИЯ СЕЗЕМАНА: Однажды вечером, во время Конгресса, о котором я говорил вначале, к нам заявилась Марина Ивановна Цветаева в состоянии какой-то взбудораженности, крайней нервозности. Не дожидаясь вопросов, она сказала маме: “Нина, я только что от Эренбурга, он мне говорил страшные вещи. <…> Вы знаете, мы с ним два часа сидели в “Rotonde”, и все два часа он мне объяснял, что я здесь чужая, что я как поэт здесь гибну, что в России меня ждут, что там не только моя родина, но и мои читатели, что от меня никто не потребует никаких отречений… Он говорит, что я ведь всегда жаждала революции духа и что русская революция есть, как это он сказал, преддверье этой революции духа… Он мне обещал сказочные тиражи, десятки тысяч экземпляров… Нина, вы понимаете, что это значит? Десятки тысяч будут читать меня…”
По серому лицу Марины Ивановны текли слёзы, ее волнение передалось маме, они обнялись. <…> Мать стала успокаивать Марину и объяснять ей, что Эренбургу можно вполне доверять, что он там, в Москве, вхож в самые, самые круги.
О втором, московском, разговоре Дмитрий узнал со слов Георгия Эфрона: “Марина стала Эренбурга горько упрекать: «Вы мне объясняли, что мое место, моя родина, мои читатели – здесь; а вот теперь мой муж и моя дочь в тюрьме, я с сыном без средств, на улице, и никто не то что печатать, а и разговаривать со мной не желает». <…> Эренбург ответил Цветаевой так: «Марина, Марина, есть высшие государственные интересы, которые от нас с вами сокрыты и в сравнении с которыми личная судьба каждого из нас не стоит ничего…» Он бы еще долго продолжал свою проповедь, но Марина прервала его: «Вы негодяй», – сказала она и ушла, хлопнув дверью”
.
Назад пути нет
Да не поклонимся словам!
Русь – прадедам, Россия – нам,
Вам – просветители пещер —
Призывное: СССР…
Марина Цветаева
В конце тридцатых годов перелеты из Парижа в Москву были доступны членам правительства вроде Эдуара Эррио и немногим почетным гостям вроде Андре Жида. Время от времени в СССР из Франции прилетали отважные авиаторы-рекордсмены, такие как Мариза Бастье и Сюзанна Тилье. В июле 1937-го эти, говоря современным языком, авиаторки совершили перелет Париж – Кенигсберг – Москва – Иркутск.
Обычные люди могли добраться от Франции до СССР либо поездом, либо пароходом. Железнодорожных и морских маршрутов было несколько. Из Марселя можно было попасть в Одессу. Из Гавра – в Ленинград. На Восточном вокзале Парижа начинался путь в Москву. Кратчайший – через Германию и Польшу. И более долгий – через восточную и южную Францию, северную Италию, Австрию, Чехословакию и опять-таки Польшу.
Хотя “Интурист” в те времена уже существовал, но иностранных туристов было мало. В конце тридцатых в СССР приезжало от 13 000 до 20 000 иностранцев в год – в наши дни Антарктиду посещает вдвое больше туристов. Причем уже в 1939-м туристические программы стали сворачивать. В СССР бежали испанские республиканцы, спасавшиеся от генерала Франко. Приезжали за инструкциями деятели Коминтерна, от Мориса Тореза до Иосипа Броза (Тито). Случалось, что возвращались на родину белоэмигранты, такие как родители Мура и Мити.
На линии Ленинград – Лондон – Гавр – Ленинград до 1937 года ходили пароходы “Кооперация” и “Андрей Жданов”, а в 1937-м “Кооперацию” заменила “Мария Ульянова”. На этом пароходе, очевидно, покинул Францию и Сергей Эфрон. В июне 1939-го “Мария Ульянова” навсегда увезла из Франции Марину Цветаеву и Мура. Судно было грузопассажирским – палубы предназначались пассажирам, а в трюме находился большой рефрижератор, – но считалось довольно комфортабельным: каюты отделаны древесиной (ясенем и орехом) и устланы коврами.
Путь через Ла-Манш, Северное и Балтийское моря завершился 18 июня, когда пароход причалил у пассажирской пристани Ленинграда. Мур не писал о первых впечатлениях от СССР. Немного написала Цветаева: “Таможня была бесконечная. Вытряс<ли> до дна весь багаж, перетрагив<ая> каждую мелочь…”
Багаж[13 - Большая часть багажа (13 мест) была отправлена почтой в Москву на имя Ариадны Эфрон.] Цветаевой не только досматривали: “Отбирали не спросясь, без церемоний и пояснений” рисунки Мура. “Хорошо, что так не нравятся – рукописи!”[14 - Здесь и далее сохранены особенности пунктуации и орфографии Марины Цветаевой и Георгия Эфрона.] – замечала Цветаева. Она не упоминает, ограничились ли таможенники одними рисунками Мура или взяли себе что-то более существенное из парижского багажа. Никита Кривошеин, приехавший в СССР почти девять лет спустя, 1 мая 1948 года, рассказывал, что в Одессе таможенники так же без всякого стеснения “клали себе в карман то, что им нравилось из багажа пассажиров”.
Эта “добрая традиция”, по всей видимости, появилась на рубеже двадцатых-тридцатых. По словам Джорджа Сильвестра Вирека, в 1929-м на советской таможне смотрели, не привез ли въезжающий больше двух пар обуви. Лишнюю пару обуви конфисковали или облагали “изрядным налогом”. От Вирека отступились, только узнав, что он американский журналист.
Вместе с Цветаевой и Муром в Ленинград приехали беженцы из Испании, республиканцы и их дети. Днем испанских детей повезли на экскурсию по Ленинграду, к ним присоединился и Мур. Наивные, но внимательные дети увидели не только колонны Исаакиевского собора, атлантов Эрмитажа, кариатиды Невского проспекта, но и корпуса заводов, “бурые от дыма”: “У нас в Андалузии – заводы – белые, белят 2 раза в год”.
Тогда Марину Ивановну еще удивляло, почему же их не встречают муж и сестра. Сергей Яковлевич вынужден был дожидаться супругу в Болшеве, на даче. Анастасия Ивановна сидела в лагере.
Вечером Цветаева и Мур вместе с испанцами уехали в Москву. Знакомство с новой советской жизнью оказалось все-таки щадящим, слишком коротким, чтобы испугать, шокировать. Бывало ведь и хуже. В 1934 году Лилианна Лунгина и ее мать Мария Даниловна отправились из Парижа в Советский Союз. Ехали через Северную Италию и Австрию. Вагон был полон веселыми, легкомысленными пассажирами, что ехали с лыжами и горнолыжными костюмами на альпийские курорты. Но чем дальше на восток шел поезд, тем тоскливее становилось. Вместо жизнерадостных и обеспеченных туристов вагон заполнили “какие-то понурые люди”. Остановились у знакомых в Варшаве. Те в ужас пришли: “Куда вы едете, разве можно ехать в эту страшную страну? Там же голод!” Увы, это оказалось не враждебной пропагандой. В то время советско-польская граница проходила значительно восточнее Брест-Литовска, у белорусской станции Негорелое. Туда и прибыл поезд вместе с маленькой Лилианной и ее мамой.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЛИЛИАННЫ ЛУНГИНОЙ: Мы вошли в зал ожидания, и я увидела страшное зрелище. Весь пол был устлан людьми, которые то ли спали, то ли были больны и бессильны, я плохо понимала, что с ними, плакали дети, ну, в общем, зрелище каких-то полуживых людей. А когда мы вышли на площадь, то и вся площадь была устлана ими. Это были люди, которые пытались уехать от голода, действительно умирающие с голоду люди. Я стояла в синем пальто с какими-то серебряными или золотыми пуговицами и каракулевым воротником, а передо мной – всё черное, лохмотья. И я почувствовала такой ужас и такую свою неуместность… Мне стало очень страшно. Я помню, как заплакала и сказала: “Мама, я не хочу. Давай вернемся назад, я боюсь, я не хочу дальше ехать». И как мама мне ответила: «Все, детка, мы уже по эту сторону границы, мы уже в Советском Союзе. Назад пути нет”.
Именно через Негорелое всего три года спустя приехал в СССР Дмитрий Сеземан. Голод миновал. В 1935-м отменили карточки. Нищие, обессиленные люди больше не осаждали вокзалы. Однако и в 1937-м станция и советский вагон, куда пересели Дмитрий с матерью и отчимом, выглядели убого. В этом вагоне было “удивительно грязно”. Но пятнадцатилетний Митя, в отличие от тринадцатилетней Лилианны, интересовался политикой. Он смотрел на СССР глазами будущего коммуниста. Митя приехал в страну, которую сам Морис Торез называл подлинной родиной трудящихся: “…я ехал с ощущением восторга и не потому, что я возвращался в страну своих предков, ничего подобного, – потому что я ехал в страну построенного социализма”
, – вспоминал много лет спустя Дмитрий Сеземан.
О голоде Митя, вероятно, и не слышал. А если и слышал, то счел буржуазной клеветой на советскую действительность. Повсюду он искал подтверждения своим комсомольским представлениям о жизни. Бедность он счел благородной аскезой. Грубость пограничников, что “с огромными волкодавами совершили налет на наш вагон и, не спрашивая нас, жестоко перевернули наш скудный багаж”, он объяснял необходимостью. У революции еще столько врагов! Нужна бдительность. И лозунг “Граница на замке!” Митя счел совершенно правильным. Особенно же ему понравилась дешевенькая пепельница из черного пластика. На ней была надпись: “Завод «Красный треугольник». Второй сорт”: “Ты посмотри! Второй сорт! Разве ты когда-нибудь видела во Франции на каком-нибудь товаре надпись «Второй сорт»? Там обязательно напишут «Первый сорт», или «Высший сорт»”, или «Экстра», а здесь – пожалуйста – «Второй сорт». <…> Мы наконец в стране, где не лгут, где во всём правда!”
На Белорусском вокзале Митю и его семью встречал дедушка, академик Насонов, на лимузине, который даже парижанину показался роскошным. Поехали к академику на Пятницкую, в Замоскворечье, один из самых очаровательных районов старой Москвы. Митя вспоминал советский павильон на парижской Всемирной выставке: советская сказка, сказка о счастливой и безоблачной жизни в Советском Союзе, стране социальной справедливости, надежде всего прогрессивного человечества, становилась реальностью. И не только для него. Ариадна Эфрон, приехавшая в СССР в том же 1937-м, писала в Париж: “Первое впечатление о Москве – мне вспомнился чудесный фильм «Цирк» и наши о нем разговоры…”
Мы мало что знаем о первых советских впечатлениях Мура. Но даже весной 1940-го, пережив арест сестры и отца, он сохранял совершенно советский взгляд на мир: “По-моему, нужно было бы устроить в нашей школе курсы «истории ВКП(б)» для всех желающих – это была бы замечательная штука”
.
Дмитрий Сеземан тоже поначалу не был разочарован: “…всё то из советской жизни, что открывалось моим глазам, мне очень нравилось”.
Русская жара
Безумная жара, которой не замечаю: ручьи пота и слёз в посудный таз”.
Одна из немногих записей Марины Цветаевой, посвященная первым месяцам жизни в Советском Союзе. Эти строки многое говорят не только о душевном состоянии Цветаевой, не только о ее дурных предчувствиях, которые сбудутся очень скоро. Это запись и о московской погоде. Советская Россия встречала такой жарой, что оказалась непривычна даже для Цветаевой. А ведь она помнила климат не только Парижа, но и южной Франции. “Безумно-жарким” называет лето 1939 года Надежда Катаева-Лыткина.
“Жара удушающая”
, – записывает Елена Сергеевна Булгакова 15 июня 1939 года, незадолго до приезда Цветаевой и Мура в Москву. 18 июня Булгакова возвращалась из Большого театра: “Дикая жара. Впечатление, что весь партер и оркестр – белый, так как все непрерывно машут платками, афишками и веерами”
.
Московский климат предвоенных лет более континентален, чем в наши дни. Зимы были много холоднее, а лето – жарче. Лето 1937-го также было жарким, а летом 1938-го были установлены многие температурные рекорды, которые продержатся до знаменитой аномальной жары 2010-го, когда в Москве стояла погода, характерная для Саудовской Аравии. Дневник Елены Сергеевны богат сведениями о погоде, которые позволяют дополнить сухие сводки метеостанций.
27 июня 1937 года: Жара всё стоит нестерпимая. У нас в квартире духота – квартира вся на солнце.
28 июня 1937 года: Стоит дикая жара.
2 июля 1937 года: …Началась сильная гроза, которую мы ждали уж давно, умирали от жары.
30 августа 1938 года: В Москве стоит небывалая жара – неестественная, непонятная.
Мур тоже писал о погоде и жаловался на чересчур теплое московское лето. Правда, его дневник за 1939-й не сохранился, но год спустя, 11 июля 1940 года, он запишет: “Сегодня меня тошнило и была мигрень. Очень жарко, и это неважно действует на организм”
.