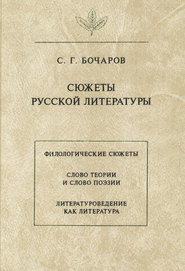По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Филологические сюжеты
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Если теперь вернуться к стихотворению «В начале жизни школу помню я…», то можно и его рассматривать как парадигму к григорьевской формуле. «Пушкин выносил в себе всё», – писал Григорьев.[28 - Там же. С. 168.] Он выносил в себе со времён лицейской юности и кумиров сада, «двух бесов изображенья», чтобы болдинской осенью их заклясть как творческую стихию своей поэзии. Но как заклясть? В стихотворении вопрос не решён и выбор не сделан, отрок смущён и как бы раздвоен. Отрок – меж двух огней, на растерзании, он заклял их как бесов, но только создал тем напряжение, остающееся неразрешённым. Как заклясть поэтически? Это в силах не отрока, а поэта. В его силах подняться над ярким чувственным впечатлением и ввести его в духовный горизонт; организовать во внутреннем мире встречу миров исторических – двух культурных эонов – и взвесить спор, не решая его.
Так он в болдинском стихотворении заклинал мировые духовные силы. И тогда же в болдинской поэме – грозные силы родной истории, пробуждающиеся в самом поэте. Это у Пушкина редкое место, где внутренний механизм овладения и заклятия обнажён – XI–XII строфы «Домика в Коломне».
Мне стало грустно: на высокий дом
Глядел я косо. Если в эту пору
Пожар его бы охватил кругом,
То моему б озлобленному взору
Приятно было пламя. Странным сном
Бывает сердце полно; много вздору
Приходит нам на ум, когда бредём
Одни или с товарищем вдвоём.
Тогда блажен, кто крепко словом правит
И держит мысль на привязи свою,
Кто в сердце усыпляет или давит
Мгновенно прошипевшую змию…
Высокий каменный дом вырос на месте сметённого цивилизацией домика в Коломне, и вот какое мстительное чувство давить приходится. О связи этого места с разбойно—пожарно—революционными мотивами русской литературы мне случалось писать:[29 - С. Г. Бочаров. Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 187–190.] непосредственно вспыхнувшее переживание автора сродни пугачёвской стихии русского бунта и способно смыкаться с ней; в движении литературы оно отзовётся пожарными сценами «Бесов» (уже не Пушкина – Достоевского), а в потенции поведёт к «мировому пожару» Блока, отдавшегося, по его признанию, стихии в своей поэме. Запирайте етажи… – обращено ведь как раз к высоким каменным домам. Так что странное и внезапное грозное место в шутливой поэме уводит к большому контексту – не только пушкинскому, но русскому историческому, и обнажает те самые, по Григорьеву, «сочувствия» и «борьбу». Как писал об этом месте «Домика в Коломне» Роман Якобсон, огонь, который тушит здесь в своей душе поэт, – это «огонь, с которым жила поэзия Пушкина».[30 - Роман Якобсон. Работы по поэтике. М., 1987. С. 240.]
Заклинатель и властелин многообразных стихий – это определение кажется слишком эффектным чуть ли даже не какой—то эстрадной эффектностью, но оно же кажется конгениальным Пушкину. Конгениальным тем динамизмом и драматизмом, с какими в нём передаются не гладкие свойства поэзии Пушкина, а та борьба, какая её составляла.
1999
«Форма плана»
Примечание 2003 г. к статье 1965–го. Эта статья была написана в 1965 г. для будущей книги «Поэтика Пушкина» (1974), но почему—то потом в неё не вошла. Почему—то потом она вообще никуда не вошла: дважды, в 1985 и 1999, я собирал свои книги работ за разные годы и мог включить «Форму плана», но почему—то, опять же, не захотелось. Так статья и осталась единственный раз напечатанной в 1967–м в «Вопросах литературы», № 12. Мне казалась потом она сухо и жёстко написанной – «форма плана» словно голый сухой чертёж. В том, что я пробовал писать об «Онегине» после, мне хотелось этот теоретический остов одеть стилистической плотью, и эти онегинские этюды более поздние («Стилистический мир романа», «О возможном сюжете») отодвинули старый текст как черновой набросок. Но недавно, получив предложение от петербургской «Азбуки» перепечатать его в томе разных работ о романе в стихах (проект, очевидно, не состоявшийся), я согласился охотно. Всё же он что—то выразил тогда, в те 60–е, которые были ведь поворотом не только политическим в нашей истории. Всё совершалось синхронно вместе в истории и в филологии. Помню, как вышла статья, и вскоре я побежал в библиотеку искать статью неизвестного мне тогда Ю. Н. Чумакова о составе текста «Евгения Онегина» в журнале «Русский язык в киргизской школе» за 1969 г.; в статье были понимающие ссылки на мою «Форму плана», и я почувствовал отклик и что, наверное, это было не зря. И вот теперь, десятилетия спустя, Юрий Николаевич Чумаков пишет очерк истории интерпретации «Е. О.» от Белинского до наших дней и там говорит про 60–е годы как про эпоху особую именно в пушкинознании и в онегиноведении прежде всего (см.: Юрий Чумаков. Стихотворная поэтика Пушкина. СПб., 1999) – и ссылается в подтверждение на онегинские статьи И. М. Семенко, первые онегинские работы Ю. М. Лотмана тех лет и на мою «Форму плана»; надо, конечно, восполнить этот ряд выступлением самого Чумакова на исходе десятилетия. Время нового взгляда на Пушкина, поворота внимания открывалось тогда, в середине 60–х. А именно: на смену социологической эпохе и разрозненным сопоставлениям кусков романа с внешней действительностью приходила поэтика, и с ней – имманентное понимание пушкинского романа как организма. Наверное, этот поворот к имманентному узрению внутреннего устройства романа как организма сказался и в той моей статье. Надо было начать рассматривать онегинский мир изнутри, чем всё—таки пушкинознание неохотно занималось. Попытка была сродни тогда же начавшимся поискам структуральной поэтики, но сразу же рядом с нею наметились и иные, соседние, параллельные русла исканий – поэтики исторической и, скажем самонадеянно, феноменологической. Исторической поэтикой в «Форме плана» пока и не пахнет, но влечение к чему—то вроде феноменологического анализа, сработанного достаточно кустарными и топорными средствами, вероятно, имело здесь место. Хотелось вместе филологического и бытийного чтения пушкинского романа. Хотелось увидеть его не только как поэтический текст, но и как некий онтологический универсум, «модель мироустройства» (как скажет позже о нём уже упомянутый Чумаков). Вот то, что я могу сегодня сказать в оправдание повторной публикации давней статьи.
7 февраля 2003
Пушкин писал: «единый плод Ада есть уже плод высокого гения» (11, 42).
Пушкин заметил это, когда в Михайловском строил дальше начатый на юге роман в стихах. Я думал уж о форме плана / И как героя назову… – тогда ещё, в Одессе, было сказано в завершение первой главы. Буквально это относилось как будто к другому замыслу, ироническому, классической поэмы песен в двадцать пять, мимо которого и вместо которого поэт сейчас начинает свой неклассический роман. Но, конечно, именно о его форме плана он и думал, а как назвать героя и героиню, прямо в тексте и размышлял. Посылая из Михайловского в печать ту же первую главу, он говорил в предисловии к ней: «Всякой волен судить о плане целого романа, прочитав первую главу оного» (6, 638). План целого романа строился постепенно в ходе его рождения на протяжении лет – и в то же время в каком—то виде он роману предшествовал как предварительная стратегическая задача. Завершало же весь роман, уже в Болдине, знаменитое ретроспективное признание о дали свободного романа когда—то в начале пути. В беловой рукописи знаменитой строки, однако, был вариант: И план свободного романа / Я сквозь магический кристал / Ещё неясно различал (6, 636). Пушкин зачеркнул «план» и поставил «даль». Замена, можно сказать, интересная теоретически. Названы на месте одна другой две творческие силы, которые одновременно и непрерывно действовали при многолетнем формировании сво—свободного романа. Даль – это его открытый сюжет, в дали не видно конца. План – это целостный образ, предусматривающий завершение, план предварительно охватывает как бы контур будущего романа и предусматривает известную цель сюжетного движения; план телеологичен как предварительная программа и стратегическая концепция. Ещё неясно, но автор в начале романа уже его различал.
Единый план пушкинского романа в стихах есть уже плод высокого гения. Это, можно сказать, наиболее общая мысль романа. И что здесь важно: он не только осуществлён в романе, но и рассмотрен автором прямо в тексте его. Перед нами самосознание литературы в начале её большого пути, притом самосознание литературы в её собственной форме, пластически воплощённое как архитектоника, план. Поэтическая постройка «Онегина» содержит своего рода теорию романа (и пушкинскую теорию литературы вообще) – не как отвлечённую систему, а как живое созерцание. Это «теория» в изначальном греческом понятии (зрелище, созерцание, умозрение). Попробуем же предаться и мы подобному созерцанию «формы плана» пушкинского романа.
1
В заключительных стихах первой главы «Евгения Онегина» поэт изображает себя проверяющим свою работу:
Пересмотрел всё это строго;
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу…
Это признание напоминает об эпизоде, пересказанном в воспоминаниях Катенина о Пушкине. Катенин, когда Пушкин ему читал «Руслана и Людмилу», нашёл в поэме много «несообразностей» и, удивляясь, спрашивал поэта, «над кем он шутит?». «Он бесспорно согласился, что дело не хорошо, но не придумав ничего лучшего, оставил как есть, в надежде, что никто не заметит, и просил меня никому не сказывать».[31 - Литературное наследство. Т. 16–18. М., 1934. С. 636.] Этот эпизод теперь словно изображён в «Онегине»; но Пушкин играл в разговоре с Катениным, и теперь он вводит эту игру в роман. Он изображает нам самокритику автора, который почему—то не хочет исправить противоречия своего труда, хотя видит их хорошо. Наивного автора изображает автор отнюдь не наивный и в высшей мере самосознательный как художник; и этот автор романа сам таким способом указывает нам противоречия в собственном тексте, обращает наше внимание, почти демонстрирует их. Отказываясь «исправить», он внушает нам взгляд на эти противоречия как на что—то более серьёзное и неустранимое, чем только ошибки авторской субъективности. Автор знает, что дело здесь не решить «исправлением недостатков».[32 - В недавней статье «Художественная структура „Евгения Онегина“» Ю. Лотман рассматривает «противоречия» в тексте романа как «художественно значимый структурный элемент» (Учён. зап. Тартуского ун—та. 1966. Вып. 184. С. 7).]
В тексте первой главы, если его прочитать «критически», пересмотреть всё это строго, вслед за поэтом, мы в самом деле заметим противоречия. Определения и характеристики в разных местах главы как будто друг с другом не согласованы. Вот строфа, рассказывающая о дружбе условного «я» с Онегиным: Я был озлоблен, он угрюм. Два эти образа очевидно «не вяжутся» с образами «я» и Онегина, какие очерчены по соседству. После лёгкого и как бы поверхностного в самой интонации описания молодого повесы, философа в осьмнадцать лет и почётного гражданина кулис немотивированно и неожиданно возникают «черты» Онегина, которые «нравились» другу—автору: Мечтам невольная преданность, / Неподражательная странность / И резкий, охлаждённый ум. Онегин противоречит себе, и он не только не равен себе, но, кажется, не имеет связи с самим собой. Ряд определений в эпизоде «дружбы» – обратное отражение первоначальных определений Онегина: роковое Страстей игру мы знали оба соответствует контрастно и несовместимо науке страсти нежной, строка И злости мрачных эпиграмм – строке Огнём нежданных эпиграмм. Это Онегин «с разных сторон», аспекты Онегина, наблюдаемые с различных позиций. Определения «с разных сторон» ощутимо не сведены воедино; их нельзя сложить, присоединить друг к другу, «дополнить» одно другим и так составить единое представление об Онегине: например, положить рядом в единой рамке и совместить науку страсти нежной и страстей игру; логика противоречия, по которой они соотносятся, отрицает формальную логику соединения «черт». Единство пушкинского героя другого порядка, чем единство «статического героя», против которого в свое время хорошо писал Ю. Тынянов.
Я – партнёр Онегина в сцене дружбы – тоже не представляет статического единства. Я, который озлоблен, открыто не равен тому, кто воскликнул: Прелестны, милые друзья! Я, который «озлоблен», замкнут в своей озлобленности и полностью слит с партнёром, который угрюм и замкнут в своей угрюмости; эта тонкая дифференциация оттенков только подчёркивает единство тона. Томила жизнь обоих нас; / В обоих сердца жар угас; / Обоих ожидала злоба… – в этой картине совсем забыта, исключена та разность между Онегиным и мной, которую, как оказывается в конце главы, всегда рад заметить я.
В первой главе «Онегина» парадоксально даны и герой, и образ я, и их взаимное отношение. Но отношение я и Онегина ещё по—особому парадоксально: отношение то ли двух персонажей – «приятелей» (как в строфах о «дружбе»), то ли автора и героя романа. Эмпирически замечаемые в тексте первой главы «противоречия» («замеченные» самим поэтом, будто бы необдуманно их допустившим, а не сознательно их построившим) ведут нас к такому противоречию, которое проникает весь план романа «Евгений Онегин» и представляет в его композиции «узел».
2
Узел завязан уже во второй строфе, где Онегина представляют читателю. С героем моего романа / Без предисловий, сей же час / Позвольте познакомить вас: / Онегин, добрый мой приятель, / Родился на брегах Невы… Инерция гладкого восприятия пушкинского стиха маскирует противоречие этих строк; однако посмотрим: здесь дважды рядом автор ориентируется по отношению к герою совсем не одинаковым образом. Здесь же и непременный третий член отношения – читатель, к которому это обращено и который в следующих строках является так же двойственно – как читатель романа и вместе с тем на общей с героем романа почве: Где, может быть, родились вы, / Или блистали, мой читатель; / Там некогда гулял и я.
Онегин родился, читатель блистал, я (автор) гулял – все трое сошлись в той же самой действительности, в одном измерении, рядом. Мой приятель – герой моего романа: «в то же время» и «в том же месте». Связующее все элементы картины местоимение «мой» устанавливает это единое измерение, строит общую плоскость; но то же местоимение разводит по разным плоскостям и мирам. Ведь мой герой никак не то же, что мой приятель. Это общее «мой» относит к одному источнику эти два отношения и одновременно распределяет их в разных сферах. Онегин для Пушкина существует как мой герой, мой Евгений: он принадлежит поэту как творение принадлежит творцу, произведение автору, он неразрывен с поэтом как образ его сознания, его духовное порождение. Мой приятель – это другая фигура рядом со «мной» в окружающем материальном мире.
Если исследователи «Онегина» справедливо считают, что я романа, приятель Онегина – это лицо, не равное автору, образ романа, и его не следует смешивать с Пушкиным, то, с другой стороны, противоречие именно заключается в том, что этот же я отождествлён, совмещён и смешан, представлен как автор романа. Отношение «автор – герой» отождествляется с отношением я – приятель: словно четыре лица из двух, мир в квадрате, два ряда, парадоксально совпавшие в один. В самом деле, действительность, в которой встречаются автор, герой и читатель, – действительность фантастическая, хотя и географически точно помечена на брегах Невы и о ней рассказано в бытовом разговорном тоне. Действительность эта – гибрид: мир, в котором пишут роман и читают его, смешался с «миром» романа; исчезла рама, граница миров, изображение жизни смешалось с жизнью.
Но не забудем: Противоречий очень много, – и среди них, едва мы откроем «Онегина», впечатление от второй строфы. Этот отождествлённый сдвоенный мир являет противоречие, источник которого – подобие романа действительности, «художественный мир» в романе. По—видимому, в «мире» романа мы можем найти всё то, что в мире, «с которого пишут» роман, он расположен на тех же брегах Невы. По—видимому, можно поэтому их совместить, эти два плана, наложить друг на друга до их совпадения в каждой точке. Естественная мотивировка такого отождествления – единство личности я, человека и автора вместе, который может равно сказать: мой приятель, мой герой, мой читатель. Именно личность художника сама по себе и сама в себе совмещает два мира, два опыта, которые всякий другой человек – читатель – переживает уже совершенно раздельно: литературу и жизнь. Единство романа «Евгений Онегин» – это единство автора; это, можно сказать, «роман автора», уже внутри которого заключён «роман героев», Онегина и Татьяны. Этот первый в русской литературе сознательный, «настоящий» роман – ещё не обычный роман героев «в третьем лице»; речь о героях «в третьем лице» здесь окружена и словно бы предопределена речью «в первом лице», исходящей из я; эта лирическая предпосылка сразу заявлена композицией притяжательных местоимений первого лица, регулирующих внутренние отношения романа как «мои» отношения. Лирика пушкинского романа – не в «лирических отступлениях» (во всяком случае, не главным образом в них), не на периферии или в отдельных участках, но прежде всего в основании целого, в этой универсальной роли местоимения мой, в том, как охвачен эпос героев образом авторского сознания. «Евгений Онегин» – «не роман, а роман в стихах – дьявольская разница»: вот чрезвычайно важное уточнение, имеющее в виду не только факт стихотворной речи, но принципиальное структурное отличие от прозаического романа «в третьем лице». «Роман в стихах» – «дополнительная» характеристика, органически отвечающая «дополнительному» качеству «Евгения Онегина» как романа; форма романа в стихах отвечает лирической предпосылке эпоса третьих лиц, тому «первичному» отношению в первом лице, которое опосредует отношения изображённого «мира» романа героев.
В «Онегине» нам не дано забыть об авторе за героями, и объективность романа обращена постоянно в образ сознания, воображаемую реальность. Прости ж и ты, мой спутник странный, – Онегин, которого автор вдруг решает оставить в минуту, злую для него, хотя и не умер в сюжете романа, лишь остановленном в этой решительной точке, на наших глазах обращается в поэтическую тень и в самом деле прекращает своё существование вместе с концом романа, о начале которого, «рождении», столь же духовном, когда—то, поэт вспоминает тут же: С тех пор, как юная Татьяна / И с ней Онегин в смутном сне / Явилися впервые мне. Опять противоречий очень много (уже в итоге всего): спутника странного с житейским добрым приятелем, моего идеального с моим бытовым.
«Евгений Онегин» изображает сознание автора, универсальную сферу, объединяющую миры действительности и «второй действительности» – романа. Сознание я – человеческое созна—ние, со множеством эмпирических и случайных черт, как у всякого человека; и оно же – сознание необычное, сознание—демиург, обладающее особой силой словно удваивать жизнь и творить её заново. Сознание автора отражает тот внешний мир, в котором пребывает «моё» человеческое «я», и в то же время воображает повторно мир, изобретает роман. Этот процесс «удвоения» жизни и переживания той и другой как моей для поэта – на наших глазах в «Онегине». Пушкин, можно сказать, изображает теоретическую проблему в живом человеческом виде, строя роман как образ сознания автора; эта проблема – отношение романа и мира. Сознание романиста в своей непосредственности является живым таким отношением.
Пушкин изображает сознание «поэта действительности», как он определил себя сам:[33 - В статье без подписи об альманахе «Денница», перелагая отзыв И. Киреевского (11, 104).] роман как будто бы совпадает с действительностью, повторяя её. «Мир» романа как будто бы то же, что мир вокруг, они двойники, и эти две плоскости проецируются одна на другую и совмещаются. Свои два опыта автор неразличимо даёт как мои, единым планом в единстве я рисуя два отношения к миру. И вот герой моего романа и мой приятель – одно лицо. Но этот мир совмещает несовместимое: он фантастичен, хотя он кажется натуральным. В несовместимых позициях оказываются автор романа и я – двойник, лицо из романа, приятель, который озлоблен, и пр. Такую картину являет отождествление «мира» и мира, романа и жизни, естественно мотивированное единством личности я – человека и автора вместе. Но это единство – живое противоречие (живое не фигурально, а прямо в виде живого я), и оно плодит противоречия в тексте, те самые, что «замечает» поэт в заключение первой главы. Композиция Пушкина изображает единство и противоречие романа и жизни как внутреннее единство и противоречие особой личности – автора. «Поэзия действительности» отождествляет себя с действительностью на страницах «Онегина», роман, подобный жизни, будто бы сознаёт себя прямо жизнью, поэт существует уже в двух мирах как в одном, но неожиданно для наивного реализма совмещённая эта реальность показывает себя нереальной и невозможной; смешанный мир на брегах Невы – фантастический «мир в квадрате», и он раздваивается в наших глазах; разделяются как «две вещи несовместные», как два нетождественных отношения – герой моего романа и добрый мой приятель. Миры разделяются внутри единого я поэта: отождествляя своё сознание автора и своё бытиё человека, он сам с собой оказался в несовместимом противоречии, он должен физически раздвоиться, чтобы быть верным этому тождеству. Смешение миров, отождествление романа и жизни (изображённое сознание автора – наивного реалиста) становится сознательным разграничением у настоящего автора романа «Евгений Онегин», Пушкина, «поэта действительности».
Роман открывается внутренним монологом: Так думал молодой повеса. Сразу, без предисловий, мы в его мире и вместе с ним, в его «внутреннем мире» даже. Но тотчас же во второй строфе заплетается узел противоречий, и нам представлен герой моего романа – как будто бы в той же плоскости то же лицо, однако он явлен нам по—другому. Уже мы не вместе с ним и видим его из другой действительности как героя романа. Автор снова объединяет и смешивает, но через это как раз разделяет и раздвигает, строит дистанцию именно там, где, кажется, совсем потерял её. Мы в независимом мире «внутри», вместе с его людьми, не знающими о творении и творце, и даже автор «гуляет» по этому миру его персонажем, и мы вне этого мира вместе с его создателем, на космической позиции по отношению к этому миру. Замкнутый образ мира в романе плюс образ романа: эти два плана вместе – единый план романа в стихах. Роман героев изображает их жизнь, и он же изображён как роман. Мы прочитываем подряд:
В начале нашего романа,
В глухой, далёкой стороне…
Где имело место событие, о котором здесь вспоминают? Нам отвечают два параллельных стиха, лишь совокупно дающих пушкинский образ пространства в «Онегине». В глухой стороне, в начале романа – одно событие, точно локализованное в одном—единст—венном месте, однако в разных мирах. В глухой, далёкой стороне взято в рамку первым стихом; мы их читаем следом один за другим, а «видим» один в другом, один сквозь другой. И так «Евгений Онегин» в целом: мы видим роман сквозь образ романа.
Итак, роман героев не равен роману Пушкина, их границы не совпадают. Роман Пушкина «больше» (или «шире») романа героев: образ мира в романе «в третьем лице» объемлется образом сознания автора «в первом лице». Этот «плюс» к роману героев именуют обычно «отступлениями», следом за словом автора в тексте (5, XL); между тем, мы видели, это в известном смысле первоэлемент романа Пушкина, первичная реальность его. Речь «от автора», образ «в первом лице» не отступает от главного в сторону, но обступает со всех сторон. Роман Онегина сразу показан как мой роман, Онегин – как мой герой. Это универсальное мой – предпосылка всего, чем наполнен «Евгений Онегин»; всё, что сюда из мира вошло, вовлечено этим личным моим отношением, помечено первым лицом, является с этим знаком. Мои богини! что вы? где вы? Я шлюсь на вас, мои поэты, Весна моих промчалась дней, Нет, не пошла Москва моя: все первые лица из одного источника и ведут к одному центру и этим равны друг другу. Но в то же время они не равны: герой моего романа – добрый мой приятель. От единого центра эти мои отношения разно направлены в окружающий человеческий мир или же в «мир» романа. Переходами первого лица и строится разноплановая композиция романа в стихах. Г. О. Винокур писал, вспоминая формулу об «энциклопедии русской жизни» Белинского: «Но в этой энциклопедии все отделы подписаны одним и тем же именем, и потому для неё понадобилась необычная и специфическая форма. Эта форма должна была позволить автору не только вместить весь его материал в одну общую раму, но также совместить различные пласты этого материала и разместить его надлежащим образом в соответствии с замыслом».[34 - Г. Винокур. Слово и стих в «Евгении Онегине» // Пушкин: Сб. ст. ГИХЛ. М., 1941. С. 172; Он же. Филологические исследования. М.: Наука, 1990. С. 160.]
Нам надо ближе теперь рассмотреть, как материал совмещён и размещён «в одной общей раме». Парадоксальный смешанный мир, который сложился уже во второй строфе и тут же стал разделяться, и в целом плане романа членится и распадается, чтобы снова отождествляться, объединяться в целое; членится сплошное повествование, бегущее непрерывно. Сложность пушкинской композиции – в одновременности чувства единства и несовместности; несовпадающие реальности скрываются в том, что можно на материале романа определить однозначно как «мир», «действительность», «я»; структура их образов неоднородна, разноречива. В сплошной действительности, представленной Пушкиным, нам различается не одна, а, пожалуй, несколько неоднородных «действительностей» (и им соответствующих повествовательных рядов в одном непрерывном повествовании), переходящих одна в другую, парадоксально соотнесённых. Их можно было бы условно определить как «действительность Онегина» (роман героев, в собственном смысле роман), «действительность я» (человеческий опыт я, его лирика, «отступления»), наконец, «действительность автора», пишущего роман. Эти действительности «продолжают» одна другую, так что человеческий опыт я совмещается с действительностью Онегина, а в свою очередь я естественно совмещается с автором. Результат, однако, парадоксален: образовавшийся из этого совмещения планов единый план и есть тот несовместимый мир, который мы созерцаем уже во второй строфе. Мир, где живут герои романа и здесь же пишется этот роман, – в той же самой одной общей плоскости.
В давней статье В. Шкловский писал об идее «одного остроумного художника» иллюстрировать в романе Пушкина не сюжет Онегина и Татьяны, а главным образом «отступления»: «…с точки зрения композиционной это будет правильно».[35 - В. Шкловский. О теории прозы. М.; Л.: Круг, 1925. С. 161.] Однако именно с точки зрения композиционной это будет так же односторонне (вероятно, всё—таки более односторонне), как иллюстрировать только сюжет героев. Для В. Шкловского в той статье собственно композиционная роль принадлежит у Пушкина «отступлениям», перебивающим роман героя с Татьяной и показывающим конструкцию вместо наивного переживания «жизни», показывающим эту изображённую жизнь как лишь «материал для сюжетного оформления». Но «жизнь» романа сама по себе уже есть композиция и как таковая участвует в более общей у Пушкина композиции целого; она соотносится с областью «отступлений», а они ведь тоже являются «жизнью»; целая композиция возникает из этого отношения планов. Мысленно зримый эквивалент композиции этой – как будто двустворчатая развёрнутая картина, диптих, дающий нам обозреть «расщеплённую двойную действительность»[36 - А. В. Чичерин. Идеи и стиль. М.: Советский писатель, 1965. С. 110.] в параллельном созерцании и взаимосравнении планов. Так что читающее сознание «смотрит» на две стороны от композиционной оси – мы видим героев в их ситуациях, а рядом параллельной серией кадров: я бродит у моря и ждёт погоды, сходится при разъезде на крыльце с семинаристом в жёлтой шале иль с академиком в чепце, пишет в уездной барышни альбом, душит трагедией в углу, доволен, въезжая в Москву, и пр. «С точки зрения композиционной» интересно и важно, как переходят одна в другую эта действительность я и изображённая «жизнь» романа героев – продолжает одна другую в едином мире или они взаимно относятся как—то иначе и их не соединить в одном измерении.
Кажется по всему, что Онегин и я измерены одними предметами, присутствуют вместе в мире; действительность я и роман героев приравнены, совмещены в одной общей плоскости.
Вот, например, из множества случаев такого приравнивания масштабов: Так люди (первый каюсь я) / От делать нечего друзья – заключение из рассказа о том, как сошлись Онегин и Ленский. Всё время это сугубо частное я меряется с действительностью героев, оказываясь «внутри». Я по разным разрозненным случаям является нам своими отдельными эмпирическими состояниями: Я помню море пред грозою, Я знал красавиц недоступных, Я русской речи не люблю, Ах, братцы! как я был доволен; среди них моментальное «фотографическое» отражение жизненных обстоятельств поэта в то самое время, когда это пишется, синхронность строки и жизни, совпадение образа я и Пушкина 1823 года, в Одессе, с его будущей жизнью, такой же открытой и неизвестной, свободной в возможностях, как неизвестна, открыта и впереди туманна даль свободного романа, только что начатого:
Придёт ли час моей свободы?
Пора, пора! – взываю к ней;
Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
Эта лирика я в романе куда эмпиричнее, необобщённее, чем собственно лирика Пушкина. Читатели из близкого личного круга склонны были, особенно поначалу, именно так эмпирически воспринимать роман в стихах как личное отражение автора, звук его голоса: «Кроме прелестных стихов, я нашёл тут тебя самого, твой разговор, твою весёлость и вспомнил наши казармы в Милионной» (Катенин Пушкину 9 мая 1825: 13, 169). Вяземский писал А. Тургеневу уже в 1828 году: «„Онегин“ хорош Пушки—ным, но, как создание, оно слабо».[37 - Архив братьев Тургеневых. Вып. VI. СПб., 1921. С. 65.] Приятели—литераторы читают роман, словно слишком близко смотрят картину. В самом деле «Онегину» свойственна «живописность» – в том смысле, что мы будем иначе воспринимать его, «то приближаясь, то отходя», и эмпирические «мазки», «движения кисти» обратятся в «создание» на дистанции. В плане «создания» именно так огромной дистанцией обусловлена лирика я, личное отражение самого Александра Пушкина. Личное эмпирическое далеко не тождественно творческому сознанию автора, и непосредственность я весьма опосредована дистанцией.
Итак, опыт я как будто укладывается с опытом персонажей в одной действительности. Я рассказывает «историю» по личным воспоминаниям и общим впечатлениям; но, собственно говоря, лишь в первой главе это так. Уже начиная с главы второй тон рассказчика не может быть оправдан положением свидетеля, очевидца; но тон присутствующего продолжается и вне этой мотивировки: Но Ленский, не имев конечно / Охоты узы брака несть… По—прежнему и до конца «автор присутствует в романе среди своих героев»,[38 - М. А. Рыбникова. Автор в «Евгении Онегине» // М. А. Рыбникова. По вопросам композиции. М., 1924. С. 22.] но человеческое присутствие обращается в идеальное соприсутствие автора. Рассказчик, который видит и слышит, становится автором, который знает, но автор в себе сохраняет того же рассказчика. Словом, не прекращается до конца колебание, удвоение мира, его пространства и всех его отношений. Колеблется непрестанно позиция я, и амплитуда её колебаний заключена между эмпирическим первым лицом – приятелем и рассказчиком в одном масштабе и в рост с персонажами, или частным человеческим Пушкиным – и Пушкиным—духовидцем, творцом, сознанием автора, всё объявшим, и в том числе это малое я.
Автор противоречит приятелю, мы помним, уже во второй строфе. Модификации я все представлены сразу в первой главе, все переходы и превращения в этой широкой рамке: приятель, лицо при герое – самостоятельная жизнь, «отступления» – автор, пишущий эту книгу. Изображу ль в картине верной / Уединенный кабинет…, Описывать моё же дело… – вот явления автора на месте другой ипостаси. Он не только описывает, но обсуждает здесь же свою работу: Что уж и так мой бедный слог / Пестреть гораздо б меньше мог., Противоречий очень много. Эти обсуждения профессиональных забот выглядят столь же случайными, эмпирическими, мгновенными, дневниковыми, как человеческая лирика я. И это всё как будто в том же ряду, что дружба с Онегиным, ибо поддерживается единство я. В самом деле, поэт продолжает естественно человека, «действительность автора» продолжает «действительность я»: воспоминание женских ножек или трудности с рифмой идут рядом и смешиваются в опыте я. Дела поэтические и профессиональные даны нарочно в общем ряду моей жизни: вместе служенье муз и «отрасль честной промышленности». Поэт «окружён» человеком, определяется в человеческой среде, и настоящему автору для сложной композиции целого нужна именно эта композиция я: нужны переходы жизни с поэзией и человека с поэтом.
На переходах этих основана композиция Пушкина. Как мы видим, для Пушкина была задачей не внешнего упорядочения, но внутренней организации смысла та задача распределения материала, о которой писал Г. Винокур: как совместить и как разместить материал романа в планах его композиции. Область я, человеческий опыт я продолжает роман героев, совмещается с ним как та же действительность; в свою очередь, автор естественно продолжает я—человека. Но это распространение мира в одной общей плоскости даёт неожиданный («нелогический») результат: жизнь и работа автора не могут лечь в одной плоскости с жизнью героев романа этого автора.
Но, значит, и человеческая действительность я, его общие впечатления с героем романа, его отступления – это тоже другой порядок, несовместный с порядком Онегина, раз тождественны я и автор романа. Я вместе с Онегиным в том же ряду и я – автор Онегина: самопротиворечивое, парадоксальное я. Но тогда противоречивы и двойственны все предметы, которые здесь обусловлены как мои: все эти общие вещи, из которых построен единый у автора и героя мир, – театр, деревня, красавицы, аи и бордо и пр. «Расщеплённая двойная действительность» возникает не просто из разного отношения ко всему этому я и Онегина; эти простые вещи сами по себе являют «расщеплённую двойную действительность», поскольку отношения к ним героя и автора не помещаются рядом в одном измерении, и скреплённый общностью этих предметов мир двоится на человеческий мир, в котором присутствует автор, и «мир» романа героев. Автор не из той же действительности вспоминает аи и бордо, когда описывает обед Онегина с Ленским. Общий предметный мир вокруг Онегина и в отступлениях я – это предметы – «прототи—пы» и их двойники в романе. Автор пересаживает предметы из своего житейского опыта в роман, помещает их в новую композицию, строит из этой предметности новый подобный мир. Предметность «Онегина» – одновременно жизненная среда и строительный материал. Вещи как будто совсем не меняются, переходя из окружения автора в окружение героя романа, и эта тождественность многих отдельных предметов возбуждает вопрос о тождественности, однородности либо несовместимости, разнородности этих миров в их целом. В композиции «Евгения Онегина» роман героев, особый замкнутый мир, охвачен сознанием автора, в котором роман незамкнут, открыт, его границы подвижны, он возобновляется и возрастает из жизни, и материал превращается в новую «жизнь» – то ли двойник настоящей, то ли действительно новое, духовное прибавление к ней.