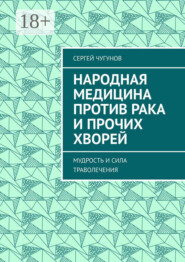По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мелочь, но приятно. Юмористические миниатюры, пародии, стихотворения и сказки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
и срывал на Глашке зло.
Вину бабка отрицала,
головою лишь качала:
– Ты чего так осерчал?
Мал те трезвого скандала?!
Вновь Иван воды налил,
вновь рубаху замочил.
«Экспримент» решил поставить —
«энто дело» он любил.
Ждал он, ждал… Да ждать устал,
призадумался мал-мал,
вскоре вовсе закемарил…
А когда глаза продрал —
всё как раньше…
Вновь промашка:
вновь суха его рубашка;
вновь задумался Иван:
«Но теперь совсем не Глашка!?
Я ж сидел спиною к двери…
Знать из импортной матерьи,
защищат, знать, от воды…
Вот жа выдумали звери!
Ладно-ть, что врагов корить,
буду я и так ходить,
только б надобно погладить…»
И пошёл утюг просить
у отходчивой соседки.
Та утюг давала редко,
всё боялась, что пропьёт,
всё ж утюг – не табуретка.
Но на это раз дала!
Гладить стал, тоска взяла,
всё морщинится рубаха,
как не гладишь – во дела!
– Да-аа… как следует напиться
не успел… мать! – матерится
Огородников, – Не сплю,
а уж сон кошмарный снится.
Постоял. Утюг отнёс.
«Кто-то шутит… и всерьёз!
Самого себя, аж, жалко,
и, не просто так, до слёз…»
Ваня в «чуйствах» прослезился,
остограммился, побрился,
влез в рубаху, денег взял
и, как-будто, испарился…
Лишь захлопнулася дверь,
озираясь, будто зверь
после спячки из берлоги,
Глаша вышла…
«Фу-уу… теперь,
можа дух перевести,
Ваньку ежли довести
до каленья – порешит ведь!
Надо так не повезти
мне с суседом…
Прости, Боже!
всё болтаю и чаго же…
Всё пред боженькой равны!
Так ругаться мне негоже».
Глаша кликнула тут киску,
налила ей супа в миску
и ушла, бубня под нос:
«Довязать к утру б манишку…»
Подтяжка, миска да престранная записка…
(день третий)
На Карп?евом пруду,
видя лебедей чету,
думу думал Ваня: «Боже!
И к кому, куда пойду?
Кто же змея приголубит?
Водка? – губит, но не любит…
Друг? – я нужен, пока пьёт,
обнесёшь – он, враз, забудет;
В келью-комнатку на Мойке,
ту, что окнами к помойке,
где когда-нибудь загнусь
после дружеской попойки?»
«Для чего я создан был? —
мыслит он, – чтоб гадость пил?!
Может быть, не Бог, божёнок-
практикант меня лепил.
Я не думаю, чтоб мог
ошибиться Господь Бог…
Вину бабка отрицала,
головою лишь качала:
– Ты чего так осерчал?
Мал те трезвого скандала?!
Вновь Иван воды налил,
вновь рубаху замочил.
«Экспримент» решил поставить —
«энто дело» он любил.
Ждал он, ждал… Да ждать устал,
призадумался мал-мал,
вскоре вовсе закемарил…
А когда глаза продрал —
всё как раньше…
Вновь промашка:
вновь суха его рубашка;
вновь задумался Иван:
«Но теперь совсем не Глашка!?
Я ж сидел спиною к двери…
Знать из импортной матерьи,
защищат, знать, от воды…
Вот жа выдумали звери!
Ладно-ть, что врагов корить,
буду я и так ходить,
только б надобно погладить…»
И пошёл утюг просить
у отходчивой соседки.
Та утюг давала редко,
всё боялась, что пропьёт,
всё ж утюг – не табуретка.
Но на это раз дала!
Гладить стал, тоска взяла,
всё морщинится рубаха,
как не гладишь – во дела!
– Да-аа… как следует напиться
не успел… мать! – матерится
Огородников, – Не сплю,
а уж сон кошмарный снится.
Постоял. Утюг отнёс.
«Кто-то шутит… и всерьёз!
Самого себя, аж, жалко,
и, не просто так, до слёз…»
Ваня в «чуйствах» прослезился,
остограммился, побрился,
влез в рубаху, денег взял
и, как-будто, испарился…
Лишь захлопнулася дверь,
озираясь, будто зверь
после спячки из берлоги,
Глаша вышла…
«Фу-уу… теперь,
можа дух перевести,
Ваньку ежли довести
до каленья – порешит ведь!
Надо так не повезти
мне с суседом…
Прости, Боже!
всё болтаю и чаго же…
Всё пред боженькой равны!
Так ругаться мне негоже».
Глаша кликнула тут киску,
налила ей супа в миску
и ушла, бубня под нос:
«Довязать к утру б манишку…»
Подтяжка, миска да престранная записка…
(день третий)
На Карп?евом пруду,
видя лебедей чету,
думу думал Ваня: «Боже!
И к кому, куда пойду?
Кто же змея приголубит?
Водка? – губит, но не любит…
Друг? – я нужен, пока пьёт,
обнесёшь – он, враз, забудет;
В келью-комнатку на Мойке,
ту, что окнами к помойке,
где когда-нибудь загнусь
после дружеской попойки?»
«Для чего я создан был? —
мыслит он, – чтоб гадость пил?!
Может быть, не Бог, божёнок-
практикант меня лепил.
Я не думаю, чтоб мог
ошибиться Господь Бог…