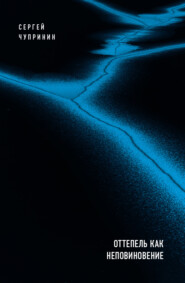По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Признательные показания. Тринадцать портретов, девять пейзажей и два автопортрета
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Средства эти, – продолжал Некрасов, – ваши рассказы… Их в “Современнике” напечатано так много, что из них выйдет довольно солидный томик. Я издам их в свет, а вам дам денег на путешествие, которое для вас будет очень полезно… В Париже теперь живет Тургенев, в Ницце Добролюбов, во Флоренции Боткин, автор “Писем об Испании”. Если хотите, мы вас снабдим письмами к ним».
Одним словом, жизненные и литературные блага сыпались на Успенского как из рога изобилия. Оставалось вроде бы только благодарить судьбу, сведшую начинающего писателя с кругом «Современника», радикально-демократической и либеральной творческой интеллигенции.
Но не таков, совсем не таков был Николай Васильевич Успенский, чтоб только благодарить или пользоваться случаем для расширения своего культурного кругозора. Вернувшись из-за границы, где он, судя по его же письмам поэту К. К. Случевскому, провел около года, не столько знакомясь с прославленными красотами Рима и Парижа, сколько созерцая «свеженькие юпочки» гризеток, Успенский тут же устроил Некрасову дикий скандал, обвиняя его в «спекуляторстве» и нечестности денежных расчетов. При этом, стремясь заручиться поддержкой Чернышевского, умудрился и его грубо задеть, так что, спустя всего два месяца после выхода прославившей Успенского статьи «Не начало ли перемены?», Чернышевский вынужден был потребовать от своего недавнего «любимца» формальных извинений.
Извинения Чернышевскому были принесены. Но в свей распре с Некрасовым – абсолютно, как показал, основываясь на архивных материалах, К. И. Чуковский, немотивированной и безусловно оскорбительной для чести издателя «Современника», – Успенский не унимался, настаивая на «третейском суде», понося своего «благодетеля» везде, где его только соглашались слушать.
И, естественно, был безжалостно выброшен из круга «Современника». Вернее, вышел все-таки из него сам, с треском хлопнув дверью, подобно тому, как это несколькими годами ранее случилось в Медико-хирургической академии.
Не спрашивайте, что было пружиной затеянного Успенским и убийственного для него же самого скандала. Водка ли виновата («В это время он уже пьянствовал так, что редко бывал в трезвом виде», – пишет К. И. Чуковский), писательское ли самомнение, махровым цветком распустившееся в атмосфере дружественных похвал и покровительствования, фанаберия ли «нигилиста из бурсаков», отроду не знакомого с чувством меры или хотя бы с чувством края, – бог весть. Важно то, что именно на самом крутом подъеме творческого пути, когда будущее казалось безоблачным и ум теснили дерзкие литературные планы[1 - «…Вы не знаете, какой у меня план для романа, – писал он Случевскому из Парижа. – Фу! Где вам знать! Какой-нибудь Дюма написал бы 30 частей (томов) на этот сюжет».],
«вдруг он, – по словам К. И. Чуковского, – сорвался и полетел словно в яму, безостановочно, покуда не очутился на дне».
Поначалу, конечно, о «дне» и помину не было. «Подверстав» свой сугубо денежный раздор с Некрасовым к недавно завершившемуся процессу идейного размежевания писателей – либералов и «аристократов» с «Современником»[2 - «Следуя примеру Тургенева, Толстого, Гончарова и Достоевского, я, – говорил Успенский в книге “Из прошлого”, – прекратил всякие сношения с незабвенным поэтом и издателем “Современника”».], Успенский на первых порах был, с одной стороны, поддержан в материальном отношении Толстым и Тургеневым, а с другой, с распростертыми объятиями принят во враждебных Чернышевскому изданиях («Искра», «Отечественные записки», «Русский вестник», позднее «Вестник Европы»).
Но что же из этого вышло? Решительно ничего хорошего. Толстой тогда же, в 1862 году, пригласил Успенского учителем в яснополянскую школу и перепечатал у себя в журнале его рассказ «Хорошее житье». Но Успенский в Ясной Поляне надолго не задержался, на прощание нахамив, по своему обыкновению, гостеприимному хозяину и далеко окрест разнеся сплетни о его «барских причудах».
Еще хуже обернулось дело с Тургеневым, который безвозмездно предоставил Успенскому в своем Спасском несколько десятин земли, чтобы тот жил, не нуждаясь и спокойно занимаясь писательством. Но Успенский и там не усидел («…Скука одолела меня… – жаловался он впоследствии. – А была осень… Вокруг моей хижины бушевал порывистый ветер и завывали волки…»), пожил сначала в Петербурге вместе с Глебом Успенским, помыкaлся потом там и сям и наконец, нежданно вернувшись в Спасское, задумал продать выделенный ему участок земли в чужие руки. Уговоры одуматься, усовеститься результата не имели, и Тургеневу пришлось заплатить Успенскому за свою же собственную землю, и только тогда тот выехал из Спасского, «осыпая, – по свидетельству мемуариста, – Ивана Сергеевича бранью, говорил, что Тургенев его надул, что он отнял у него то, что было подарено ему»…
Литературные дела тоже довольно скоро разладились. Стоило поддержавшим Успенского умеренно-либеральным в ту пору «Отечественным запискам» заявить, что в своих новых рассказах писатель становится наконец-то «чистым художником» и тенденция уже не берет у него перевеса над формой, как «Современник» тут же подверг «отступника» и «перебежчика» уничтожающей критике, весьма сурово оценив и новые вещи Успенского, и старые – те самые, что так охотно печатались «Современником» прежде и на его же страницах были широко распропагандированы Чернышевским. «Отечественные записки», конечно, воспользовались поводом обвинить орган радикальной демократии в «партийной» кастовости, лицемерии и цинизме, но «Современник» стоял на своем, и его влияния на просвещенную публику было вполне достаточно, чтобы за Успенским закрепились не только прозвища «человеконенавидца» (в этическом плане) и «ренегата» (в плане идеологическом), но и репутация бесталанного беллетриста-фотографа «с крошечным куриным миросозерцанием и крошечной куриной наблюдательностью».
Террор общественного мнения не знал пощады, росли, надо думать, и болезненные наклонности самого Успенского, так что вся его жизнь в семидесятые и восьмидесятые годы превратилась в беспрерывную вереницу унижений, скандалов, «балаганств», все новых и новых ударов судьбы. Выдержав экзамен на звание учителя русского языка и словесности, он пытается преподавать, но всякий раз срывается и в итоге, без разрешения дирекции покинув Первую московскую военную гимназию задолго до окончания учебного года, едва не оказывается под военным судом – за «дезертирство» и невыплату выданных ему денежных средств. Он уже в конце семидесятых годов по страстной любви женится на шестнадцатилетней поповне, и тут же погрязает в раздорах с тестем из-за приданого, а когда жена, кочевавшая с ним из деревни в деревню, погибает, Успенский берет гармошку, чучело крокодила и двухлетнюю дочь, чтобы ради рюмки петь и плясать с нею в трактирах и в трактирах же за деньги рассказывать биографии знаменитых русских писателей.
Глядя на отснятые во время путешествия по заграницам фотографии щеголеватого, красивого молодого Успенского, больно сравнивать их со свидетельствами мемуаристов о распухшем от пьянства, лохматобородом старике в арестантской овчинной бекеше, которому каждый случайный собутыльник мог «закатать в шею».
Да вот, пожалуйста, – приведенное И. А. Буниным повествование лобановского кабатчика об Успенском в последние годы его беспокойной жизни:
«Известно, – бродяга был. Чудной какой-то. Он, может, там и ученый был, только мы этому не верили. Какое же, к примеру, ученье, когда шлялся нищебродом? Раз пришел ко мне. Мы с женой сидим, чай пьем. “Дай, пожалуйста, чайку стаканчик”. – “Нету, говорю, весь уже выпили”. – “Ну, хоть стаканчик!”
“Да нету же. – Зло меня даже взяло. – Не заваривать же для тебя”.
“Ну, хоть теплой водицы из самовара; дай, ради Бога – душа пересохла”.
“Это, говорю, дело другое. Авось не жалко”. Налил ему стакан воды. Так, поверите, затрясся, – глотает, обжигается. Потом говорит: “Дай водочки”. – “Да у меня не кабак”. – “Да ведь знаю, говорит, торгуешь”. – “Ну, а знаешь, – деньги давай”. – “Денег нету”. – “Ну, и водки нету”. – “Так возьми, говорит, что-нибудь”. – “А что у тебя?” – “Возьми штаны”. Поглядел я штаны эти, а там вместо штанов опоясья одни остались. На кой они мне черт. – “Ну, возьми гармонию. Я потом выкуплю”. Дал я ему за гармонию четверть. Он тут же всю ее с мужиками и выпил. Хорошо. Только дня через два – становой ко мне. Что такое? Оказывается, это все Николай Василич обработал. Подал заявление, что мы водкой без патента торгуем и гармонию у него отняли. Да ведь как оборудовал! Совсем я было пропал, да следователь хороший попался. Рассказал я ему при свидетелях, что он гармонию мне подарил – ну и выпутался почти. Следователь даже поругал его. “Бродяга, говорит, ты! Как же ты можешь напраслину возводить на человека?” И действительно попутал его Бог. 3арезался, слава Богу, как пес какой…».
И все-таки, как ни красноречивы эти подробности, еще больнее, пожалуй, думать о писательском, общественном падении Успенского. Критика, с середины шестидесятых годов подвергшая писатели остракизму за «измену» прогрессивным идеалам, позднее вообще перестала о нем упоминать, а если и вспоминала, то с гадливой уничижительностью[3 - Единственным исключением является сравнительно сочувст вен ная по отношению к писателю статья Н. К. Михайловского «Сочинения Н. В. Успенского», помещенная в февральской книжке «Отечественных записок» за 1877 г.]. Новые книги, собрания сочинений Успенского почти не расходились, и Тургенев уже в 1868 году не без удовлетворения говорил в одном из писем о «фиаско… насчет продажи сочинений Успенского». Солидные литературные журналы один за другим закрывались перед писателем, талант которого и в самом деле шел на убыль, и Успенский, побывав в иллюстрированных «Будильнике», «Сиянии», «Ниве», «Осколках», под конец жизни докатился до ультрареакционного, охотнорядского «Развлечения», где и помещал свои оскорбительные, полные сплетен и пасквильвых выдумок мемуары, которые вызвали резкий протест общественности и даже пресловутым В. Бурениным были названы на страницах «Нового мира» циничной ложью.
Что же в итоге?
Итог известен: «3арезался, слава Богу, как пес какой…». И пожалел о нем, окончательно запятнав тем самым память о писателе-демократе, только известный своим крайним мракобесием князь В. П. Мещерский.
«Умерший писатель, принадлежавший, как известно, к консервативному лагерю… – указывал князь с притворным состраданием, – не был служителем либеральной музы, не был писателем, изливающим либерально-народнические ламентации, – поэтому он умер нищим, голодным и холодным в стране, где существует Литературный фонд, в громадном городе, где издается несколько газет и журналов. Двери последних были закрыты для покойного. Еще бы! Он не принадлежал к той либеральной клике, которая не прочь проводить до кладбища гроб человека, ею же уморенного голодом».
2
А теперь нам придется вернуться к самому началу и в другом, что ли, аспекте поговорить о писателе, навлекшем на себя великие беды ввиду собственного несносного характера и собственной неблагодарности.
Только ли в них дело? Или, может быть, корень в том, что Успенский с годами действительно отрекся от идеалов вольнолюбивой юности, предал заветы радикально-демократического лагеря, переметнувшись в стан «охранителей» и ура-патриотов, вроде князя Мещерского или сотрудников «Развлечения»?
Выпущенные в конце 1980-х годов однотомники избранных произведений Успенского позволят, я думаю, современному читателю убедиться в том, что, изменяясь, конечно, в частностях, в деталях, мировосприятие и творческая манера писателя в целом и главном сохранили удивительную устойчивость. И в «Егорке-пастухе», и в «Народном печальнике», и в «Небывалом случае», и в других произведениях, созданных в семидесятые годы, Успенский по сути тот же, что и в «Хорошем житье», «Змее», «Сельской аптеке», печатавшихся в «Современнике» и прославленных «Современником». Тот же, во всяком случае, насмешливый, злоязыкий юмор. Та же точность бытовых примет и речевых характеристик. То же тяготение к гротеску, к сатирической гиперболизации «свинцовых мерзостей» российской действительности второй половины ХIХ века.
И та же беспощадная, безыллюзорная правдивость.
Вот в ней-то, кажется, а совсем не в присочиненном «ренегатстве», – существо писательской драмы Николая Успенского. Недаром ведь Чернышевский, начав свою знаменитую статью 1861 года с вопроса:
«Чем г. Успенский привлек внимание публики, за что он сделался одним из любимцев ее?» —
так ответил сам себе:
«Нам кажется, что причиною тут не одна бесспорная талантливость, – мало ли было произведений, написанных с талантом и все-таки не возбуждающих ни малейшего участия к себе? Есть у г. Успенского другое качество, очень сильно нравящееся лучшей части публики. Он пишет о народе правду без всяких прикрас».
В чем же состоит эта «правда без всяких прикрас»? В том, что, по глубокому убеждению Успенского, российское крестьянство в массе своей, за вычетом немногих исключительно даровитых натур, то ли не вышло еще из состояния первобытной дикости, то ли замордовано уже до полной идиотичности, до вытравления хотя бы рудиментарных признаков умственной, духовной и нравственно-культурной жизни. Его интересы, как утверждает писатель, всецело связаны с мечтами о том, как бы прокормиться, и, еще в большей степени, что бы такое из домашнего скарба снести кабатчику в обмен на косушку или осьмушку «очищенной». Любовь в этой среде сплошь и рядом сводится к грубому блуду, набожность – к варварским суевериям, а художественный инстинкт проявляет себя разве только в пьяных песнях да россказнях о шатающихся по ночам мертвецах. И – никаких перспектив, никаких порываний к лучшей доле; те мужички, что описаны Успенским, сами отволокут любого «смутьяна» или «агитатора» к становому, с враждебной опасливостью относясь даже к тем из деревенских, кто, подобно героине рассказа «Колдунья», попытается своим трудом, своими силами выбиться из застарелой нужды.
Под стать мужикам и сельские «интеллигенты», если это слово, даже взяв его в иронические кавычки, можно применить к приказчикам и священникам, пpичетникам и фельдшерам, прасолам и целовальникам. Разница лишь та, пожалуй, что тут еще явственнее сказывается «жеребячья порода», виднее развращенность, скудоумие, кичливость, нагляднее тяга к накопительству. Попадаются, конечно, в общей массе и те, кто посмышленее, побойчее, но их активность, лишенная какого бы то ни было нравственного стержня, направлена исключительно на то, чтобы разбогатеть, «окулачиться» – за счет нещадно спаиваемых крестьян (рассказ «Хорошее житье») или за счет столь же нещадно объегориваемых «господ» (повесть «Федор Петрович»).
А сами «господа» – как дореформенные, так и пореформенные? Прочтите «Деревенскую газету» и «Из дневника неизвестного», «Федора Петровича» и «Сашу», «Деревенский театр» и «Издалека и вблизи», «Родственное свидание» и «Небывалый случай» – разве под наносным слоем «благовоспитанности» и «просвещенности», пусть даже на прогрессистский манер, не торжествуют в точности такие же развращенность, апатия, недомыслие, что и в простонародной среде, только тут эти качества выглядят еще гаже, ибо они породнены с праздностью, сытостью и бесконтрольным своеволием?..
А теперь попробуем вообразить, как эти «очерки народного быта» читались публикою, чьи представления о крестьянах были связаны с Антоном-Горемыкой Григоровича, Хорем и Калинычем Тургенева, с дворовыми людьми, о которых рассказывали Аксаков в «Семейной хронике» в «Детских годах Багрова-внука», Толстой в автобиографической трилогии. Какие ощущения испытывала публика, понимая, что в кругу описанных Успенским хоботовых, загвоздкиных и галкиных не приживутся, да и не могут прижиться, ни рудины, ни лаврецкие, ни иртеньевы?..
Шок – вот слово, которое приходит на ум, когда знакомишься с откликами современников на первые публикации Николая Успенского (они, заметим кстати, вообще были едва ли не первым словом писателей-разночинцев в русской литературе – произведения Слепцова появились в «Современнике» лишь в 1862 году, Помяловского, Левитова и Решетникова – в 1864-м, а Глеба Успенского – в 1865-м).
Достоевский в статье, специально посвященной «Рассказам» 1861 года, мог, конечно, указывать, что Успенский, как верный описыватель народного быта, «явился после Островского, Тургенева, Писемского и Толстого» и потому «цена ему теперь совсем не та». Но Достоевский же и признавал, что, если предшествовавшие Успенскому «замечательные писатели» «заявили в литературе сознательно новую мысль высших классов общества о народе», то в произведениях Успенского народ едва ли не впервые, может быть, сам сказал о себе правду, и правда эта была такая, что «хуже всякой лжи». Во всяком случае, она резко контрастировала и с крепостническими иллюзиями насчет богобоязненных, преданных престолу и господам, трудо– и чадолюбивых мужичков, которым под барскою опекой гораздо уютнее, покойнее, чем на постылой воле. И с призывами Льва Толстого учиться у крестьянских детей нравственности и подлинной культуре. И с надеждами на скорую крестьянскую революцию, которая принесет стране конституционные свободы. И с распространенным в обществе мнением о том, что русский народ уже созрел для деятельности на социально-историческом поприще.
От соблазна обвинить Успенского в «неправдивости», в сознательном искажении истины о народе критики на первых порах воздержались: слишком силен был вызываемый его рассказами «эффект присутствия», слишком велико доверие к знанию жизни, непринужденно продемонстрированному молодым писателем. Зато с характерной для русской общественно-литературной традиции непременностью тут же возник вопрос: зачем? Зачем писатель из народа так оскорбительно, с такими душераздирающими подробностями, с такою будто бы даже озлобленностью – вот, мол, вам, и еще, и еще! – говорит о народе? Что он хочет этим сказать? К чему призывает?..
«Старуха», «Поросенок», «Змей», «Обоз» никак вроде бы не поддавались однозначной идеологической интерпретации в категориях «левизны» – «правизны», «прогрессивности» – «реакционности», и в первых же отзывах критики писатель, заподозренный в «общественном индифферентизме», был зачислен в разряд бытописателей-фотографов, с холодным и бесстрастным равнодушием фиксирующих «мелочи жизни», не умея, по словам А. М. Скабичевского, при этом «отличить глубоко раздирающего стона бедняка от уличного крика пьяницы».
«Он приходит, например, на площадь, – сердито писал об Успенском и Достоевский, – и, даже не выбирая точки зрения, прямо, где попало, устанавливает свою фотографическую машину. Таким образом все, что делается в каком-нибудь уголке площади, будет передано верно, как есть. В картину войдет, естественно, и все совершенно ненужное в этой картине или, лучше сказать, в идее этой картины. Г-н Успенский мало об этом заботится… Если б из-за рамки картины проглядывал в это мгновение кончик коровьего хвоста, он бы оставил и коровий хвост, решительно не заботясь о его ненужности в картине».
Применительно к писательской манере Успенского характеристика, данная Достоевским, в общем-то справедлива. Предвосхищая позднейшие эксперименты писателей-натуралистов (а начиная с Чехова – и реалистов) по детализированному, мнимо бесстрастному воспроизведению «мелочей жизни», по «граммофонному», как выразился Корней Чуковский, способу записи и передачи живой разговорной речи, Успенский действительно кое в чем отступил от традиций высокой русской классики с ее преимущественным вниманием к психологическому миру личности, с ее «указующим перстом», нацеленным в самую сердцевину общественного бытия, с ее, наконец, поистине завораживающим искусством соединять «поэзию и правду» в пределах емкого и цельного художественного образа.
3
По части «поэзии» Успенский, незачем скрывать, заметно уступает своим великим современникам, но разве, спросим впрямую, одной только «правды» – чистой, беспримесной, не офальшивленной грубой тенденциозностью – мало для того, чтобы писателю было воздано должное – пусть не как врачевателю и исцелителю общественных язв, но хотя бы как их безжалостному диагносту?
Выходит, мало. «Правда» Николая Успенского о забитом, пpитерпевшемся к своим несчастьям, бездеятельном и бездуховном простонародье только раз пришлась ко времени: на рубеже пятидесятых – шестидесятых годов, когда общественное мнение было наэлектризовано толками об освобождении крестьянства и когда публицисты «Современника», поддерживаемые революционно настроенной молодежью, били во все колокола, надеясь разбудить народную волю и народный гнев.
Вот тогда-то Некрасов и схватился за безыскусные, казалось бы, «очерки народного быта». Вот тогда-то идеолог радикальной демократии Чернышевский и написал свою знаменитую статью, воспользовавшись рассказами Успенского как поводом к разговору, как материалом, свидетельствующим о том, что крестьянская масса уже доведена до крайнего отчаяния и что нужно лишь поднести зажженный фитиль, чтобы рванули пороховые погреба слежавшейся за века классовой ненависти.
Энергично доказывая эту мысль, Чернышевский, не вдаваясь, впрочем, в эстетические тонкости, оспорил почти все упреки, которые предъявлялись (да и впоследствии будут предъявляться) автору «очерков народного быта». Писатель искусственно принижает и тем самым унижает своих героев? Вот уж, по мнению критика, неверно: заслуга Успенского как раз
«в том, что он говорит о мужиках без церемоний, как о людях, которых он сам считает и читатель его должен считать за людей, одинаковых с собою, за людей, с которыми можно говорить откровенно все, что замечаешь о них».
Писатель, не скрывая темных и «низких» сторон крестьянского быта и патриархальной морали, говорит «о народе бог знает что, жестоко оскорбляющее нашу сантиментальную симпатию к нему»? И правильно делает, ибо вошедшее в либеральную привычку идеализирование мужика, по словам Чернышевского, действительно «прекрасно и благородно, – в особенности благородно до чрезвычайности. Только какая же польза из этого – народу», – и не полезнее ли вскрыть гнойники беспощадным скальпелем, чем покрывать их сусальным золотом?..
И последний упрек – в том, что Успенский выводит на первый план не героев, не яркие в своей нравственной неординарности натуры, а, что называется, «серую скотинку».
Чернышевский поначалу вроде бы соглашается: да, среди персонажей Успенского почти исключительно «люди дюжинные, люди бесцветные, лишенные инициативы», – но затем и этот факт оборачивает к выгоде для писателя: в том-то и существо дела, что даже