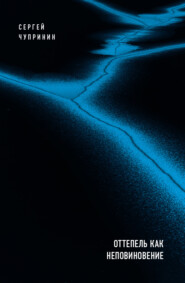По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Оттепель. События. Март 1953–август 1968 года
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Умер Великий наш вождь… и сегодня мы похоронили его, – записывает в дневник Александр Довженко. – Мы уже без Сталина родного. Лежал в гробу, подложив богатырские руки творца. <…> Как тяжело на сердце. <…> Долгие годы мы были спокойны с ним, потому что всякий чувствовал в работе, в творчестве, в исканиях, в войне, что есть у нас Сталин, и поэтому, как бы ни было тяжело, трудно или опасно, – все закончится хорошо, потому что всегда и во всем решительно он был на высоте. И… не стало его (А. Довженко. С. 704).
А вот на оловянном руднике Бутугычаг в Озерлаге (Дальстрой), – как вспоминает Анатолий Жигулин, —
все обнимали и целовали друг друга, как на Пасху. И на бараках появились флаги. Красные советские флаги, но без траурных лент. Их было много, и они весело и дерзко трепетали на ветру. <…>
Начальство не знало, что делать, – ведь на Бутугычаге было около 50 тысяч заключенных, а солдат с автоматами едва ли 120–150 человек. Ах! Какая была радость! (Знамя. 1988. № 8. С. 94).
Восьмиклассник Владимир Высоцкий пишет свое первое стихотворение «Моя клятва» в память о И. В. Сталине. Последние строфы этого стихотворения (В. Высоцкий. С. 269–270) звучат так:
В эти скорбно-тяжелые дни
Поклянусь у могилы твоей
Не щадить молодых своих сил
Для великой Отчизны моей.
Имя Сталин в веках будет жить,
Будет реять оно над землей,
Имя Сталин нам будет светить
Вечным солнцем и вечной звездой.
Но вот – в противовес этим настроениям – стихотворение Наума Коржавина «На смерть Сталина», написанное тоже в марте, но впервые опубликованное спустя 35 лет (Октябрь. 1988. № 8. С. 147–148):
Все, с чем Россия
в старый мир врывалась,
Так что казалось, что ему пропасть, —
Все было смято… И одно осталось:
Его
неограниченная
власть.
Ведь он считал,
что к правде путь —
тяжелый,
А власть его
сквозь ложь
к ней приведет.
И вот он – мертв.
До правды не дошел он,
А ложь кругом трясиной нас сосет.
Его хоронят громко и поспешно
Соратники,
на гроб кося глаза,
Как будто может он
из тьмы кромешной
Вернуться,
все забрать
и наказать.
Холодный траур,
стиль речей —
высокий.
Он всех давил
и не имел друзей…
Я сам не знаю,
злым иль добрым роком
Так много лет
он был для наших дней.
И лишь народ
к нему не посторонний,
Что вместе с ним
все время трудно жил,
Народ
в нем революцию
хоронит,
Хоть, может, он того не заслужил.
В его поступках
лжи так много было,
А свет знамен
их так скрывал в дыму,
Что сопоставить это все
не в силах —
Мы просто
слепо верили ему.
Моя страна!
Неужто бестолково
Ушла, пропала вся твоя борьба?
В тяжелом, мутном взгляде Маленкова
Неужто нынче
вся твоя судьба?
А может, ты поймешь
сквозь муки ада,
Сквозь все свои кровавые пути,
Что слепо верить
никому не надо.
И к правде ложь
не может привести.
9 марта. Похороны И. В. Сталина.
На траурном митинге председательствует Н. С. Хрущев. С речами выступают Г. М. Маленков, Л. П. Берия, В. М. Молотов.
Как замечает Любовь Шапорина,
все они гораздо больше говорят о партии, монолитности партии, необходимости сплотиться вокруг партии и т. д., чем о Сталине (Л. Шапорина. С. 228).
Гудят все заводы, пушечный салют, всегда напоминающий обстрел (Там же).
10 марта. На траурном митинге советских писателей в Театре киноактера выступают А. Сурков, М. Прилежаева, П. Воронько, А. Кулешов, К. Симонов[7 - «И я помню, – говорит Владимир Огнев, – как плакали сотрудники „Литературной газеты“ в зябкий день траурного митинга, когда Симонов читал стихотворение на смерть вождя <…>» (В. Огнев. Амнистия таланту. С. 119).], Г. Леонидзе, С. Вургун, Н. Грибачев, А. Чаковский, С. Капутикян, М. Смирнова, И. Эренбург. Свои стихи, посвященные памяти Сталина, читают О. Берггольц, А. Софронов, В. Инбер, М. Луконин, А. Лахути.
Я помню ужасный траурный митинг (вернее, собрание) в Союзе писателей после смерти Сталина, – вспоминает Валерия Герасимова. – Что-то завывал Сурков. Симонов рыдал – сначала я глазам не поверила, – его спина была передо мной, и она довольно ритмично тряслась… Затем, выступив, он сказал, что отныне самой главной великой задачей советской литературы будет воссоздание образа величайшего человека («всех времен и народов» – была утвержденная формулировка тех лет). Н. Грибачев выступил в своем образе: предостерегающе посверкивая холодными белыми глазами, он сказал (примерно), что после исчезновения великого вождя бдительность не только не должна быть ослаблена, а, напротив, должна возрасти. Если кое-кто из вражеских элементов, возможно, попытается использовать сложившиеся обстоятельства для своей подрывной работы, пусть не надеется на то, что стальная рука правосудия хоть сколько-нибудь ослабла. <…>
Ужасное собрание[8 - «Все были подавлены, растеряны, говорили сбивчиво, как будто это не опытные литераторы, а математики или землекопы, впервые выступающие на собрании, – вспоминает Илья Эренбург. – Ораторов было много. Я тоже говорил, не помню что, наверное, то, что и другие: «выиграл войну… отстаивал мир… ушел… скорбим… клянемся…» (И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Т. 3. С. 313).]. Великого «гуманиста» уже не было. Но страх, казалось, достиг своего апогея. Я помню зеленые, точно больные, у всех лица, искаженные, с какими-то невидящими глазами; приглушенный шелест, а не человеческую речь в кулуарах; порой, правда, демонстрируемые (а у кое-кого и истинные!) всхлипы и так называемые «заглушенные рыдания»[9 - «– Разве тогда о нем плакали? – сказал Л. – О себе плакали. Одни плакали от страха; другие – думая о прошлом или, о будущем. Все – иногда сами того не зная – о том плакали, что прошлого не исправить» (Л. Гинзбург. С. 209).]. Вселюдный пароксизм страха (В. Герасимова // Вопросы литературы. 1989. № 6. С. 141–142).
А вот на оловянном руднике Бутугычаг в Озерлаге (Дальстрой), – как вспоминает Анатолий Жигулин, —
все обнимали и целовали друг друга, как на Пасху. И на бараках появились флаги. Красные советские флаги, но без траурных лент. Их было много, и они весело и дерзко трепетали на ветру. <…>
Начальство не знало, что делать, – ведь на Бутугычаге было около 50 тысяч заключенных, а солдат с автоматами едва ли 120–150 человек. Ах! Какая была радость! (Знамя. 1988. № 8. С. 94).
Восьмиклассник Владимир Высоцкий пишет свое первое стихотворение «Моя клятва» в память о И. В. Сталине. Последние строфы этого стихотворения (В. Высоцкий. С. 269–270) звучат так:
В эти скорбно-тяжелые дни
Поклянусь у могилы твоей
Не щадить молодых своих сил
Для великой Отчизны моей.
Имя Сталин в веках будет жить,
Будет реять оно над землей,
Имя Сталин нам будет светить
Вечным солнцем и вечной звездой.
Но вот – в противовес этим настроениям – стихотворение Наума Коржавина «На смерть Сталина», написанное тоже в марте, но впервые опубликованное спустя 35 лет (Октябрь. 1988. № 8. С. 147–148):
Все, с чем Россия
в старый мир врывалась,
Так что казалось, что ему пропасть, —
Все было смято… И одно осталось:
Его
неограниченная
власть.
Ведь он считал,
что к правде путь —
тяжелый,
А власть его
сквозь ложь
к ней приведет.
И вот он – мертв.
До правды не дошел он,
А ложь кругом трясиной нас сосет.
Его хоронят громко и поспешно
Соратники,
на гроб кося глаза,
Как будто может он
из тьмы кромешной
Вернуться,
все забрать
и наказать.
Холодный траур,
стиль речей —
высокий.
Он всех давил
и не имел друзей…
Я сам не знаю,
злым иль добрым роком
Так много лет
он был для наших дней.
И лишь народ
к нему не посторонний,
Что вместе с ним
все время трудно жил,
Народ
в нем революцию
хоронит,
Хоть, может, он того не заслужил.
В его поступках
лжи так много было,
А свет знамен
их так скрывал в дыму,
Что сопоставить это все
не в силах —
Мы просто
слепо верили ему.
Моя страна!
Неужто бестолково
Ушла, пропала вся твоя борьба?
В тяжелом, мутном взгляде Маленкова
Неужто нынче
вся твоя судьба?
А может, ты поймешь
сквозь муки ада,
Сквозь все свои кровавые пути,
Что слепо верить
никому не надо.
И к правде ложь
не может привести.
9 марта. Похороны И. В. Сталина.
На траурном митинге председательствует Н. С. Хрущев. С речами выступают Г. М. Маленков, Л. П. Берия, В. М. Молотов.
Как замечает Любовь Шапорина,
все они гораздо больше говорят о партии, монолитности партии, необходимости сплотиться вокруг партии и т. д., чем о Сталине (Л. Шапорина. С. 228).
Гудят все заводы, пушечный салют, всегда напоминающий обстрел (Там же).
10 марта. На траурном митинге советских писателей в Театре киноактера выступают А. Сурков, М. Прилежаева, П. Воронько, А. Кулешов, К. Симонов[7 - «И я помню, – говорит Владимир Огнев, – как плакали сотрудники „Литературной газеты“ в зябкий день траурного митинга, когда Симонов читал стихотворение на смерть вождя <…>» (В. Огнев. Амнистия таланту. С. 119).], Г. Леонидзе, С. Вургун, Н. Грибачев, А. Чаковский, С. Капутикян, М. Смирнова, И. Эренбург. Свои стихи, посвященные памяти Сталина, читают О. Берггольц, А. Софронов, В. Инбер, М. Луконин, А. Лахути.
Я помню ужасный траурный митинг (вернее, собрание) в Союзе писателей после смерти Сталина, – вспоминает Валерия Герасимова. – Что-то завывал Сурков. Симонов рыдал – сначала я глазам не поверила, – его спина была передо мной, и она довольно ритмично тряслась… Затем, выступив, он сказал, что отныне самой главной великой задачей советской литературы будет воссоздание образа величайшего человека («всех времен и народов» – была утвержденная формулировка тех лет). Н. Грибачев выступил в своем образе: предостерегающе посверкивая холодными белыми глазами, он сказал (примерно), что после исчезновения великого вождя бдительность не только не должна быть ослаблена, а, напротив, должна возрасти. Если кое-кто из вражеских элементов, возможно, попытается использовать сложившиеся обстоятельства для своей подрывной работы, пусть не надеется на то, что стальная рука правосудия хоть сколько-нибудь ослабла. <…>
Ужасное собрание[8 - «Все были подавлены, растеряны, говорили сбивчиво, как будто это не опытные литераторы, а математики или землекопы, впервые выступающие на собрании, – вспоминает Илья Эренбург. – Ораторов было много. Я тоже говорил, не помню что, наверное, то, что и другие: «выиграл войну… отстаивал мир… ушел… скорбим… клянемся…» (И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Т. 3. С. 313).]. Великого «гуманиста» уже не было. Но страх, казалось, достиг своего апогея. Я помню зеленые, точно больные, у всех лица, искаженные, с какими-то невидящими глазами; приглушенный шелест, а не человеческую речь в кулуарах; порой, правда, демонстрируемые (а у кое-кого и истинные!) всхлипы и так называемые «заглушенные рыдания»[9 - «– Разве тогда о нем плакали? – сказал Л. – О себе плакали. Одни плакали от страха; другие – думая о прошлом или, о будущем. Все – иногда сами того не зная – о том плакали, что прошлого не исправить» (Л. Гинзбург. С. 209).]. Вселюдный пароксизм страха (В. Герасимова // Вопросы литературы. 1989. № 6. С. 141–142).