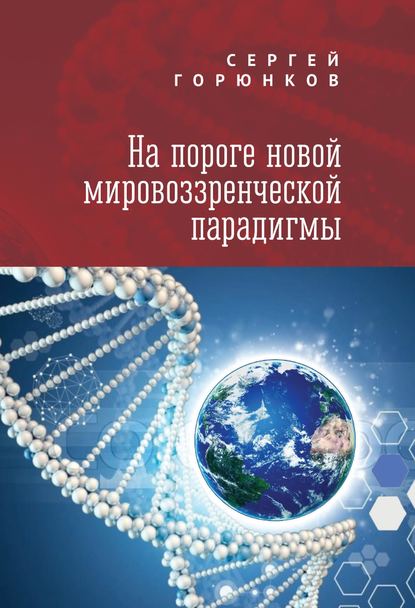По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На пороге новой мировоззренческой парадигмы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ярмо с гремушками да бич.
При этом они умалчивают, что спустя всего два года после создания «Сеятеля» Пушкин пишет стихотворение «Андрей Шенье», в котором выражает своё новое, более близкое к шекспировскому, понимание свободы:
Народ, вкусивший раз
Твой нектар освященный,
Всё ищет вновь упиться им;
Как будто Вакхом разъяренный,
Он бредит, жаждою томим.
А ещё через три года Пушкин прямо говорит о «безумствах гибельной свободы» (ср. с есенинским «Хлестнула дерзко за предел Нас отравившая свобода»).
Означает ли всё это, что юный Пушкин был «за свободу», а зрелый – «за рабство»? Нет, конечно; это означает лишь, что он очень рано поумнел, т. е. избавился от веры в соответствие буквы отвлечённых понятий конкретным реальностям жизни. «Я понял, что абсолютная свобода, не ограниченная никаким божеским законом, никакими общественными устоями, та свобода, о которой мечтают и краснобайствуют молокососы или сумасшедшие, невозможна, а если бы была возможна, то была бы гибельна как для личности, так и для общества» (из воспоминаний графа Струтынского о своих беседах с поэтом) [33].
Похоже, что нам до Пушкина ещё расти и расти, – судя по инфантилизму, с которым мы распустили слюни на бирку «свободы личности», начинающейся там, где кончается то, что Пушкин называл «игом человечности» («Все мы несём бремя жизни, иго нашей человечности, столь слабой, столь подверженной заблуждению» [34]). Или судя по той доверчивости, с которой мы заглотили бирочную наживку Декларации прав человека: «Все люди рождаются свободными» – этого безотказного инструмента влияния на международную политику и вмешательства в чужие дела. Или судя по той наивности, с которой мы окунулись в «свободу рыночных отношений», не воспринимаемую всерьёз ни одним западным руководителем (см. тулонскую речь Н. Саркози: «Всемогущий рынок, не требующий вмешательства – с этой идеей покончено. Это безумная идея, она ведёт к катастрофам»). Или судя по тому простодушию, с которым мы купились на подначивающий выбор между «русским рабством» и «европейской свободой», круша в ослеплении собственное жизнеустройство, сначала – «проклятое самодержавие», а затем – «проклятый советский строй». (О бирочном характере понятий «русское рабство» и «европейская свобода» см. в другой работе [35]).
А ведь есть ещё – назовём вещи своими именами – и та откровенная глупость, с которой мы подключились к борьбе за «свободу слова». С высоты сегодняшних знаний о СМИ-технологиях абсолютно невозможно понять раздуваемый вокруг этой бирки ажиотаж иначе как шизофренический. Можно было бы ещё понять очарованность «свободой смысла слова»; но муссируется ведь просто «свобода слова», а, значит, и свобода неумного, лживого и подлого слова. Не удивительно, что сторонникам такой «свободы» приходится за неё самоотверженно бороться, – ведь любому вменяемому управленцу ясно, что десяток-другой безответственных болтунов, если дать им волю, способен разрушить государственное устройство и общественный порядок скорее и основательнее, чем самое высокоточное оружие. И даже «свобода оппонирующего слова» не способна ничего здесь исправить, потому что широко распространённое мнение, будто «в споре рождается истина», на практике никогда и ничем не подтверждалось. Спор в условиях «массового бирочного сознания» – это или склочное препирательство о словах, или «глухариное токование» каждого о своём, или устроенное с коммерческой целью шоу, или инструмент забалтывания неудобных тем. Или же это технология продавливания мнения, заранее назначенного на роль «истины» (как выразился однажды Макс Планк, «истина не побеждает – просто вымирают её противники»).
Показателен в этом смысле недавний телевизионный проект «Суд времени», где сам принцип оценивания сложных и неоднозначных явлений по шкале «хорошо» – «плохо» имеет явно манипулятивную природу. Несомненное достижение проекта – фиксация факта неприятия большей частью общественности так наз. «демократических крайностей». Но что дальше: снова из одной бирочной крайности в другую?
Секреты управления
Анализ рассмотренных выше примеров заставляет думать, что бирочная технология – это не только «игра в слова» или «манипуляция сознанием». В ничуть не меньшей степени это и естественная реализация смысловых потенций, заложенных в языковой сфере и охватывающих её всю, от мировоззренческих аспектов до узко-научных и правовых. Так, очень многие философские проблемы, связанные с ситуацией выбора предпосылочных оснований, целиком укладываются в режим «или– или» (или «материализм», или «идеализм»). То же самое – в конкретных специализированных науках, бессознательно для самих себя завязанных на идеологизированные предпосылки и тоже строящихся поэтому на «сокрытии части исходных постулатов и моделей» [36] (а, значит, на ситуации выбора). Про юридическую же практику, с её возможностями подведения чего угодно под какую угодно статью, и говорить нечего – в условиях узаконенного дистанцирования от вне-юридических понятий совести и справедливости [37] она целиком оказывается подчинена режиму «ложных имён».
В этом смысле осознанность владения бирочной технологией ограничена присущей как «операторам», так и «собакам Павлова» верой в жёсткое соответствие отвлечённых понятий конкретным реалиям жизни. Т. е. сознательно применяемую бирочную технологию можно рассматривать как тонкую «надстройку» на бессознательных ментально-языковых структурах – как лишённую настоящей теоретической базы попытку управления коллективным сознанием. «Это нормальная работа сереньких, усталых, не обладающих никакой тайной силой людей. Они просто включены в организацию и владеют технологией» [38].
Владение тем проще, что и само «внутреннее устройство» технологии не отличается сложностью. Её главное входное условие – сведение сложного неоднозначного явления к бирочному обозначению того его частного аспекта, положительного или отрицательного, который в данный момент представляет управленческий интерес. А главный выходной результат – вытеснение реалистического восприятия сложного явления эмоциональным рефлексом на его бирочное обозначение.
Но вытеснение потому только и оказывается возможным, что неустойчивы этические ориентиры – понятия «добра» и «зла» («хорошего» и «плохого», «положительного» и «отрицательного», «позитивного» и «негативного»). Почему, спрашивается, они неустойчивы? Почему ими так легко манипулировать? Не потому ли, что они тоже воспринимаются не как обозначения сложных неоднозначных явлений, а именно как «бирки» («добро» и «зло» – это то, что нам хочется принимать за добро и зло)?
Мы убедимся в справедливости нашей догадки, если сформулируем вопрос иначе: какая конкретная реальность скрывается за модным сегодня «бирочным эквивалентом» этических ориентиров – за «общечеловеческими ценностями»? Ведь не случайно этот эквивалент появился на нашем идеологическом горизонте почти одновременно с биркой «толерантность», означающей добровольный отказ управляемых от права на собственный этический выбор. А в современной общественной жизни обе бирки играют слишком заметную роль, чтобы можно было позволить себе оставаться в плену условного рефлекса на них.
Под понятием «общечеловеческие ценности» подразумеваются некие универсальные этические правила, предписывающие, как следует вести себя независимо от специфики тех или иных культурно-исторических традиций и норм поведения. Но этические предписания не высасываются из пальца, – они производны от мировоззрения, диктующего соответствующий образ поведения [39]. А такого мировоззрения, которое санкционировало бы коллективное поведение в духе «общечеловеческих ценностей», в истории никогда не наблюдалось (см., например, данные по дуальной организации и дуалистической мифологии первобытных обществ [40]). Даже в книгах Священного писания, моральные императивы которой выдаются за прообразы общечеловеческих ценностей, речь идёт не об универсальной морали, а о такой, которая различает своих и чужих. Например, в Ветхом завете заповеди моисеева законодательства («не убий», «не укради» и др.) имеют, судя по контексту, отношение исключительно к своим (Исх 34:11-13). То же самое – в Новом завете: заповедь «возлюби ближнего своего как самого себя» тут же оговорена разъяснением того, кого именно следует считать ближним, т. е. своим (притча о добром самаритянине – Лк 10:29-37). И даже золотое правило нравственности: «не делай другим того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе» – неявно отсылает к своим, т. е. к тем, для кого это правило свято (а свято оно, как известно, далеко не для всех).
Различение своих и чужих – это универсальная основа всякой нравственности, это единственная реальная почва для формирования в истории культуры двух диаметрально противоположных ценностных установок, воплощаемых в понятиях «добра» и «зла». Можно даже сказать, что вся история существования понятий «добра» и «зла» – это не что иное как последовательность перебора критериев различения своих и чужих: от внутрисемейных, родоплеменных и этнических до корпоративных, классовых и духовных.
Именно потому, что понятия «добра» и «зла» неотделимы от представления о «своих» и о «чужих», так трудно и даже невозможно убедить людей, что противостояния «добра» и «зла» – не существует. Наоборот, это противостояние постоянно напоминает о себе тем, что протекает в режиме острых внутриобщественных напряжений. А в роли инструментов регулирования напряжений как раз и выступают разного рода идеологии, сводимые опять-таки к двум основным их разновидностям: к тем, которые строятся на различении своих и чужих, и к тем, которые предназначены для смазывания, затушёвывания такого различения (по принципу: нет своих и чужих, а есть одни лишь свои). Высшим достижением первого типа идеологий можно считать различение духовно своих и духовно чужих (см.: Лк 10:29-37, притча «Кого считать ближним»). А высшим достижением второго типа идеологий является утопия «общечеловеческих ценностей».
Фактом общественного сознания эта вторая идеология становится в эпоху Просвещения XVIII века, на волне торжества концепции «социального прогресса» (согласно которой «сегодня стало лучше, чем было вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня»). С тех пор она постоянно, хотя и не слишком успешно, конкурирует с другими идеологиями за право доминирования в массовом сознании. И очередной виток такой конкуренции, искусственно навязанной сверху, мы переживаем сегодня. Ориентация на «общечеловеческие ценности», провозглашённая М. С. Горбачёвым в противовес господствовавшей в СССР «классовой морали», была подтверждена В. В. Путиным на заседании Государственного совета 26 декабря 2006 г.
Интересно, что прагматическое чутьё В. В. Путина вынудило его в дальнейшем скорректировать свою идеологическую позицию в сторону различения своих и чужих политических интересов (имеется в виду его мюнхенская речь от 10 февраля 2007 г., выдержанная в духе такого различения). Тем не менее в целом современная идеологическая ситуация в стране такова, что прежнее, реалистичное восприятие жизни как противоречивого единства двух ценностных установок постепенно вытесняется пропагандой «относительности» этих установок, пропагандой невозможности и ненужности их различения, т. е. – пропагандой аморфной, расплывчатой, беспредметной утопии «общечеловеческих ценностей».
Стараниями СМИ утопия назойливо внедряется в сферу «коллективного бессознательного». Отсюда, из этой сферы, неподконтрольная критической рефлексии, она незримо воздействует на общественный менталитет, камуфлируя реально присутствующую в нашей жизни напряжённость отношений между носителями двух диаметрально противоположных ценностных установок: между духовно своими – дорожащими всей историей, культурой и целостностью своей страны, и духовно чужими – рассматривающими страну проживания как лишь «охапку хвороста» для разного рода «костров», будь-то «мировая революция» или «мировая демократия». «Операторам» такой камуфляж крайне необходим: это их главный и единственный инструмент борьбы с «экстремизмом» и «ксенофобией» (бирки, предназначенные для дискредитации любых реалистических альтернатив «общечеловеческим ценностям»). Именно поэтому камуфляж и навязывается обществу в качестве негласной монопольной идеологии, обманным путём выдающей себя за «деидеологизацию» (с целью формального соблюдения Конституции РФ: разд. I, ст. 13, п. 1, 2).
Но тем острее встаёт задача нейтрализации этой идеологической маниловщины, этой фальшивой подделки под «универсальную мораль». Избавиться от неё – означает обрести иммунитет к одному из самых изощрённых и эффективных инструментов размывания реальных ценностных ориентиров.
«Азы» культуры мышления
Примем за исходное, что любые вариации бирочной технологии строятся на игре с неосознаваемой природой понятий. Тогда и задачу их нейтрализации можно будет рассматривать как составную часть некой потенциальной программы повышения культуры массового сознания. Разумеется, при нынешнем уровне знаний о структуре ментально-языковых процессов говорить о такой программе как о прикладной задаче – преждевременно. Но определиться с её предпосылочными основаниями нелишне уже теперь:
• господствующий в современном научном сознании противоречивый и непоследовательный взгляд на сущность понятий обусловлен стилем мышления, сложившимся на основе субъект-объектного видения реальности;
• субъект-объектное видение реальности вовсе не является «единственно научным». Возможна и принципиально иная, вызревающая постепенно в рамках герменевтической познавательной парадигмы, точка зрения на проблему.
Суть иной точки зрения – в следующем. Со времён кантовской «критики разума» идея относительности содержания любых понятий прочно вошла в обиход мыслящего человечества. По логике этой идеи, язык представляет собой смысловую взаимосвязь понятий, содержание каждого из которых раскрывается посредством привлечения других понятий, а содержание этих других понятий – посредством привлечения новых понятий и так далее – вплоть до исчерпания всего языкового универсума. Т. е. языковые понятия, действительно, обнаруживают свойство замкнутых друг на друга условностей («вещей в себе»), – чем и создаётся возможность их использования в качестве манипулятивных «бирок».
В герменевтике, да и не только в ней, ситуация замкнутости понятий друг на друга известна под названием тавтологического «круга в понимании». Причём субъект-объектный стиль мышления пытается обычно преодолеть тавтологию путём попыток, как правило безуспешных, выхода из «круга» (о неудачности такой попытки в рамках теории самоорганизации см. в специальной работе [41]). В свете же герменевтической онтологии формулируется задача правильного вхождения в «круг» [42]. А это значит, по меньшей мере, что проблема соотношения языковых понятий с внеязыковой реальностью методами «наивной теории отражения» [43] принципиально не решаема.
Очевидно, что здесь нужны какие-то альтернативные методы, адекватные нуждам новой познавательной ситуации. Но задача их формулирования подразумевает необходимость возвращения науки на те её «стартовые» позиции, где она впервые осознала себя инструментом объективного постижения реальности.
Тестирование
Проблема соотношения языковых понятий с внеязыковой реальностью – это известная со времён средневековья проблема выбора одной из двух форм восприятия познаваемого мира (проблема выбора между «номинализмом» и «реализмом»), где сами формы отличаются друг от друга разным пониманием роли языка. В одном варианте роль языка считается нейтрально-отражательной, а познаваемая реальность рассматривается как данная наблюдателю «объективно». В другом варианте познаваемая реальность рассматривается как опосредованная языком: «Хотим мы того или нет, мир мы видим через “очки” языка» [44].
Оба варианта в равной степени задействованы как религией, так и в наукой. Например, есть огромная дистанция между тем религиозным сознанием, которое различает убивающую букву и животворящий дух Писаний (2 Кор 3:6), и тем, которое просто верит в букву тех же Писаний. («Григорий Богослов пишет: не возносись на богопознание, осуждая толкование, ибо внимать не силе разума, но чернилу письмён – это по скотски и неправильно» [45]; см. также: «Если не рассуждать, но понимать буквально, то буква убивает и люди впадают в различные ереси» [46]). И точно так же есть огромная дистанция между тем научным сознанием, которое интуитивно ощущает метаязыковую суть формулы «мысль изреченная есть ложь», и тем, для которого тютчевская формула – не более чем красивая фраза.
Но если «дистанция» между двумя взглядами на роль языка – фундаментальна и принципиально неустранима, то в чём её суть?
Мы поймём это, если протестируем язык в двух различных режимах: в обычном и в экстремальном. А чтобы стало понятней, о каком именно «тестировании» идёт речь, сравним язык с воздухом. Обычный режим пользования воздухом – это ситуация, когда просто дышится и никаких вопросов по данному поводу не возникает. А экстремальный режим – это ситуация удушья, вынуждающая бить тревогу: почему трудно дышать?
С речевой деятельностью – то же самое. В обычных, повседневно-бытовых разговорных ситуациях кажется, что слова, в которые мы облекаем своё восприятие обсуждаемого предмета, отражают этот предмет более или менее адекватно, почему и считаются просто словами. И лишь в экстремальной ситуации напряжённой мыслительной работы и поиска подходящих средств смысловыражения выясняется, что простота языка – кажущаяся. Т. е. мы обнаруживаем, что разговор на уровне обсуждения конкретной предметики (где слова сведены к отдельным самостоятельным биркам) и разговор на уровне обсуждения «понятий» (где слова представлены как их смысловая взаимосвязь) – совершенно разные вещи [47]. Если в первом случае мы совершенно оправданно считаем себя «хозяевами своих слов», то во втором случае мы начинаем догадываться, что наша власть над собственным «говорением» – иллюзорная. («Бывает так, когда понимаешь, а передать, сказать, сообщить другим не можешь…» [48]). Мы начинаем отдавать себе отчёт в том, что наше сознание находится под «колпаком» языкового тезауруса – под контролем взаимосвязанной системы смысловых структур ориентирующего характера [49]. Мы начинаем ассоциировать язык с ограничительной «сеткой знаков, как бы наброшенной на наше поле восприятия, деятельности, жизни» [50]. Мы начинаем осознавать, что «язык есть способ мироистолкования, предпосланный любому акту рефлексии», что «мышление всегда движется в колее, пролагаемой языком» и что «языком заданы как возможности мышления, так и его границы» [51].
В конечном счёте мы начинаем постигать ту, непривычную для субъект-объектного стиля мышления, истину, что на уровне использования понятий мир воспринимается сознанием не «объективно», а через смысловые структуры «очков языкового тезауруса».
Два языка в одном
Сказанное станет понятнее, если суть отличия первого уровня от второго разъяснить на ещё одном конкретном примере.
Во второй половине двадцатого столетия неоднократно ставился интересный эксперимент: молодых обезьян из породы шимпанзе обучали разговору на человеческом языке. У обезьян, как известно, гортань устроена таким образом, что они не могут издавать звуков, аналогичных звукам человеческого языка. Но их, как оказалось, можно научить языку, построенному на обмене элементарными знаками (предметными или жестовыми, подобными языку глухонемых). За годы обучения такие обезьяны осваивали до нескольких сотен слов, которые умели использовать в различных разговорных ситуациях и по отдельности, и в сочетании друг с другом.
«Всё это подрывало основы не только науки о поведении животных, но и наших обыденных представлений о мире» [52]. Естественно, результаты экспериментов были восприняты как научная сенсация: ведь казалось, что стёрта грань, отделяющая животное от человека. Писалось даже, что обнаруженный феномен «знаменует собой проникновение дарвиновских воззрений на территорию наук о поведении, всегда бывших владениями Платона» [53] (т. е. на территорию наук о человеческом духе).
Со временем, однако, шок прошёл, и стало ясно, что феномен «говорящей обезьяны» можно интерпретировать вовсе не только как доказательство отсутствия грани между животным и человеком. А именно: его оказалось возможным интерпретировать как доказательство того, что в том языке, который мы привыкли считать «чисто человеческим», на самом деле скрыто присутствуют два языка: язык, роднящий нас с животными, и язык, делающий нас собственно людьми [54].
В самом деле: посмотрим, на какие темы разговаривает обезьяна. Она, оказывается, может сказать «дай мне попить», «почеши мне спину» и даже обозвать человека, который ей не нравится, «грязным». Но ни одна обезьяна в процессе обучения так и не смогла достичь уровня, начиная с которого с ней можно было бы поговорить, например, о философии, о политике, об искусстве. И дело тут вовсе не в том, что существует «потолок» в количестве запоминаемых обезьяной слов; существование такого «потолка» никто ещё не доказал. Дело в качестве слов, а точнее – в различении слов, обозначающих конкретные предметы, и слов, обозначающих отвлечённые понятия.
Поясню. Если я попрошу собеседника: Дай мне эту книгу, – он её даст, если захочет. Но если я его попрошу: Дай мне добро (зло), или: дай мне истину (ложь), или: дай мне социализм (капитализм, фашизм, демократию и пр.) – что он мне даст, если даже и захочет? Ничего, потому что за всеми этими словами стоят не конкретные предметы, а неоднозначные понятия, интерпретируемые посредством других неоднозначных понятий.
Пример свидетельствует, что если язык, роднящий нас с нашими «меньшими братьями», состоит из слов, обозначающих конкретные предметы, то язык, делающий нас собственно людьми, состоит из слов, обозначающих отвлечённые неоднозначные понятия. А поскольку понятие – это слово, замкнутое смысловыми связями на другие слова-понятия, то разница между языком животных и языком людей – это разница между условными «первичными» и «вторичными» знаковыми системами: между механической суммой «означающих» (отдельных, не связанных друг с другом словесных бирок) и их взаимосвязанной смысловой структурой (языковым тезаурусом).
«Троянский конь»
Неразрывное сосуществование в человеческом языке двух типов знаковых систем делает этот язык очень похожим на «троянского коня»: снаружи всё выглядит как «вторичная знаковая система», а внутри скрыто присутствует «первичная». И сходство здесь далеко не формальное, – оно потенциально содержит в себе тот же самый подвох, которым обернулся для древних троянцев пресловутый конь. Дело в том, что различение в человеческом языке двух одновременно действующих знаковых систем позволяет совершенно по-новому взглянуть на последствия применения в управленческой практике бирочной технологии. Ведь если с её помощью отвлечённое неоднозначное понятие обретает в сознании воспринимающих видимость чего-то конкретного, предметно-объективного, то отсюда следует, что бирочная технология – это идеальный инструмент превращения собственно человеческого мышления в мышление «говорящих обезьян» (=«собак Павлова»). Что и подтверждается фактом нынешних, весьма удручающих, тенденций в развитии современной массовой культуры.
С другой стороны: «сюрприз» ожидает нас и со стороны внешней оболочки «коня». Ведь если специфика вторичных знаковых систем сводится к замкнутому в тавтологическом «круге» тезаурусу, а мир воспринимается сознанием через «очки» этого тезауруса, то, следовательно, языковой тезаурус является одновременно и объектом изучения своей «вторичной» специфики, и само?й информационной субстанцией познающего субъекта, его «Я». Или, ещё проще: тезаурус – одновременное вместилище и субъектной, и объектной функций познания.
Но если человеческий язык одновременно – и объект познания, и его субъект, то, значит, прав был В. Гумбольдт, полагавший, что язык имеет самостоятельную жизнь, как бы вне человека, и господствует над ним своею силою [55]. Значит, правы и те современные исследователи, которые считают, что «язык, являясь системой, развивается помимо наших желаний, амбиций и вкусов» [56]. Их правота – это правота точки зрения (до сих пор не получившей беспристрастной научной оценки), согласно которой на уровне использования «вторичных» знаковых систем не мы говорим языком, а он говорит нами.
«Наивный объективизм»
При этом они умалчивают, что спустя всего два года после создания «Сеятеля» Пушкин пишет стихотворение «Андрей Шенье», в котором выражает своё новое, более близкое к шекспировскому, понимание свободы:
Народ, вкусивший раз
Твой нектар освященный,
Всё ищет вновь упиться им;
Как будто Вакхом разъяренный,
Он бредит, жаждою томим.
А ещё через три года Пушкин прямо говорит о «безумствах гибельной свободы» (ср. с есенинским «Хлестнула дерзко за предел Нас отравившая свобода»).
Означает ли всё это, что юный Пушкин был «за свободу», а зрелый – «за рабство»? Нет, конечно; это означает лишь, что он очень рано поумнел, т. е. избавился от веры в соответствие буквы отвлечённых понятий конкретным реальностям жизни. «Я понял, что абсолютная свобода, не ограниченная никаким божеским законом, никакими общественными устоями, та свобода, о которой мечтают и краснобайствуют молокососы или сумасшедшие, невозможна, а если бы была возможна, то была бы гибельна как для личности, так и для общества» (из воспоминаний графа Струтынского о своих беседах с поэтом) [33].
Похоже, что нам до Пушкина ещё расти и расти, – судя по инфантилизму, с которым мы распустили слюни на бирку «свободы личности», начинающейся там, где кончается то, что Пушкин называл «игом человечности» («Все мы несём бремя жизни, иго нашей человечности, столь слабой, столь подверженной заблуждению» [34]). Или судя по той доверчивости, с которой мы заглотили бирочную наживку Декларации прав человека: «Все люди рождаются свободными» – этого безотказного инструмента влияния на международную политику и вмешательства в чужие дела. Или судя по той наивности, с которой мы окунулись в «свободу рыночных отношений», не воспринимаемую всерьёз ни одним западным руководителем (см. тулонскую речь Н. Саркози: «Всемогущий рынок, не требующий вмешательства – с этой идеей покончено. Это безумная идея, она ведёт к катастрофам»). Или судя по тому простодушию, с которым мы купились на подначивающий выбор между «русским рабством» и «европейской свободой», круша в ослеплении собственное жизнеустройство, сначала – «проклятое самодержавие», а затем – «проклятый советский строй». (О бирочном характере понятий «русское рабство» и «европейская свобода» см. в другой работе [35]).
А ведь есть ещё – назовём вещи своими именами – и та откровенная глупость, с которой мы подключились к борьбе за «свободу слова». С высоты сегодняшних знаний о СМИ-технологиях абсолютно невозможно понять раздуваемый вокруг этой бирки ажиотаж иначе как шизофренический. Можно было бы ещё понять очарованность «свободой смысла слова»; но муссируется ведь просто «свобода слова», а, значит, и свобода неумного, лживого и подлого слова. Не удивительно, что сторонникам такой «свободы» приходится за неё самоотверженно бороться, – ведь любому вменяемому управленцу ясно, что десяток-другой безответственных болтунов, если дать им волю, способен разрушить государственное устройство и общественный порядок скорее и основательнее, чем самое высокоточное оружие. И даже «свобода оппонирующего слова» не способна ничего здесь исправить, потому что широко распространённое мнение, будто «в споре рождается истина», на практике никогда и ничем не подтверждалось. Спор в условиях «массового бирочного сознания» – это или склочное препирательство о словах, или «глухариное токование» каждого о своём, или устроенное с коммерческой целью шоу, или инструмент забалтывания неудобных тем. Или же это технология продавливания мнения, заранее назначенного на роль «истины» (как выразился однажды Макс Планк, «истина не побеждает – просто вымирают её противники»).
Показателен в этом смысле недавний телевизионный проект «Суд времени», где сам принцип оценивания сложных и неоднозначных явлений по шкале «хорошо» – «плохо» имеет явно манипулятивную природу. Несомненное достижение проекта – фиксация факта неприятия большей частью общественности так наз. «демократических крайностей». Но что дальше: снова из одной бирочной крайности в другую?
Секреты управления
Анализ рассмотренных выше примеров заставляет думать, что бирочная технология – это не только «игра в слова» или «манипуляция сознанием». В ничуть не меньшей степени это и естественная реализация смысловых потенций, заложенных в языковой сфере и охватывающих её всю, от мировоззренческих аспектов до узко-научных и правовых. Так, очень многие философские проблемы, связанные с ситуацией выбора предпосылочных оснований, целиком укладываются в режим «или– или» (или «материализм», или «идеализм»). То же самое – в конкретных специализированных науках, бессознательно для самих себя завязанных на идеологизированные предпосылки и тоже строящихся поэтому на «сокрытии части исходных постулатов и моделей» [36] (а, значит, на ситуации выбора). Про юридическую же практику, с её возможностями подведения чего угодно под какую угодно статью, и говорить нечего – в условиях узаконенного дистанцирования от вне-юридических понятий совести и справедливости [37] она целиком оказывается подчинена режиму «ложных имён».
В этом смысле осознанность владения бирочной технологией ограничена присущей как «операторам», так и «собакам Павлова» верой в жёсткое соответствие отвлечённых понятий конкретным реалиям жизни. Т. е. сознательно применяемую бирочную технологию можно рассматривать как тонкую «надстройку» на бессознательных ментально-языковых структурах – как лишённую настоящей теоретической базы попытку управления коллективным сознанием. «Это нормальная работа сереньких, усталых, не обладающих никакой тайной силой людей. Они просто включены в организацию и владеют технологией» [38].
Владение тем проще, что и само «внутреннее устройство» технологии не отличается сложностью. Её главное входное условие – сведение сложного неоднозначного явления к бирочному обозначению того его частного аспекта, положительного или отрицательного, который в данный момент представляет управленческий интерес. А главный выходной результат – вытеснение реалистического восприятия сложного явления эмоциональным рефлексом на его бирочное обозначение.
Но вытеснение потому только и оказывается возможным, что неустойчивы этические ориентиры – понятия «добра» и «зла» («хорошего» и «плохого», «положительного» и «отрицательного», «позитивного» и «негативного»). Почему, спрашивается, они неустойчивы? Почему ими так легко манипулировать? Не потому ли, что они тоже воспринимаются не как обозначения сложных неоднозначных явлений, а именно как «бирки» («добро» и «зло» – это то, что нам хочется принимать за добро и зло)?
Мы убедимся в справедливости нашей догадки, если сформулируем вопрос иначе: какая конкретная реальность скрывается за модным сегодня «бирочным эквивалентом» этических ориентиров – за «общечеловеческими ценностями»? Ведь не случайно этот эквивалент появился на нашем идеологическом горизонте почти одновременно с биркой «толерантность», означающей добровольный отказ управляемых от права на собственный этический выбор. А в современной общественной жизни обе бирки играют слишком заметную роль, чтобы можно было позволить себе оставаться в плену условного рефлекса на них.
Под понятием «общечеловеческие ценности» подразумеваются некие универсальные этические правила, предписывающие, как следует вести себя независимо от специфики тех или иных культурно-исторических традиций и норм поведения. Но этические предписания не высасываются из пальца, – они производны от мировоззрения, диктующего соответствующий образ поведения [39]. А такого мировоззрения, которое санкционировало бы коллективное поведение в духе «общечеловеческих ценностей», в истории никогда не наблюдалось (см., например, данные по дуальной организации и дуалистической мифологии первобытных обществ [40]). Даже в книгах Священного писания, моральные императивы которой выдаются за прообразы общечеловеческих ценностей, речь идёт не об универсальной морали, а о такой, которая различает своих и чужих. Например, в Ветхом завете заповеди моисеева законодательства («не убий», «не укради» и др.) имеют, судя по контексту, отношение исключительно к своим (Исх 34:11-13). То же самое – в Новом завете: заповедь «возлюби ближнего своего как самого себя» тут же оговорена разъяснением того, кого именно следует считать ближним, т. е. своим (притча о добром самаритянине – Лк 10:29-37). И даже золотое правило нравственности: «не делай другим того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе» – неявно отсылает к своим, т. е. к тем, для кого это правило свято (а свято оно, как известно, далеко не для всех).
Различение своих и чужих – это универсальная основа всякой нравственности, это единственная реальная почва для формирования в истории культуры двух диаметрально противоположных ценностных установок, воплощаемых в понятиях «добра» и «зла». Можно даже сказать, что вся история существования понятий «добра» и «зла» – это не что иное как последовательность перебора критериев различения своих и чужих: от внутрисемейных, родоплеменных и этнических до корпоративных, классовых и духовных.
Именно потому, что понятия «добра» и «зла» неотделимы от представления о «своих» и о «чужих», так трудно и даже невозможно убедить людей, что противостояния «добра» и «зла» – не существует. Наоборот, это противостояние постоянно напоминает о себе тем, что протекает в режиме острых внутриобщественных напряжений. А в роли инструментов регулирования напряжений как раз и выступают разного рода идеологии, сводимые опять-таки к двум основным их разновидностям: к тем, которые строятся на различении своих и чужих, и к тем, которые предназначены для смазывания, затушёвывания такого различения (по принципу: нет своих и чужих, а есть одни лишь свои). Высшим достижением первого типа идеологий можно считать различение духовно своих и духовно чужих (см.: Лк 10:29-37, притча «Кого считать ближним»). А высшим достижением второго типа идеологий является утопия «общечеловеческих ценностей».
Фактом общественного сознания эта вторая идеология становится в эпоху Просвещения XVIII века, на волне торжества концепции «социального прогресса» (согласно которой «сегодня стало лучше, чем было вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня»). С тех пор она постоянно, хотя и не слишком успешно, конкурирует с другими идеологиями за право доминирования в массовом сознании. И очередной виток такой конкуренции, искусственно навязанной сверху, мы переживаем сегодня. Ориентация на «общечеловеческие ценности», провозглашённая М. С. Горбачёвым в противовес господствовавшей в СССР «классовой морали», была подтверждена В. В. Путиным на заседании Государственного совета 26 декабря 2006 г.
Интересно, что прагматическое чутьё В. В. Путина вынудило его в дальнейшем скорректировать свою идеологическую позицию в сторону различения своих и чужих политических интересов (имеется в виду его мюнхенская речь от 10 февраля 2007 г., выдержанная в духе такого различения). Тем не менее в целом современная идеологическая ситуация в стране такова, что прежнее, реалистичное восприятие жизни как противоречивого единства двух ценностных установок постепенно вытесняется пропагандой «относительности» этих установок, пропагандой невозможности и ненужности их различения, т. е. – пропагандой аморфной, расплывчатой, беспредметной утопии «общечеловеческих ценностей».
Стараниями СМИ утопия назойливо внедряется в сферу «коллективного бессознательного». Отсюда, из этой сферы, неподконтрольная критической рефлексии, она незримо воздействует на общественный менталитет, камуфлируя реально присутствующую в нашей жизни напряжённость отношений между носителями двух диаметрально противоположных ценностных установок: между духовно своими – дорожащими всей историей, культурой и целостностью своей страны, и духовно чужими – рассматривающими страну проживания как лишь «охапку хвороста» для разного рода «костров», будь-то «мировая революция» или «мировая демократия». «Операторам» такой камуфляж крайне необходим: это их главный и единственный инструмент борьбы с «экстремизмом» и «ксенофобией» (бирки, предназначенные для дискредитации любых реалистических альтернатив «общечеловеческим ценностям»). Именно поэтому камуфляж и навязывается обществу в качестве негласной монопольной идеологии, обманным путём выдающей себя за «деидеологизацию» (с целью формального соблюдения Конституции РФ: разд. I, ст. 13, п. 1, 2).
Но тем острее встаёт задача нейтрализации этой идеологической маниловщины, этой фальшивой подделки под «универсальную мораль». Избавиться от неё – означает обрести иммунитет к одному из самых изощрённых и эффективных инструментов размывания реальных ценностных ориентиров.
«Азы» культуры мышления
Примем за исходное, что любые вариации бирочной технологии строятся на игре с неосознаваемой природой понятий. Тогда и задачу их нейтрализации можно будет рассматривать как составную часть некой потенциальной программы повышения культуры массового сознания. Разумеется, при нынешнем уровне знаний о структуре ментально-языковых процессов говорить о такой программе как о прикладной задаче – преждевременно. Но определиться с её предпосылочными основаниями нелишне уже теперь:
• господствующий в современном научном сознании противоречивый и непоследовательный взгляд на сущность понятий обусловлен стилем мышления, сложившимся на основе субъект-объектного видения реальности;
• субъект-объектное видение реальности вовсе не является «единственно научным». Возможна и принципиально иная, вызревающая постепенно в рамках герменевтической познавательной парадигмы, точка зрения на проблему.
Суть иной точки зрения – в следующем. Со времён кантовской «критики разума» идея относительности содержания любых понятий прочно вошла в обиход мыслящего человечества. По логике этой идеи, язык представляет собой смысловую взаимосвязь понятий, содержание каждого из которых раскрывается посредством привлечения других понятий, а содержание этих других понятий – посредством привлечения новых понятий и так далее – вплоть до исчерпания всего языкового универсума. Т. е. языковые понятия, действительно, обнаруживают свойство замкнутых друг на друга условностей («вещей в себе»), – чем и создаётся возможность их использования в качестве манипулятивных «бирок».
В герменевтике, да и не только в ней, ситуация замкнутости понятий друг на друга известна под названием тавтологического «круга в понимании». Причём субъект-объектный стиль мышления пытается обычно преодолеть тавтологию путём попыток, как правило безуспешных, выхода из «круга» (о неудачности такой попытки в рамках теории самоорганизации см. в специальной работе [41]). В свете же герменевтической онтологии формулируется задача правильного вхождения в «круг» [42]. А это значит, по меньшей мере, что проблема соотношения языковых понятий с внеязыковой реальностью методами «наивной теории отражения» [43] принципиально не решаема.
Очевидно, что здесь нужны какие-то альтернативные методы, адекватные нуждам новой познавательной ситуации. Но задача их формулирования подразумевает необходимость возвращения науки на те её «стартовые» позиции, где она впервые осознала себя инструментом объективного постижения реальности.
Тестирование
Проблема соотношения языковых понятий с внеязыковой реальностью – это известная со времён средневековья проблема выбора одной из двух форм восприятия познаваемого мира (проблема выбора между «номинализмом» и «реализмом»), где сами формы отличаются друг от друга разным пониманием роли языка. В одном варианте роль языка считается нейтрально-отражательной, а познаваемая реальность рассматривается как данная наблюдателю «объективно». В другом варианте познаваемая реальность рассматривается как опосредованная языком: «Хотим мы того или нет, мир мы видим через “очки” языка» [44].
Оба варианта в равной степени задействованы как религией, так и в наукой. Например, есть огромная дистанция между тем религиозным сознанием, которое различает убивающую букву и животворящий дух Писаний (2 Кор 3:6), и тем, которое просто верит в букву тех же Писаний. («Григорий Богослов пишет: не возносись на богопознание, осуждая толкование, ибо внимать не силе разума, но чернилу письмён – это по скотски и неправильно» [45]; см. также: «Если не рассуждать, но понимать буквально, то буква убивает и люди впадают в различные ереси» [46]). И точно так же есть огромная дистанция между тем научным сознанием, которое интуитивно ощущает метаязыковую суть формулы «мысль изреченная есть ложь», и тем, для которого тютчевская формула – не более чем красивая фраза.
Но если «дистанция» между двумя взглядами на роль языка – фундаментальна и принципиально неустранима, то в чём её суть?
Мы поймём это, если протестируем язык в двух различных режимах: в обычном и в экстремальном. А чтобы стало понятней, о каком именно «тестировании» идёт речь, сравним язык с воздухом. Обычный режим пользования воздухом – это ситуация, когда просто дышится и никаких вопросов по данному поводу не возникает. А экстремальный режим – это ситуация удушья, вынуждающая бить тревогу: почему трудно дышать?
С речевой деятельностью – то же самое. В обычных, повседневно-бытовых разговорных ситуациях кажется, что слова, в которые мы облекаем своё восприятие обсуждаемого предмета, отражают этот предмет более или менее адекватно, почему и считаются просто словами. И лишь в экстремальной ситуации напряжённой мыслительной работы и поиска подходящих средств смысловыражения выясняется, что простота языка – кажущаяся. Т. е. мы обнаруживаем, что разговор на уровне обсуждения конкретной предметики (где слова сведены к отдельным самостоятельным биркам) и разговор на уровне обсуждения «понятий» (где слова представлены как их смысловая взаимосвязь) – совершенно разные вещи [47]. Если в первом случае мы совершенно оправданно считаем себя «хозяевами своих слов», то во втором случае мы начинаем догадываться, что наша власть над собственным «говорением» – иллюзорная. («Бывает так, когда понимаешь, а передать, сказать, сообщить другим не можешь…» [48]). Мы начинаем отдавать себе отчёт в том, что наше сознание находится под «колпаком» языкового тезауруса – под контролем взаимосвязанной системы смысловых структур ориентирующего характера [49]. Мы начинаем ассоциировать язык с ограничительной «сеткой знаков, как бы наброшенной на наше поле восприятия, деятельности, жизни» [50]. Мы начинаем осознавать, что «язык есть способ мироистолкования, предпосланный любому акту рефлексии», что «мышление всегда движется в колее, пролагаемой языком» и что «языком заданы как возможности мышления, так и его границы» [51].
В конечном счёте мы начинаем постигать ту, непривычную для субъект-объектного стиля мышления, истину, что на уровне использования понятий мир воспринимается сознанием не «объективно», а через смысловые структуры «очков языкового тезауруса».
Два языка в одном
Сказанное станет понятнее, если суть отличия первого уровня от второго разъяснить на ещё одном конкретном примере.
Во второй половине двадцатого столетия неоднократно ставился интересный эксперимент: молодых обезьян из породы шимпанзе обучали разговору на человеческом языке. У обезьян, как известно, гортань устроена таким образом, что они не могут издавать звуков, аналогичных звукам человеческого языка. Но их, как оказалось, можно научить языку, построенному на обмене элементарными знаками (предметными или жестовыми, подобными языку глухонемых). За годы обучения такие обезьяны осваивали до нескольких сотен слов, которые умели использовать в различных разговорных ситуациях и по отдельности, и в сочетании друг с другом.
«Всё это подрывало основы не только науки о поведении животных, но и наших обыденных представлений о мире» [52]. Естественно, результаты экспериментов были восприняты как научная сенсация: ведь казалось, что стёрта грань, отделяющая животное от человека. Писалось даже, что обнаруженный феномен «знаменует собой проникновение дарвиновских воззрений на территорию наук о поведении, всегда бывших владениями Платона» [53] (т. е. на территорию наук о человеческом духе).
Со временем, однако, шок прошёл, и стало ясно, что феномен «говорящей обезьяны» можно интерпретировать вовсе не только как доказательство отсутствия грани между животным и человеком. А именно: его оказалось возможным интерпретировать как доказательство того, что в том языке, который мы привыкли считать «чисто человеческим», на самом деле скрыто присутствуют два языка: язык, роднящий нас с животными, и язык, делающий нас собственно людьми [54].
В самом деле: посмотрим, на какие темы разговаривает обезьяна. Она, оказывается, может сказать «дай мне попить», «почеши мне спину» и даже обозвать человека, который ей не нравится, «грязным». Но ни одна обезьяна в процессе обучения так и не смогла достичь уровня, начиная с которого с ней можно было бы поговорить, например, о философии, о политике, об искусстве. И дело тут вовсе не в том, что существует «потолок» в количестве запоминаемых обезьяной слов; существование такого «потолка» никто ещё не доказал. Дело в качестве слов, а точнее – в различении слов, обозначающих конкретные предметы, и слов, обозначающих отвлечённые понятия.
Поясню. Если я попрошу собеседника: Дай мне эту книгу, – он её даст, если захочет. Но если я его попрошу: Дай мне добро (зло), или: дай мне истину (ложь), или: дай мне социализм (капитализм, фашизм, демократию и пр.) – что он мне даст, если даже и захочет? Ничего, потому что за всеми этими словами стоят не конкретные предметы, а неоднозначные понятия, интерпретируемые посредством других неоднозначных понятий.
Пример свидетельствует, что если язык, роднящий нас с нашими «меньшими братьями», состоит из слов, обозначающих конкретные предметы, то язык, делающий нас собственно людьми, состоит из слов, обозначающих отвлечённые неоднозначные понятия. А поскольку понятие – это слово, замкнутое смысловыми связями на другие слова-понятия, то разница между языком животных и языком людей – это разница между условными «первичными» и «вторичными» знаковыми системами: между механической суммой «означающих» (отдельных, не связанных друг с другом словесных бирок) и их взаимосвязанной смысловой структурой (языковым тезаурусом).
«Троянский конь»
Неразрывное сосуществование в человеческом языке двух типов знаковых систем делает этот язык очень похожим на «троянского коня»: снаружи всё выглядит как «вторичная знаковая система», а внутри скрыто присутствует «первичная». И сходство здесь далеко не формальное, – оно потенциально содержит в себе тот же самый подвох, которым обернулся для древних троянцев пресловутый конь. Дело в том, что различение в человеческом языке двух одновременно действующих знаковых систем позволяет совершенно по-новому взглянуть на последствия применения в управленческой практике бирочной технологии. Ведь если с её помощью отвлечённое неоднозначное понятие обретает в сознании воспринимающих видимость чего-то конкретного, предметно-объективного, то отсюда следует, что бирочная технология – это идеальный инструмент превращения собственно человеческого мышления в мышление «говорящих обезьян» (=«собак Павлова»). Что и подтверждается фактом нынешних, весьма удручающих, тенденций в развитии современной массовой культуры.
С другой стороны: «сюрприз» ожидает нас и со стороны внешней оболочки «коня». Ведь если специфика вторичных знаковых систем сводится к замкнутому в тавтологическом «круге» тезаурусу, а мир воспринимается сознанием через «очки» этого тезауруса, то, следовательно, языковой тезаурус является одновременно и объектом изучения своей «вторичной» специфики, и само?й информационной субстанцией познающего субъекта, его «Я». Или, ещё проще: тезаурус – одновременное вместилище и субъектной, и объектной функций познания.
Но если человеческий язык одновременно – и объект познания, и его субъект, то, значит, прав был В. Гумбольдт, полагавший, что язык имеет самостоятельную жизнь, как бы вне человека, и господствует над ним своею силою [55]. Значит, правы и те современные исследователи, которые считают, что «язык, являясь системой, развивается помимо наших желаний, амбиций и вкусов» [56]. Их правота – это правота точки зрения (до сих пор не получившей беспристрастной научной оценки), согласно которой на уровне использования «вторичных» знаковых систем не мы говорим языком, а он говорит нами.
«Наивный объективизм»