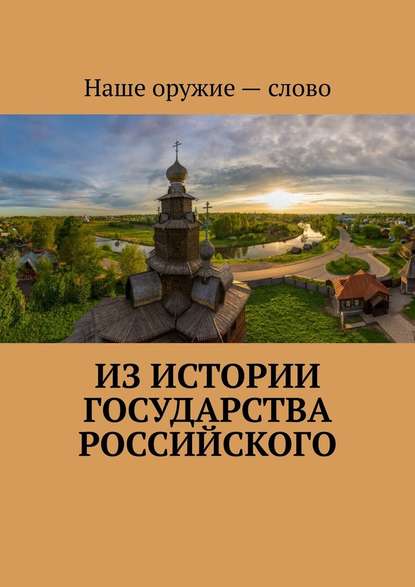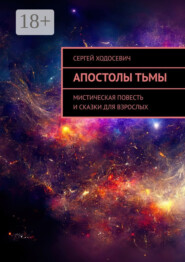По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Из истории государства Российского
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И вот накануне очередной, не то 25-й, не то-26-й годовщины Великого Октября, в октябре в Чиринду из Туры пришла радиограмма с распоряжением как можно лучше украсить «красный чум» всеми имеющимися средствами наглядной агитации, так как на празднование 7 ноября сюда первым же оленным обозом прибудут инструктор крайкома партии в сопровождении секретаря окружкома.
Парторг прочитал эту радиограмму «красночумовцу» Ёлдогиру, и с легким сердцем отправился объезжать близлежащие стойбища и зимовья с целью вытащить на торжественный митинг как можно больше промысловиков. Ёлдогир же с присущим ему рвением принялся украшать «красный чум» всеми имеющимися ресурсами. И когда 6 ноября в Чиринду втянулся, весь заснеженный, оленный обоз из Туры, Ёлдогир, приплясывая от нетерпения, потащил за рукав иззябшего и смертельно уставшего секретаря окружкома в «красный чум»: «Пойдем, бойе, там тепло и очень красиво! Все сделал, однако, как ты велел!»
– Хорошо, хорошо! – благосклонно кивал постепенно оттаивающий секретарь, осматривая разукрашенные стены. – Молодец, постарался.
Но, подойдя ближе к сцене, впился глазами в самый яркий и большой портрет в золоченой раме, по бокам которого пристроились красочные картины поменьше и вовсе невзрачные картонки с фотографиями партийных вождей Ленина, Сталина, Маркса и стал медленно наливаться краской.
– Ты где это взял, контра?! – наконец прохрипел секретарь, тыча пальцем в центр композиции.
– Которую? Вот эту? В чулане нашел, – весело сказал Ёлдогир. – Там еще много чего лежит. Только уже некуда вешать!
– Это тебя надо повесить! – заревел секретарь. – Ты хоть знаешь, кто это?
– Я думал, самый большой начальник, однако, – простодушно, и в то же время уже испуганно сказал Ёлдогир. – Вона какой красивый, медаля много. Тяжелый, еле-еле прибил к стене.
Секретарь и крайкомовский инструктор, похоже, окончательно лишились дара речи и молча пучили глаза на портрет «самого большого начальника» и его окружение. На них во всем своем великолепии отечески взирал император Всея Руси Николай II, рядом с которым пристроились еще какие-то царедворцы, золоченые церковные образа, непонятно как уцелевшие в этой глуши и теперь вот торжественно водруженные на стены «красного чума» в честь приближающейся годовщины Великого Октября…
Спрашивается, откуда все это здесь взялось? Когда на тунгусскую землю пришла советская власть, она устанавливалась здесь мягко, практически бесконфликтно. И вся присутствующая в Чиринде атрибутика царского времени (здесь нес свою службу волостной старшина из местных князьков) была просто собрана и спрятана в один из закутков церкви.
Десятилетия назад, когда портрет Николая II законно висел на своем месте, будущий «красночумовец» Ёлдогир был еще маленький и не видел его. А когда заканчивал «четырехлетку», там портретов царя «не проходили». Так что ничего удивительного в том, что простодушный культработник принял императора за большого начальника и повесил его на главное место в «красном чуме», не было.
Но это для нас с вами. А вот руководство Эвенкии того времени так не считало. И влепило Ёлдогиру строгий выговор с формулировкой «За политическую безграмотность и близорукость». Оказывается, он к тому же еще был и партийным! И это было еще одним чудом: в любом другом месте СССР любого другого партийного культработника за такое преступное простодушие просто бы сгноили в лагерях, а то и расстреляли. А Ёлдогир вот отделался выговором, что лишний раз свидетельствовало о бережном отношении советской власти к малочисленным коренным народам Севера…
Как Куприн хотел Балаклаву республикой сделать
В 2015-м году я – кстати, за всю свою уже немаленькую жизнь, – впервые побывал на вернувшемся в Россию Крыме (нынче же, даст Бог, поеду туда уже в пятый раз!) и влюбился в него, можно сказать, с первого взгляда, так был очарован его сказочными видами, красивыми приморскими городами, самим Черным морем, вовсе не черным.
В Балаклаве после морской прогулки у нас разыгрался аппетит, и как только нашу группу туристов высадили с прогулочной яхты, мы тут же поспешили в одно из портовых кафешек, где я и отведал впервые самую настоящую жареную акулу. Правда, небольшую, катран называется. После ужина, уже в ночь вышли на неярко освещенную набережную. И вот тут-то я и увидел памятник Александру Куприну.
Александр Иванович, задумавшийся и устремивший свой взор на бухту, стоял на брусчатке, коей были вымощены улицы Балаклавы еще тех лет. Куприн, тоже как будто только вышедший из кафе и остановившийся на минутку на набережной, был здесь такой свойский, не забронзовевший, несмотря на материал, из которого был отлит, что я не удержался и во время фотографирования с любимым писателем (в молодости читал его запоем) чуточку приобнял. И Александр Иванович простил мне такую вольность, поскольку и сам в это время обнял меня…
Конечно же, позже я обшарил интернет в поисках сведений, относящихся к времени пребывания Куприна в Балаклаве. И о, слава тебе, всезнающая сеть! – уже через несколько минут выведал то, что постараюсь изложить здесь в сжатом виде.
Александр Иванович впервые посетил Балаклаву в сентябре 1904 года. Сюда он приехал из Петербурга, будучи заинтригованный рассказами об этом портовом городке знакомого крымского грека Денакса. Куприн, кстати, давно уже мечтал переехать из сырого, холодного Петербурга куда-нибудь на юг, желательно на морское побережье. И вот выбор его пал на Балаклаву.
Пожив некоторое время в гостинице, писатель переезжает на Третью улицу, на дачу Ремезова (ныне это ул. Куприна, дом №1). Стараясь сблизиться с местным населением, Куприн неоднократно выходит с рыбаками в море, учится их непростому ремеслу и его, в конце концов, принимают в рыбацкую артель!
И однажды случилось то, что случилось: Куприн настолько пропитывается бесшабашностью, независимостью балаклавских рыбаков, что как-то, будучи подшофе после удачного лова, отправился с компанией своих товарищей из таверны прямиком на телеграф. И оттуда на имя российского императора была отправлена знаменитая дерзкая телеграмма: «Балаклава объявляет себя свободной республикой греческих рыбаковъ. Куприн».
Ответ пришёл практически тут же, но не от Николая II, а от премьер-министра царского правительства: «Когда пьешь – закусывай. Столыпин».
Конечно же, Александр Иванович в этой сумбурной круговерти балаклавской жизни не забывал о главном своем предназначении – литературе. Здесь он создал серию пронзительных, достоверных очерков «Листригоны», точно описывающих тяжелую работу и жизнь настоящих морских рыбаков. Это реальные люди, черноморские греки Юра Паратино, Христо Амбарзаки, Ваня Андруцаки, Коля Констанди и другие, годами рыбачащие в Черном море и принявшие в свое брутальное братство ни черта не боящегося и ставшего своим в доску столичного интеллигента.
Собираясь обосноваться в Балаклаве всерьез и надолго, Куприн даже приобретает участок земли в балке Кефало-Врис. Он уже составил и план дома и сада, раздобыл саженцы плодовых деревьев, уже и нанятые им рабочие готовы были приступить к работам в имении Куприна «Кефало-Вриси», но…
15 ноября 1905 года писатель становится свидетелем жестокой расправы над революционным крейсером «Очаков». В шоке от происшедшего, Куприн пишет очерк «События в Севастополе», в котором осуждает расстрел и сожжение мятежного боевого корабля с сотнями матросов на борту. Он же принимает самое активное участие в сокрытии десяти матросов с «Очакова», спасшихся в Балаклаве: достаёт им гражданскую одежду и уводит на виноградники композитора П. И. Бларамберга (эти события впоследствии были описаны Куприным в рассказе «Гусеница).
Адмирал Чужнин, обвиненный Куприным в убийстве очаковцев в газете «Наша жизнь», в гневе приказывает в течение одних суток выслать писателя из Севастопольского градоначальства, к которому относится Балаклава. Вынужденный подчиниться – за ним приходит полицейский пристав, – Куприн с большим сожалением покидает полюбившийся ему город.
Он не хочет мириться с решением властей и спустя несколько месяцев возвращается в Балаклаву. Но предпринимает попытку снова обосноваться в Балаклаве, его вновь немедленно выселяют из городка. Александру Ивановичу лишь благодаря взятке удаётся задержаться на два часа. Он наскоро обедает в плавучем кафе «Гранд-отеля», эту трапезу Куприн описывает в ироничном стихотворении «В Балаклаву – точно в щёлку в середине сентября…».
Писатель вынужден снова покинуть Балаклаву, как оказывается, уже навсегда.
Но балаклавцы о нем не забыли. В 1994 году балаклавская библиотека №21, что на набережной, была названа библиотекой им. А. И. Куприна. Спустя шесть лет в самом начале улицы Куприна в его честь была открыта мемориальная доска.
А в мае 2009 года и сам Александр Иванович вернулся в любимый город, правда, уже в виде памятника. И навсегда застыл на том месте, где он любил прогуливаться 113 лет назад.
Названная сестра Астафьева
Среди множества людей, которых за свою большую жизнь знал великий русский писатель Астафьев, есть один человек, к которому Виктор Петрович относился с особой нежностью. Это простая учительница начальных классов Галина Георгиевна Суевалова из далекого эвенкийского поселка Тура.
«А ты кто такая?..»
Она была его одноклассницей и подругой по Игарскому детскому дому, где судьба свела их, совсем еще детей, но с уже изломанными судьбами. И перед самой войной разлучила потом на долгие сорок шесть лет.
– Он называл меня сестренкой, – с гордостью рассказывает Галина Георгиевна. – Заступался за меня, если кто пытался обидеть. А я была отличницей и помогала ему подтянуться по многим предметам.
Да, будущий знаменитый писатель не отличался большими успехами в учебе. Как, впрочем, и большинство пацанов Игарского детского дома. Их, обездоленных, хулиганистых, в голодное предвоенное время занимали совсем другие заботы: как бы где-нибудь разжиться «жратухой» да куревом. А еще дать отпор городским, обидно обзывающих воспитанников сиротского дома голодранцами да голодной «семинарией». Хотя, если честно, Игарка вдоволь натерпелась в ту пору от беспокойных «квартирантов»: они и украсть могли, и поджечь, а то и ограбить. За что и пользовались нелюбовью горожан.
А появился он в детдоме следующим образом. Было это где-то в 1937 году. Галя Ус (девичья фамилия нашей героини) стояла с группой подружек на крылечке интерната, когда к ним приблизился взъерошенный, весь оборванный и исхудалый паренек лет двенадцати-тринадцати.
– Ой, хлопчик, а шо ж ты такий грязнучий? – жалостливо протянула Галина, еще не растерявшая свой певучий украинский говор, хотя оторвана была от родной земли в возрасте трех или четырех лет (почему «или» – чуть позже).
– А ты кто такая, чтобы спрашивать? – сердито спросил в свою очередь пришелец и независимо цыкнул зубом. Девчонки пошли и сказали мальчишкам, что вот явился там какой-то забиячистый парнишка, явно чего-то хочет. Пацаны тут же высыпали на крыльцо. И быстро разобрались, что к чему. Оказалось, что зовут парнишку Витькой Астафьевым, и ему некуда податься
«Свой» – решили пацаны. И повели его к директору Василию Ивановичу Соколову. А уж у него бирюковатый с виду парнишка немного оттаял ожесточенным сердчишком и рассказал свою незамысловатую по тем временам, но очень горькую историю.
Рос себе Витька Астафьев в родной деревеньке Овсянка на берегу холодного и быстрого Енисея, как мог помогал родителям их не очень дружного, но шумного семейства вести небогатое хозяйство. Но больше пропадал в окрестной тайге, рыбачил на Енисее и был по-своему счастлив. Пока не посыпались на них несчастья – одно за другим. Раскулачили и отправили на Север, строить Игарский порт, деда, промышлявшего мельничным делом. Арестовали отца, приписав ему вредительство. Утонула в Енисее мама, когда везла на лодке передачу отцу в Красноярскую тюрьму. А когда отец отсидел свой небольшой срок, то женился заново и в 1935 году повез свою семью – жену и совместных детей, – в Игарку, за «большими деньгами».
Здесь Виктор пошел в первый класс. А отец однажды сильно простыл на рыбалке, тяжело заболел и надолго угодил в больницу. Мачехе, едва сводящей концы с концами, было уже не до пасынка. Он бродяжничал, жил где попало, пока не оказался у дверей детского дома.
Выслушав его историю, директор оставил парнишку. Так Витька Астафьев влился в большую и дружную сиротскую коммуну. И первым, в ком он нашел родственную душу, кому доверял больше всех, оказалась Галина Ус. Их судьбы были схожи. Правда, Галя осиротела много раньше своего нового приятеля.
Одна, совсем одна…
– Отца я вовсе не помнила, а мама осталась в моей памяти высокой стройной женщиной, с длинными косами. А вот лица я ее не запомнила, – печально рассказывает Галина Георгиевна. Мы сидим в одной из четырех комнат ее уютного, теплого, но совершенно пустого дома – все дети уже давно живут самостоятельно, некоторые уже дождались внуков. Галина же Георгиевна человек, привыкший к самостоятельности и независимости – так ее воспитала суровая жизнь, – предпочитает быть ни для кого обузой и живет одна. А тогда она была совсем малышкой, и мама ее заболела и умерла в товарном вагоне эшелона, который вез высланных из Украины в Сибирь членов семей врагов народа. Таким «врагом» оказался и ее отец, которого она вообще не запомнила, потому как его арестовали до той поры, когда Галя начала что-то осмысливать и откладывать в свою совсем еще куцую, почти младенческую память.
– Маму сняли с поезда и похоронили где-то в районе станции Зима – именно это название я запомнила, – продолжает свой печальный рассказ Галина Георгиевна.. – А я каким-то образом оказалось в цыганском таборе. Я очень смутно помню, что ехали с нами в вагоне эти горластые, темноволосые люди. И когда мою умершую маму выгрузили из эшелона, никого, видимо, не нашлось кроме них, кто бы взял на себя ответственность за неожиданно образовавшуюся в вагоне сироту в моем лице. И это они же, скорее всего, от общения с мамой, когда она была еще жива, сохранили для меня мои имя и фамилию. Во всяком случае, сколько с тех пор помнила себя, так и звалась – Галя Ус…
Девочка пробыла с этими добросердечными цыганами несколько месяцев. Следующие отчетливые кадры, сохранившиеся в ее памяти: ее оставляют в милиции. Милиционеры передают ее в детский приемник. А оттуда Галя Ус попадает в Красноярский детский дом.
Здесь Галя содержалась несколько лет: училась в школе, потихоньку росла. Как-то она услышала разговор тетенек-уборщиц, когда они, жалостливо поглядывая на худущую девчонку с голодными глазами, почти шепотом говорили:
– Вот и ейный родитель, поди, в Игарке мается. А она, сердешная, туточки голодает. Уж и не свидятся, пожалуй, боле. И сколько же таких, упаси боже!
Галя уже и до этого слышала название этого проклятого места, куда почему-то увозили родителей многих детей, и оно запало ей, что называется, в душу. И когда девчушке исполнилось девять лет, и детский дом надоел ей до чертиков, Галя решила отправиться в эту загадочную Игарку, где, как она думала, томился ее отец.
Улучив момент, она сбежала из детдома и добралась до речного порта. Здесь она порасспрашивала людей, какой из пароходов отправляется на Игарку, пробралась на его борт. Безбилетную пассажирку обнаружили, хотели ссадить на берег. Но она подняла такой рев: дескать, от мамки отстала, она на другом пароходе уплыла и теперь убивается там без дочери, и ее в конце концов оставили. Так Галя оказалась в Игарке.