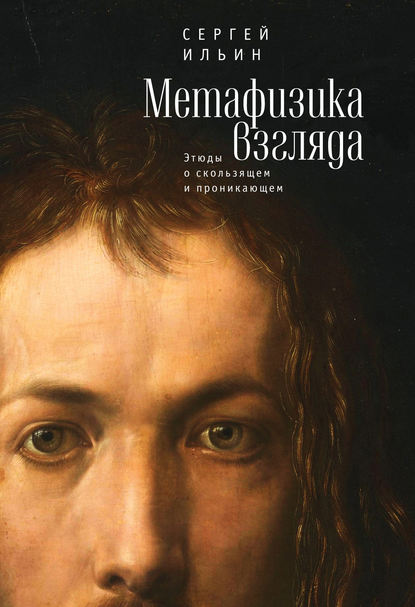По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Метафизика взгляда. Этюды о скользящем и проникающем
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
III. (Великое лицезрение подъездной двери). – Как подметил непревзойденный Кафка, чем дольше мы стоим перед дверью, куда хотим постучать и за которой нас не столько ждут, сколько мы сами ждем, что нас ждут, тем труднее нам постучать в нее, так что в конце концов, если невидимая черта ожидания перейдена, мы вынуждены тихо повернуться и уйти восвояси.
Правда, обычно этого не происходит, потому что повседневная наша жизнь расписана, как репертуар провинциального театра, и преодолеть гравитационную силу приглашения в гости нам, как правило, не дано, между тем, если дать себе труд вдуматься в сам по себе элементарный, но весьма неординарный феномен долгого лицезрения двери, то оно, это лицезрение, несмотря на свою изначальную комичность, может при определенных условиях трансформироваться в самое настоящее откровение.
И вот как это может произойти.
Когда мы стоим перед свершением поступка, который продиктован основным нашим настроением на данный момент, но тишайший голос интуиции не то что бы отговаривает нас от него, но советует нам как следует его продумать, потому что мы наверняка будем сожалеть о последствиях, и тогда нам придется взвешивать непреодолимый инстинкт деяния и неустранимое сожаление от него, – так вот, тогда это обычно означает, что несвершение поступка ценнее, нежели его свершение.
И тогда мы впервые прикасаемся – не умом, а всем существом своим – к тому, что на заре Средневековья называлось отрицательной теологией, только там подразумевалось, что о Боге можно говорить лишь негативными определениями: что Он не есть на самом деле, потому что о том, что Он есть в себе самом, нам даже приблизительно не дано судить.
Но ведь и к миру можно относиться, как к неведомому Богу, и тогда получается, что любой поступок ведет к обогащению нашего внутреннего Я, независимо от того, какой знак стоит перед ним: плюс или минус, здесь опять перед нами первооснова человеческой психики с ее одинаковой открытостью как к добру, так и ко злу: наше Я склонно приобретать любые опыты, в том числе и сознательное делание зла другим, мы собираем такие опыты как грибы: главное – сначала сорвать и положить в корзинку, а потом уже, дома, при жарке разберемся, плохие они или хорошие.
Действительно, есть все основания полагать, что даже из самых мерзких деяний путем их искреннего осмысления и покаяния может со временем выйти что-то очень хорошее, а значит и их свершение было не только не напрасным, но даже в какой-то мере оправданным.
Очень скользкий, однако, и опасный путь, потому что, как бы сладко ни было покаяние в дурных делах и каким бы преображенным ни выходил из него человек – слова и музыка нашего Федора Михайловича – преображение это временное и неполное, главное же, оно полностью зависит от покаяния, довольно сладострастного, нужно сказать, чувства, а кроме того, само покаяние напрямую зависит от дурных поступков: нет зла – нет и раскаяния, нет раскаяния – нет и очищения, и вот весь этот сложнейший, противоречивейший и в глубочайшей мере псевдо-духовный процесс, на котором, как на гвозде, висит все творчество Достоевского, застопоривается.
Я оказывается без питания, ему нечего переваривать, за неимением поступков – две трети из которых именно такие, которые лучше было бы не делать – оно вынуждено настраиваться на лечебное голодание, но последнее всегда целебно как для души, так и для тела, и в воздержании от скоромной пищи для внутреннего Я путем несвершения иных поступков, в которых нам придется когда-нибудь обязательно раскаяться, заключается громадный потенциал.
Здесь можно увидеть аналогию со сходными местами из каких-нибудь черновиков к какому-нибудь роману, где герои тоже иной раз делают не то, что предполагает начальный и невызревший авторский замысел, и если автор вовремя не исправляет те поступки своих героев, которые, согласно художественной идее – а она, как известно, не ошибается – не должны были быть сделаны, то он потом неизбежно и горько раскаивается, как раскаиваемся и мы на каждом шагу в жизни, делая что-то такое, что лучше было бы не делать, причем от раскаивания трудно отучиться, оно сродни духовному хулиганству, а русский человек ой как любит похулиганить.
Вот если бы в содеянии иного зла видеть грубейшую стилистическую ошибку, которая портит нас как неважно кем задуманный, но на две трети нами самими непрерывно сотворяемый образ, ошибку, которую быть может уже и поправить нельзя, и которая, как любил говорить Талейран, хуже любого преступления… да, кто знает, – быть может, такое художественное сознание способно было бы куда эффективней нравственно очистить человека, нежели любая мораль, что говорю? так оно и есть на самом деле при ближайшем рассмотрении, иначе быть не может и никаких тут доказательств не нужно: достаточно просто внимательно и нелицеприятно взглянуть на ход истории, присмотреться к ее действующим лицам, а главное, как следует понаблюдать за самим собой.
И вот окажется, что, прослеживая на склоне лет искренне, беспристрастно и до последней глубины – это обязательное условие анализа! – сделанные и несделанные опыты жизни, приходишь к выводу, что в том случае, если мы могли совершить какой-то немаловажный для нас жизненный опыт, и все-таки по тем или иным причинам не совершили его, у нас в душе и почти помимо воли и сознательной работы ума является ощущение некоторой удивительной, безусловной и как бы первозданной чистоты.
С другой стороны, параллельно и на одном дыхании, точно вторая ветвь на одном и том же суку, возникает в душе столь же удивительное и неотразимое в первозданной чистоте своей ощущение сожаления насчет тех же самых несделанных опытов жизни: вот, мол, упущено уникальное бытийственное переживание, которое уже никогда не сможет повториться.
Догадавшись, что это и есть, пожалуй, два самых субтильных, глубочайших и антиномических ощущений, доступных человеку, что они знаменуют последние границы восприятия бытия, и что их поэтому можно сравнить опять-таки со Сциллой и Харибдой – с чем же еще? между которыми вечно плывет и движется наша жизнь… итак, догадавшись об этом, остается только проверить эту великую, но пока гипотетическую истину на собственном опыте.
У меня это произошло в прошлом году.
Перед Рождеством я опять стоял перед той подъездной дверью, справа от которой была вмонтирована в стену металлическая табличка с еврейским именем, людей, что там жили, я в последний раз видел тридцать пять лет назад, мы с первой женой изредка приходили в ним посмотреть телевизор и поболтать о том о сем, это были муж и жена, эмигрировавшие из России в начале семидесятых и осевшие в Мюнхене. Он, полненький, лысоватый, с курчавым высоким лбом и петушиным взглядом, она – высокая, стройная и очень спокойная, когда говорил он, умолкала она и наоборот, так что то великое и тайное, что их связывало, оставалось всегда недоступно для их собеседника, и он уходил с тем ощущением легкой заинтригованности, благодаря которой общение никогда не бывает скучным, хотя в нем не было ничего, что можно было бы назвать нескучным.
Мы познакомились с ними через еврея-шофера, который нелегально перевез нас из Вены в Германию, сам он жил с женой и дочкой в Оффенбахе под Франкфуртом, мы у них прожили неделю, не зная куда податься и к кому обратиться, прежде чем волею случая осели в Мюнхене.
И вот, спустя полжизни, я опять стоял перед дверной табличкой, на кнопку под которой я столько раз нажимал давным-давно, время утекло как вода между пальцев, – неужели только потому, что прожил на чужбине?
Как же мне хорошо было здесь! и как тревожно думать о том, что моя западная и настоящая, как мне хочется думать, жизнь мне ни разу не приснилась, а снились и снятся лишь эпизоды и их фантастические вариации из той прежней и вечной, российской и саратовской жизни.
Значит ли это, что мою западную жизнь закон кармы слизнет, как корова языком? и я опять появлюсь на свет в каком-нибудь провинциальном российском городке? и опять начнутся сладость, беспросветность и ужас провинциального бытия – именно в том же порядке – а потом отчаянная попытка выбраться, и неизвестно, удастся ли она, и если удастся, я опять смирюсь с общим сюжетом жизни и буду с удовольствием умом и сердцем его обсасывать, а если не удастся… вот какие странные мысли приходят в голову.
Как бы то ни было, я очень большое внимание придаю снам, быть может, здесь сказывается моя природа игрока, – и сны как главный козырь могут в решающий момент либо выиграть игру под названием «смысл жизни», либо в пух и прах ее проиграть, а как это в точности произойдет, спрашивайте уже у тибетских буддистов: они знают.
Ну а с теми людьми мы расстались, как будто знали друг друга вечно, и потому регулярно отмечаться в знак приличия хотя бы раз в год было как бы необязательно, – вот мы и не отмечались, просто в соседнем доме практикует мой адвокат, и всякий раз направляясь к нему, я коротко заглядываю на знакомую табличку, быть может инстинктивно любопытствуя, живы ли мои давние знакомые: они были живы.
И вот теперь, наконец, спустя тридцать пять лет, я решил навестить их: у меня просто страсть встречаться с людьми раз в несколько десятилетий, в этом есть что-то нечеловеческое, я знаю, – но ведь и какое сверхчеловеческое величие! нет, что там ни говори, а только в общении, разделенном широким потоком времени, есть та монументальная значительность, которую не замутит никакая банальность, и это значит, например, что можно говорить все, что заблагорассудится – а выйдет прекрасно и величественно, – такого не бывает в повседневном общении, впрочем, это может быть и тайное оправдание все того же комплекса неполноценности в аспекте общения.
Итак, я уже решил, какой подарок я им сделаю, и положил его в корзинку для покупок, но перед самой кассой вдруг усомнился: а правильно ли я делаю? а что, если они совсем не рады будут меня видеть? подарок, чашка кофе, воспоминания… ну, а дальше? ведь провожая меня до двери, встанет вопрос о новом приглашении с моей или с их стороны, и нужно будет мучительно решать, поддерживать дальше отношения или ограничиться вот этим странным посещением, если поддерживать – то почему это нельзя было делать прежде, когда было и время, и силы, если же не поддерживать, то все это еще более странно и неприятно.
А кроме того, я вспомнил моих старых приятелей: итальянца и немку, с которыми мы дружили лет двадцать, потом они исчезли из моей жизни по причине развода с женой: общие знакомые как будто делят судьбу супружеского расхождения, однако я встретил их случайно на Зендлингертор – я был тогда со второй моей женой – и все пошло замечательно и лучше прежнего: они нам дали ключи от своего итальянского загородного дома, и мы там провели самый лучший отпуск нашей жизни… но потом и это приятельство было вдруг прервано, я уже не помню, когда именно, почему и как.
Спустя десять лет, я, помнится, вдруг во что бы то ни стало захотел до них дозвониться, но не смог, и поехал к ним без приглашения, но застал одного Джакомо, и он мне открыл, как будто не удивившись моему приходу, и мы болтали, как прежде, и он мне показывал опять свою коллекцию марок и медалей, но когда я у двери попросил у него номер телефона, он сказал, что его у нет под рукой, и что он сам позвонит.
Никакого звонка, конечно, не последовало, и не было никакой взаимной обиды, наступила просто глубокая старость с его стороны, и у него исчезла потребность общения, а поскольку он тоже был таким же заядлым эгоистом, как и я, он не счел нужным объясняться и оправдываться.
Так мы и расстались навсегда, а знакомство с ним все-таки осталось в моей душе как одно из самых удачных и приятных, может быть, потому, что там ни на йоту не было тягостного и напыщенного интеллектуализма, столь неизбежного в общении между русскоязычными людьми.
Так к чему же я веду? ах, да, вспомнив о Джакомо, я окончательно понял, что мое нежданное посещение тех людей из далекого прошлого было бы непростительной ошибкой, ибо прошлое слишком величественно, чтобы позволять без повода в него вмешиваться и делать из него прозаическое настоящее и все-таки, когда я выкладывал подарок из корзины, у меня было грустное чувство: я добровольно отказывался от одного из самых субтильных опытов и это можно трактовать как отказ от самой жизни.
Может быть и так, но в этом я вижу скорее достоинство, чем недостаток, все-таки что-то я приобрел взамен, – незапятнанная чистота прошлого тоже ведь чего-то стоит.
Не вполне апокалиптические звери
I. – Раз подметив, что за многолетним идеальным браком может скрываться – и наверняка скрывается – обыкновенная и фатальная неспособность соблазнить или увлечь другую женщину (или мужчину), вдруг мгновенно осознав, что десятилетие за десятилетием отбывающие срок жизни супруги нашли для себя всего лишь благоприятнейшую с моральной точки зрения маску – безукоризненную в плане житейской игры, снимая которую боишься уже повредить лицо, – и вместе с тем столь же внезапно и остро почувствовав, что их не в чем упрекнуть, что в их лебединой верности может быть сокрыта «соль земли», и что так глубоко подкапываться под людей просто нельзя без того чтобы насчет тебя самого не возникли те же самые последние и страшные вопросы, – итак, осветив хотя бы с одного бока тусклым светом заскорузлого житейского сознания весь этот запутанный клубок (между прочим) центрального человеческого отношения, начинаешь невольно воспринимать не чужую или свою, а саму душу человека как таковую не в привычном амплуа абстрактной и безвидной – то есть доступной разного рода светоносным манипуляциям – противоположности тела, а в куда более правдоподобном качестве не слишком духовного – преувеличения здесь никому не нужны – но уж конечно и не сугубо материального – приземленность мышления тоже никому еще не помогла – образа: какого образа?
Учитывая земной ландшафт, принимая во внимание соотношение земли и воды на нашей планете, не переставая удивляться также невероятным красотам и пугающей загадочности океанских глубин – которые вопреки всякой логике и вопреки здравому человеческому рассудку исследованы в гораздо меньшей степени, чем космос (тогда как океан для нас бесконечно важнее, чем космос) – а главное, прислушиваясь к сообщениям о живущих в бездонных водах многообразных фантастических существах, превышающих наше воображение, – итак, подытожив все вышесказанное, единственно идентичный образ души напрашивается сам собой.
II. – Как, нырнув под какую-нибудь скалу и увидев там притаившегося спрута или водяную змею, мы, возвратившись на берег, невольно видим и бухту и небо и деревья и солнце и весь божий мир в каком-то новом и более остром, ярком и волнующем свете, – потому что подводные чудовища, являясь им полной противоположностью, в то же время, желая того или не желая, неизбежно продемонстрировали кровное единство всего на земле, в духе Маугли, повторявшего всем зверям: «Мы с вами одной крови, вы и я», – в том числе и тайную, пуповинную связь идиллически-прекрасной бухты, неба, деревьев и солнца со спрутом и водяной змеей, – так, внимательно всматриваясь вглубь собственной души, вплоть до тех ее дальних пределов, где самые страшные поступки из мрака полной невозможности подступают к полусвету возможного и готовы вот-вот шагнуть в область вполне вероятного и даже реального – при условии всего лишь крошечного изменения во внешних обстоятельствах или собственном характере, – мы естественно и закономерно обнаруживаем в своей душе, наряду с привычными идиллическими пейзажами, притаившихся за их красотами чудовищ.
III. – И вот тогда, оглядываясь на людей, которых мы считали до того безукоризненно чистыми и светлыми, то есть похожими на бухту и чудный пейзаж вокруг нее, мы делаемся вдруг смущены, и во взгляде нашем на этих неповинных ни в чем людей появляются оторопь и смущение, – и тогда опять, в который раз, свершается предвечное грехопадение, – то есть мы начинаем смотреть на ближних наших, изыскивая в них притаившихся в глубине спрутов и змей; и если мы их даже не нашли – а так, как правило, и происходит – мы никогда уже не забудем самой возможности их существования в душе любого без исключения человека, и в этом, собственно, нет ничего дурного, напротив, если и есть реальная возможность возлюбить ближнего, то только благодаря существованию чудовищ и в нас и в нем одновременно: просто эти чудовища должны как-то гармонировать между собой, но ведь гармония и есть душа искусства.
IV. – Стало быть, любовь суть тоже в первую очередь искусство, что и требовалось доказать.
Без вины виноватые
I. (Приглашение на казнь). – Если мы действительно любим людей за то добро, которое им делаем, и ненавидим их за то зло, которое им причиняем, то все-таки нельзя не отметить, что, даже причиняя им зло, мы испытываем раскаяние, хотя при этом не отрекаемся от содеянного: и потому, сделав им зло и преисполнившись чувством вины, которое, впрочем, никогда не идет так далеко, чтобы вычеркнуть содеянный поступок из списка бытия, наше сочувствие к страдающему от нас человеку напоминает мучительное, но бессильное и бесполезное сострадание того высунувшегося из окна верхнего этажа дома, примыкавшего к каменоломне, и невольного свидетеля казни К., который для пущего театрального правдоподобия не только порывисто наклонился далеко вперед, но еще и протянул руки вдаль.
Кто это был? – спрашивает Кафка. – Друг? просто добрый человек? – нет, это был скорее хрестоматийный Кай, то есть каждый из нас.
Кафка не описывает взгляд того сострадающего человека, но любой из нас, вспомнив себя в вышеописанной классической ситуации причинения зла ближнему при одновременных укорах совести и без какого-либо раскаяния, дорисует этот взгляд в своем воображении, – потому что он слишком часто наблюдал его в зеркале.
II. (Двойная ошибка). – Даже самые наши близкие родственники и друзья, то есть люди, которых мы единственно в состоянии тепло и искренне любить, иной раз переступают заветную невидимую черту, – то есть совершают поступок или начинают вести образ жизни, которые с нашими, а может быть даже и с общечеловеческими понятиями о Добре, Красоте и Правде несовместимы.
Мы в таких случаях от них не отрекаемся, но и не скрываем своего полного с ними несогласия и, если они упорствуют, в нашем отношении к ним, хотим мы того или не хотим, начинают сквозить холодность и отчуждение: положим, это всего лишь своего рода маски, скрывающие наше сочувствующее лицо и добрые участливые глаза, но наши «провинившиеся» родственники и друзья, видя вместо привычного лица холодную маску, растеряны и шокированы, они пытливо заглядывают нам в глаза, пытаясь увидеть, что под маской, – однако под нею обычно другая маска, пусть менее холодная и более приветливая, но это все еще маска, потому что мы твердо решили не открывать лица до тех пор, пока наши подопечные не вернутся на путь истинный.
Процесс воспитания может продолжаться сколь угодно долго, но беда в том, что когда мы поймем, что на верном пути были все-таки они, а не мы, будет уже поздно: та самая холодно-отчужденная маска, которую мы так долго носили на лице, станет уже отчасти нашим собственным лицом и в особенности пострадают наши глаза: тот молчаливый упрек и уверенность в собственной правоте, которые так неприлично доминировали в нашем взгляде, теперь навсегда будут отражаться в зеркале и скрыться от них нам будет уже некуда.
III. (Ложная эстетика покаяния). – Поскольку характер и внешние обстоятельства связаны самым тонким, но и самым глубоким, то есть музыкальным образом, постольку и любые поступки людей, в том числе даже вопиющие к небу, в известном смысле необратимы, они в полном смысле слова судьбоносны, а стало быть и раскаянию – этой мнимой панацее от любых нравственных заболеваний – места в космосе нет, точнее, раскаяние есть воображаемый и по жанру религиозно-поэтический феномен: раскаяться означает по сути отказаться либо от частицы своего прошлого, либо от частицы собственной души, но ни то, ни другое невозможно.
Так всякий, кто более-менее знаком с современными немцами, знает, что в глубине души они в грехах Второй Мировой войны нисколько не раскаялись – и не потому, что они хуже других наций, а потому, что требовать от них искреннего и глубокого раскаяния все равно что ждать, чтобы они прыгнули выше головы, они просто не понимают, чего от них хотят, – и они правы: ведь что происходит в процессе покаяния? когда мы в чем-то каемся, мы на словах отмежевываемся от предмета, а по сути только тоньше к нему привязываемся, потому что преступление и покаяние неотделимы друг от друга, как ночь и день, и чтобы испытать это очищающее душу блаженство покаяния, нужно прежде обязательно совершить преступление, а чтобы снова испытать это блаженство, надобно опять совершить преступление, хотя бы мысленно, и даже не совершая нового преступления, можно каяться, например, о том, что прежнее покаяние не достигло цели и, почитая неспособность к истинному покаянию своего рода субтильным душевным преступлением, каяться о нем снова и снова, разворачивая дальше, точно гигантскую ядовитую змею, всю эту магическую цепь греха и покаяния, – вот почему буддисты категорически отвергают душевную пользу покаяния и особенно перед смертью: ведь именно в последние часы жизни судьбоносная или попросту сюжетная (что одно и то же) связь греха и покаяния может обнаружить настолько неодолимую власть над ослабевшей от предсмертных страданий душой, что навяжет ей (элементарной силой искусства) неблагоприятные кармические последствия, то есть все тот же сюжет преступления и покаяния, но в ином художественном (жизненном) варианте.
Действительно, как часто бывает, что конфликтующие стороны, сами того не желая, «подливают масло в огонь»: совершив столь же прекрасный, сколь и бесполезный ритуал покаяния, они остаются убеждены, что вот теперь уже точно подготовлена почва для дальнейшего сближения, и препятствия на пути к тесному и сердечному общению – ведь как прекрасно обняться со своим смертельным врагом! – раз и навсегда раскаянием, а также сопутствующим ему «содействием свыше» устранены: люди идут навстречу друг другу, а сами в глубине души с ужасом чувствуют, что свернувшаяся в сердце змея взаимной неприязни не только не убита, но в тишине начинает спокойно расправлять кольца, и, уязвленные ее ядом, разочарованные в себе и в противнике (ведь ни раскаяние, ни божественная любовь не произвели на тех и других никакого действия), они с утроенной ненавистью и к противнику и к себе самому – что немаловажно! – бросаются в пожирающий огонь конфликта.
А что, собственно, произошло? просто эти люди пренебрегли своим космическим сюжетом: ибо как одним планетам надлежит вращаться вокруг других на порядочных расстояниях, так что они практически и знать друг о друге не знают, так иным людям и иным нациям надлежит сохранять великую дистанцию, ибо она, дистанция – космический закон, а не любовь, о которой нам протрубили все уши, – итак, несоблюдение дистанции прямиком ведет к коллапсу, а невозможность любви вызывает тайное чувство вины, в свою очередь подталкивающее нас в объятия еще более разрушительного механизма покаяния.
IV. (Якорь мира сего). – Чувство вины, если оно слишком сильно, ведет к желанию устранить с лица земли как того, кто является его источником, так и в конечном счете себя самого, то есть без всяких сомнений это один из самых страшных механизмов разрушения и саморазрушения, но если чувство вины присутствует в слабой степени, оно может парадоксальным образом даже сближать людей: причиняя человеку некоторую боль или обиду, мы затаиваемся благородным желанием возместить их и компенсировать, принуждая себя тем самым сделать шаг, на который без предварительного создания состояния неравновесия путем чувства вины у нас быть может не хватило бы энергии, однако вся беда в том, что невероятная динамика, скрытая в комплексе вины, обладая тенденцией роста в геометрической пропорции, не имеет той первобытной чистоты, без которой межчеловеческие отношения остаются глубоко проблематическими по сути: но ведь это-то больше всего и нужно людям, если присмотреться! чувство вины, таким образом, можно уподобить и наркотику, дозу которого приходится постоянно увеличивать, иначе не почувствуешь эффекта, и хронической болезни, которая постепенно перерастает в смертельную, и пробоине в днище судна, которая пропускает все больше воды, пока корабль не потонет… и тем не менее, при всем смертельном драматизме, заложенном, можно сказать, на генетическом уровне чувства вины и греха, человек, то есть обыкновенный человек, каких девяносто девять процентов, не может жить без вины и греха, он предпочитает их любой внутренней чистоте, и он тянется к ним как библейский Адам к гранатовому яблоку, потому что чувствует всем нутром своим, что без вины и греха нет любезной его сердцу жизни земной, без вины и греха начнут непроизвольно и необратимо очищаться его мысли и чувства, без вины и греха с ним случится… вот именно, что? да то, что в один прекрасный момент все существо его может сделаться настолько легким и светоносным, что он как воздушный шар воспарит от земли в иные и горние сферы, а вот этого он боится больше всего на свете! и потому – да здравствует чувство вины! да здравствует первородный грех! и да здравствует бог, который втайне предпочитает грешника праведнику!
V. (Загадочное испытание). – Причиняя ближнему незаслуженную боль, мы проникаемся чувством глубочайшей вины к нему, и хотя, как верно подмечено, мы никогда не простим ему этой нашей вины перед ним, все-таки раз вошедшие в мир боль и вина за нее никогда уже мир не покинут: в них вечная гарантия того, что мы и ближний наш отныне до скончания века будем привязаны друг к другу кармическими цепями покрепче галерных, – но как и почему такое произошло? да очень просто: ведь наверняка были в том нашем ближнем черточки, из-за которых мы хотели от него удалиться, но были в то же время и другие черточки, те самые нам бесконечно дорогие и родные, из-за которых нам хотелось с ним остаться, – и вот, не в силах отделить зерна от плевел и не желая в то же время их совместной выпечки, мы прибегли к этой крайней и по сути преступной мере: мы соединили себя с ним навсегда посредством причинения ему нестерпимой боли.
Это невероятно, но мне почему-то кажется, что именно такова тайная причина того самого чудовищного и непонятного людям испытания Богом Авраама, о котором мы читаем в двадцать второй Главе первой Книги Моисея: в самом деле, может ли Исаак простить отцу, что тот без малейших сомнений готов был заклать его как жертвенное животное? может ли такое простить отец самому себе? и могут ли они оба подобное невероятное жертвоприношение простить Тому, Кто его организовал? но прощение или непрощение со временем уходят, а кровная связь между теми, кто причинил боль, и теми, кто ее принял, остается на вечные времена, и она, эта связь, быть может, крепче и выше самой любви.