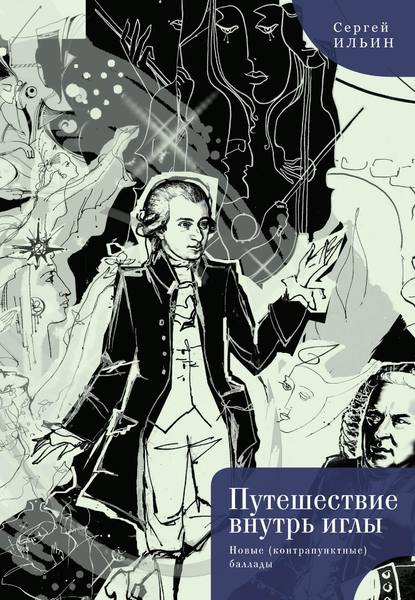По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Путешествие внутрь иглы. Новые (конструктивные) баллады
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
нечего и говорить. Но внимание я обратил бы
на один тонкий нюанс: посмотрите на здешних людей,
и попытайтесь найти, что зовется душой в человеке,
то, что понятно без слов, что прозрачно, как в небе лазурь.
С вами побьюсь об заклад, что такого вы в них не найдете.
Четкого нет в их душе разделенья на зло и добро.
Все это именно то, что с избытком мы в русском начале
видеть привыкли. Оно почему-то отсутствует здесь.
Но, глядя людям в глаза и единый не видя в них образ,
чувство рождается в нас, будто смотрим мы в звездную ночь.
Есть ли в пейзаже ночном хоть намек на гармонию мира?
Нет и в помине его, хоть привольно жить в мире таком!
Что за великий простор, пусть совсем непрозрачный по духу,
нас обнимает в ночи! И вот точно такой же простор
я ощущаю всегда, в узких улочках старой Европы
снова без цели бродя… Мне хотелось бы очень понять
тайну российских пространств, что в разы превосходят Европу:
значит, по духу они должны ближе и к звездам стоять…
Но порождает тоску, точно в тесной вы заперты клетке,
русский бескрайний простор. Здесь загадка и русской души.
2
Только вкусив неотразимое очарование толпы на центральных улицах европейских городов, только обратив внимание, что любой прохожий здесь настолько чертовски интересен, что от него невозможно оторвать взгляд: по крайней мере, пока он не исчезнет из вашего поля зрения, и это несмотря на то, что при полнейшей нашей минутной в нем заинтересованности вам совершенно безразлична по сути его биография – таково даже главное условие внимательно-бескорыстного созерцания людей на улице – и только осознав, что в этой глубочайшей и неустранимой фрагментарности человеческих судеб, более того, в самой принципиальной незаконченности любого куска жизни, откуда бы его ни отхватить, заключается не только первичная характеристика бытия, но и его жанрово-эпическая подоснова, – только тогда исчезает раз и навсегда вкус к театру как таковому, исчезает физическая возможность присутствовать в набитом зале, исчезает способность даже в талантливой актерской игре признавать великое искусство, исчезает готовность видеть интересную и живую интригу на месте всего лишь намертво выдуманного сюжета, – да, после урока, преподанного уличной непосредственностью, пропадает вкус ко всему условному, и только одно кажется странным и непонятным: как мог он (вкус) так долго держаться.
В самом деле, удавшееся произведение искусства, с одной стороны, настолько самостоятельно, что прямое и буквальное вмешательство в него художника сразу и намертво его убило бы, но, с другой стороны, оригинальный автор узнается с трех строк, иногда по первой мелодии или после беглого взгляда на полотно, истинный шедевр не нуждается в опоре на автора, однако без последнего искусство тоже непредставимо: сходная двойственность проглядывает в жизни любого человека, – каждый из нас в одном плане есть «черновик», состоящий из бесчисленного множества мыслей, чувств, слов и поступков, а в другом и «высшем» плане он же суть и собственный «образ», под которым следует понимать неповторимый характер, вполне своеобразные взаимоотношения с людьми, а также индивидуальную биографию, которая, в зависимости от значимости человека или перспективы зрения, может превращаться в судьбу, а то и в провидение.
Действительно, когда наблюдаешь за людьми на улицах европейских городов, кажется, что они, непроизвольно подчиняясь какому-то выше них стоящему природному игровому инстинкту, на короткое время – словно только для того чтобы пройтись перед зрителями в новом амплуа – перевоплощаются в каких-то персонажей, пусть очень похожих на себя, но в то же время и чуточку других, по крайней мере, непосредственное впечатление от них таково, что в семье они должны быть несколько иные, нежели на улице, а на работе и вовсе не похожи ни на тех, ни на других, но мы заранее и от души верим в их малые житейские перевоплощения, а если верим, значит признаем в них некоторое крошечное, но истинное лицедейское искусство, причем чем шире шпагат между ролью и тем, кто ее играет, тем талантливей актер, когда же нам, в виде исключения, вовсе не удалось распознать в герое знакомого актера – а такое часто бывает в лучшем кино и такое нередко происходит на обыкновенных европейских улицах – тогда мы имеем дело с апогеем актерского мастерства.
А вот на российских и даже столичных проспектах несколько другая игра: там люди видят друг друга насквозь – точно смотрят сквозь стекло, вместо того, чтобы наблюдать за собой в зеркалах, то есть в тех же стеклах, но с темной непрозрачной основой, последние не позволяют по природе своей всмотреться в них до дна и подарить человеку дурную и неоправданную иллюзию, будто он все до конца в своем ближнем понял, – вот почему зеркала создают некоторую естественную и непредвзятую атмосферу скромной тайны и повседневного волшебства, тогда как стекла служат, как правило, лишь трезвым и практическим целям.
Да, когда смотришь в зеркало, то даже сам себе немного удивляешься, и это хорошо, человек обязательно должен себе немного удивляться, иначе он будет походить на неодушевленную вещь, – в зеркале, между прочим, вообще нет неодушевленных вещей, там мир замкнут на себя, самодовлеющ и уникален и плюс к тому еще отражен – его не пощупаешь, и вот он уже по одной этой причине начинает магически притягивать, как недостижимый идеал, а через стекло мир только растекается, как вода сквозь пальцы, создавая ощущение неустранимой, фатальной реальности, в которой столько скуки, предсказуемости, морального шаблона, дурной повторяемости и поразительного однообразия, что она скорее напоминает сон, нежели живую жизнь, и как в кино постоянно присутствует иллюзия, что все обошлось без искусства: мы не видим ни режиссера, ни сценариста, ни актеров между сценами, ни статистов, ни всех тех, что обступили с камерами, прожекторами и тысячами вспомогательных приборов ту сцену, которую мы в данный момент наблюдаем, и мы не можем никак вмешаться в игровое действие, тогда как в театре все-таки можно незаметно подмигнуть актеру, и только сообразно этой иллюзии и в пропорциональной от нее зависимости рождается драгоценное и по сути центральное ощущение великого удивления от искусства, – так в театре это последнее начисто отсутствует и не может не отсутствовать, а само великое – потому что метафизическое – удивление деградирует до уровня всего лишь чувственного смакования от мастерской игры.
Итак, рассуждая в гиперболах, театр – как наша сиюминутная жизнь, в которой еще что-то можно поправить, кино – как наша же прожитая жизнь, в которой поправить ничего уже нельзя: тут и размах, и необратимость каждого шага, и вытекающие отсюда серьезность и величие, и судьбоносность, но, как сказано, и некоторый шок по причине опять-таки непроходимой дистанции между зрителем и актером.
Вообще же, когда в любом постороннем человеке нутром ощущаешь пусть даже малый и незначительный, но самостоятельный и ни к чему не сводимый мир, концы которого, как любил говаривать наш незабвенный Федор Михайлович, сходятся в «мирах иных», тогда и себя самого посреди этого мира воспринимаешь как крошечную звезду в бесчисленном сонме больших и малых мирозданий, – и потрясает тогда душу самый великий из всех доступных нам просторов: простор звездного неба.
Так вот, крохотное, но истинное его подобие переживаешь иногда на улицах европейских городов, – не потому ли мы сюда приехали? и как иначе объяснить пророчество того же Достоевского о том, что Европа нам, русским, быть может, внутренне ближе и дороже, чем самим европейцам? подобно потерпевшим кораблекрушение морякам, вынужденным сутками пить морскую воду, от которой они сходят с ума и гибнут, мы тоже давно обезумели от недостатка подлинного живого духовного простора и необходимости пить вместо его нектара мертвую воду пустого и давящего на душу бескрайнего пространства.
Еще раз! не признавая метафизической – то есть попросту не до конца проницаемой – личности в собрате, мы добровольно лишаем себя дополнительных и важных экзистенциальных измерений, на отсутствие которых потом жалуемся и для восполнения которых едем за границу – не потому ли русский человек производит глубоко театральное впечатление, в противоположность человеку западному, сходному с образом кино? и конечно же, возвращаясь назад, театральная игра – не по форме, но по субстанции – больше похожа на «черновики» любого человека, тогда как персонаж кино скорее созвучен с его внутренним и окончательным «образом»: положим, всего лишь проходной нюанс, но в нем великий смысл.
3
Есть в лицах западных людей один оттенок,
что заставляет задержать на них наш взгляд, —
так мастерский портрет, идущий за бесценок,
вдруг незаметно оживит торговый ряд.
В дотошном множестве душевных свойств пытаясь
их образ светлый и единый отыскать, —
то, что душой в простом народе называясь,
из века в век нас продолжает волновать,
мы смотрим долго на старинные картины,
не в силах глаз от них пытливых оторвать, —
но больше, чем от лицезрения витрины,
мы смысла в них так и не можем распознать.
Так точно испокон веков по миру бродим
мы в поисках Того, Кто сотворил его, —
и то, что все-таки Его мы не находим,
нам кажется таинственней всего.
Так что и европейцев сдержанные лица
прежде всего похожи на пустые зеркала, —
и будет вечно непрозрачность из них литься
на нас по принципу зеркального стекла.
V. Баллада об Анфасе и Профиле
1
Когда мы смотрим на медали и монеты римских императоров, то их профили как-то особенно легко и незаметно позволяют нам скользить по времени их правления, точно по гребню волн, раздвигая мыслью и воображением известные нам факты эпохи, мы скользим в узкой лодчонке нашего индивидуального сознания по морям и океанам минувшей жизни и, кажется, любой анфасный лик в качестве компаса задержал бы наше плавание, заставил бы остановиться на каких-то отдельных чертах характера правителя или его эпохи, но профиль… по профилю можно скользить без препятствий и сколько угодно, а в образе скольжения мы всегда безошибочно узнаем почерк бытия, которое, как последний иерархический чин, скрепляет своей подписью любое событие текущей под его невидимым присмотром жизни, – вот почему все в мире движется в едином направлении, но бесконечная прямая, куда бы она ни отправлялась, рано или поздно замыкается на саму себя: таким образом описывается виртуальная окружность, которую мы никогда вполне физически не ощущаем, но помимо которой наш космос решительно не в состоянии вообразить.
В самом деле, и небесные тела, и само мироздание в целом мы не можем помыслить иначе, как по образу и подобию шара, – тем самым вполне удовлетворительно решается знаменитая антиномия конечности – бесконечности Универсума: ведь сколько бы ни скользить – уже мыслью, но никак не космическим кораблем – по краю космоса, никогда не натолкнешься на какой-нибудь предел, но само скольжение Мысли или Духа будет совершаться по какой-то окружности, означающей предел нашего мышления и знания на данный момент: диаметр гигантского шара, в котором мироздание и мысль человека о нем слились воедино, будет, очевидно, непрестанно увеличиваться, но принцип вряд ли изменится, – точно так же мы уезжаем, чтобы возвратиться домой, так Гете сказал насчет отпусков: перефразируя его мысль, можно заключить, что мы рождаемся, чтобы умереть, однако, строго говоря, мир, из которого вышел младенец, ничего общего не имеет с тем миром, куда, по всей вероятности, войдет старец, и если бы речь шла о чистом и последовательном возвращении к первоисточнику, то мы должны были бы, достигнув определенного возраста, возвращаться назад, как в известном романе Скотта Фицджеральда, то есть от старости в зрелость, оттуда в юность, дальше в детство, из детства в младенчество, и наконец в зародышевую клетку, а затем в чистое ничто: но мы все-таки уходим в старость и разве что, проделывая этот тысячу раз пройденный путь, обнаруживаем, что все, что мы осуществили в жизни, было не столько свободным творческим созиданием, сколько высвобождением того, что было заложено в нас с детства, как семя в растении, а это как раз и значит, что, уходя в старость, мы в каком-то очень глубоком и подспудном смысле возвращаемся в детство.
2. Перед зеркалом
Когда мы в зеркале подчас свой видим профиль,
соблазн в нас тонкий подымает круговерть,
и гордость шепчет в сердце, точно Мефистофель:
«Смотри так на себя и – и победишь ты смерть!»
И точно – в выгодном всегда представит свете
все наши мысли и поступки взгляд косой, —
так что по воздуху придется на рассвете
махать ожесточенно Женщине с Косой.
Когда же обратим в себя мы взор анфасный —
так в подсудимого вонзает взгляд судья:
прямой, суровый и отнюдь не беспристрастный —
то в нем любое человеческое Я,
кривляясь в пламени, мучительно сгорает,
хоть оправданье ищет, как в избе иглу, —
и лучшие частицы жизни собирает,
но видит в них одну истлевшую золу.
3
на один тонкий нюанс: посмотрите на здешних людей,
и попытайтесь найти, что зовется душой в человеке,
то, что понятно без слов, что прозрачно, как в небе лазурь.
С вами побьюсь об заклад, что такого вы в них не найдете.
Четкого нет в их душе разделенья на зло и добро.
Все это именно то, что с избытком мы в русском начале
видеть привыкли. Оно почему-то отсутствует здесь.
Но, глядя людям в глаза и единый не видя в них образ,
чувство рождается в нас, будто смотрим мы в звездную ночь.
Есть ли в пейзаже ночном хоть намек на гармонию мира?
Нет и в помине его, хоть привольно жить в мире таком!
Что за великий простор, пусть совсем непрозрачный по духу,
нас обнимает в ночи! И вот точно такой же простор
я ощущаю всегда, в узких улочках старой Европы
снова без цели бродя… Мне хотелось бы очень понять
тайну российских пространств, что в разы превосходят Европу:
значит, по духу они должны ближе и к звездам стоять…
Но порождает тоску, точно в тесной вы заперты клетке,
русский бескрайний простор. Здесь загадка и русской души.
2
Только вкусив неотразимое очарование толпы на центральных улицах европейских городов, только обратив внимание, что любой прохожий здесь настолько чертовски интересен, что от него невозможно оторвать взгляд: по крайней мере, пока он не исчезнет из вашего поля зрения, и это несмотря на то, что при полнейшей нашей минутной в нем заинтересованности вам совершенно безразлична по сути его биография – таково даже главное условие внимательно-бескорыстного созерцания людей на улице – и только осознав, что в этой глубочайшей и неустранимой фрагментарности человеческих судеб, более того, в самой принципиальной незаконченности любого куска жизни, откуда бы его ни отхватить, заключается не только первичная характеристика бытия, но и его жанрово-эпическая подоснова, – только тогда исчезает раз и навсегда вкус к театру как таковому, исчезает физическая возможность присутствовать в набитом зале, исчезает способность даже в талантливой актерской игре признавать великое искусство, исчезает готовность видеть интересную и живую интригу на месте всего лишь намертво выдуманного сюжета, – да, после урока, преподанного уличной непосредственностью, пропадает вкус ко всему условному, и только одно кажется странным и непонятным: как мог он (вкус) так долго держаться.
В самом деле, удавшееся произведение искусства, с одной стороны, настолько самостоятельно, что прямое и буквальное вмешательство в него художника сразу и намертво его убило бы, но, с другой стороны, оригинальный автор узнается с трех строк, иногда по первой мелодии или после беглого взгляда на полотно, истинный шедевр не нуждается в опоре на автора, однако без последнего искусство тоже непредставимо: сходная двойственность проглядывает в жизни любого человека, – каждый из нас в одном плане есть «черновик», состоящий из бесчисленного множества мыслей, чувств, слов и поступков, а в другом и «высшем» плане он же суть и собственный «образ», под которым следует понимать неповторимый характер, вполне своеобразные взаимоотношения с людьми, а также индивидуальную биографию, которая, в зависимости от значимости человека или перспективы зрения, может превращаться в судьбу, а то и в провидение.
Действительно, когда наблюдаешь за людьми на улицах европейских городов, кажется, что они, непроизвольно подчиняясь какому-то выше них стоящему природному игровому инстинкту, на короткое время – словно только для того чтобы пройтись перед зрителями в новом амплуа – перевоплощаются в каких-то персонажей, пусть очень похожих на себя, но в то же время и чуточку других, по крайней мере, непосредственное впечатление от них таково, что в семье они должны быть несколько иные, нежели на улице, а на работе и вовсе не похожи ни на тех, ни на других, но мы заранее и от души верим в их малые житейские перевоплощения, а если верим, значит признаем в них некоторое крошечное, но истинное лицедейское искусство, причем чем шире шпагат между ролью и тем, кто ее играет, тем талантливей актер, когда же нам, в виде исключения, вовсе не удалось распознать в герое знакомого актера – а такое часто бывает в лучшем кино и такое нередко происходит на обыкновенных европейских улицах – тогда мы имеем дело с апогеем актерского мастерства.
А вот на российских и даже столичных проспектах несколько другая игра: там люди видят друг друга насквозь – точно смотрят сквозь стекло, вместо того, чтобы наблюдать за собой в зеркалах, то есть в тех же стеклах, но с темной непрозрачной основой, последние не позволяют по природе своей всмотреться в них до дна и подарить человеку дурную и неоправданную иллюзию, будто он все до конца в своем ближнем понял, – вот почему зеркала создают некоторую естественную и непредвзятую атмосферу скромной тайны и повседневного волшебства, тогда как стекла служат, как правило, лишь трезвым и практическим целям.
Да, когда смотришь в зеркало, то даже сам себе немного удивляешься, и это хорошо, человек обязательно должен себе немного удивляться, иначе он будет походить на неодушевленную вещь, – в зеркале, между прочим, вообще нет неодушевленных вещей, там мир замкнут на себя, самодовлеющ и уникален и плюс к тому еще отражен – его не пощупаешь, и вот он уже по одной этой причине начинает магически притягивать, как недостижимый идеал, а через стекло мир только растекается, как вода сквозь пальцы, создавая ощущение неустранимой, фатальной реальности, в которой столько скуки, предсказуемости, морального шаблона, дурной повторяемости и поразительного однообразия, что она скорее напоминает сон, нежели живую жизнь, и как в кино постоянно присутствует иллюзия, что все обошлось без искусства: мы не видим ни режиссера, ни сценариста, ни актеров между сценами, ни статистов, ни всех тех, что обступили с камерами, прожекторами и тысячами вспомогательных приборов ту сцену, которую мы в данный момент наблюдаем, и мы не можем никак вмешаться в игровое действие, тогда как в театре все-таки можно незаметно подмигнуть актеру, и только сообразно этой иллюзии и в пропорциональной от нее зависимости рождается драгоценное и по сути центральное ощущение великого удивления от искусства, – так в театре это последнее начисто отсутствует и не может не отсутствовать, а само великое – потому что метафизическое – удивление деградирует до уровня всего лишь чувственного смакования от мастерской игры.
Итак, рассуждая в гиперболах, театр – как наша сиюминутная жизнь, в которой еще что-то можно поправить, кино – как наша же прожитая жизнь, в которой поправить ничего уже нельзя: тут и размах, и необратимость каждого шага, и вытекающие отсюда серьезность и величие, и судьбоносность, но, как сказано, и некоторый шок по причине опять-таки непроходимой дистанции между зрителем и актером.
Вообще же, когда в любом постороннем человеке нутром ощущаешь пусть даже малый и незначительный, но самостоятельный и ни к чему не сводимый мир, концы которого, как любил говаривать наш незабвенный Федор Михайлович, сходятся в «мирах иных», тогда и себя самого посреди этого мира воспринимаешь как крошечную звезду в бесчисленном сонме больших и малых мирозданий, – и потрясает тогда душу самый великий из всех доступных нам просторов: простор звездного неба.
Так вот, крохотное, но истинное его подобие переживаешь иногда на улицах европейских городов, – не потому ли мы сюда приехали? и как иначе объяснить пророчество того же Достоевского о том, что Европа нам, русским, быть может, внутренне ближе и дороже, чем самим европейцам? подобно потерпевшим кораблекрушение морякам, вынужденным сутками пить морскую воду, от которой они сходят с ума и гибнут, мы тоже давно обезумели от недостатка подлинного живого духовного простора и необходимости пить вместо его нектара мертвую воду пустого и давящего на душу бескрайнего пространства.
Еще раз! не признавая метафизической – то есть попросту не до конца проницаемой – личности в собрате, мы добровольно лишаем себя дополнительных и важных экзистенциальных измерений, на отсутствие которых потом жалуемся и для восполнения которых едем за границу – не потому ли русский человек производит глубоко театральное впечатление, в противоположность человеку западному, сходному с образом кино? и конечно же, возвращаясь назад, театральная игра – не по форме, но по субстанции – больше похожа на «черновики» любого человека, тогда как персонаж кино скорее созвучен с его внутренним и окончательным «образом»: положим, всего лишь проходной нюанс, но в нем великий смысл.
3
Есть в лицах западных людей один оттенок,
что заставляет задержать на них наш взгляд, —
так мастерский портрет, идущий за бесценок,
вдруг незаметно оживит торговый ряд.
В дотошном множестве душевных свойств пытаясь
их образ светлый и единый отыскать, —
то, что душой в простом народе называясь,
из века в век нас продолжает волновать,
мы смотрим долго на старинные картины,
не в силах глаз от них пытливых оторвать, —
но больше, чем от лицезрения витрины,
мы смысла в них так и не можем распознать.
Так точно испокон веков по миру бродим
мы в поисках Того, Кто сотворил его, —
и то, что все-таки Его мы не находим,
нам кажется таинственней всего.
Так что и европейцев сдержанные лица
прежде всего похожи на пустые зеркала, —
и будет вечно непрозрачность из них литься
на нас по принципу зеркального стекла.
V. Баллада об Анфасе и Профиле
1
Когда мы смотрим на медали и монеты римских императоров, то их профили как-то особенно легко и незаметно позволяют нам скользить по времени их правления, точно по гребню волн, раздвигая мыслью и воображением известные нам факты эпохи, мы скользим в узкой лодчонке нашего индивидуального сознания по морям и океанам минувшей жизни и, кажется, любой анфасный лик в качестве компаса задержал бы наше плавание, заставил бы остановиться на каких-то отдельных чертах характера правителя или его эпохи, но профиль… по профилю можно скользить без препятствий и сколько угодно, а в образе скольжения мы всегда безошибочно узнаем почерк бытия, которое, как последний иерархический чин, скрепляет своей подписью любое событие текущей под его невидимым присмотром жизни, – вот почему все в мире движется в едином направлении, но бесконечная прямая, куда бы она ни отправлялась, рано или поздно замыкается на саму себя: таким образом описывается виртуальная окружность, которую мы никогда вполне физически не ощущаем, но помимо которой наш космос решительно не в состоянии вообразить.
В самом деле, и небесные тела, и само мироздание в целом мы не можем помыслить иначе, как по образу и подобию шара, – тем самым вполне удовлетворительно решается знаменитая антиномия конечности – бесконечности Универсума: ведь сколько бы ни скользить – уже мыслью, но никак не космическим кораблем – по краю космоса, никогда не натолкнешься на какой-нибудь предел, но само скольжение Мысли или Духа будет совершаться по какой-то окружности, означающей предел нашего мышления и знания на данный момент: диаметр гигантского шара, в котором мироздание и мысль человека о нем слились воедино, будет, очевидно, непрестанно увеличиваться, но принцип вряд ли изменится, – точно так же мы уезжаем, чтобы возвратиться домой, так Гете сказал насчет отпусков: перефразируя его мысль, можно заключить, что мы рождаемся, чтобы умереть, однако, строго говоря, мир, из которого вышел младенец, ничего общего не имеет с тем миром, куда, по всей вероятности, войдет старец, и если бы речь шла о чистом и последовательном возвращении к первоисточнику, то мы должны были бы, достигнув определенного возраста, возвращаться назад, как в известном романе Скотта Фицджеральда, то есть от старости в зрелость, оттуда в юность, дальше в детство, из детства в младенчество, и наконец в зародышевую клетку, а затем в чистое ничто: но мы все-таки уходим в старость и разве что, проделывая этот тысячу раз пройденный путь, обнаруживаем, что все, что мы осуществили в жизни, было не столько свободным творческим созиданием, сколько высвобождением того, что было заложено в нас с детства, как семя в растении, а это как раз и значит, что, уходя в старость, мы в каком-то очень глубоком и подспудном смысле возвращаемся в детство.
2. Перед зеркалом
Когда мы в зеркале подчас свой видим профиль,
соблазн в нас тонкий подымает круговерть,
и гордость шепчет в сердце, точно Мефистофель:
«Смотри так на себя и – и победишь ты смерть!»
И точно – в выгодном всегда представит свете
все наши мысли и поступки взгляд косой, —
так что по воздуху придется на рассвете
махать ожесточенно Женщине с Косой.
Когда же обратим в себя мы взор анфасный —
так в подсудимого вонзает взгляд судья:
прямой, суровый и отнюдь не беспристрастный —
то в нем любое человеческое Я,
кривляясь в пламени, мучительно сгорает,
хоть оправданье ищет, как в избе иглу, —
и лучшие частицы жизни собирает,
но видит в них одну истлевшую золу.
3